Книга: Геносказка
Назад: Гензель и Гретель, или Хозяйка Железного леса
Дальше: Америциевый ключ, или Злоключения Бруттино
Принцесса и семь цвергов
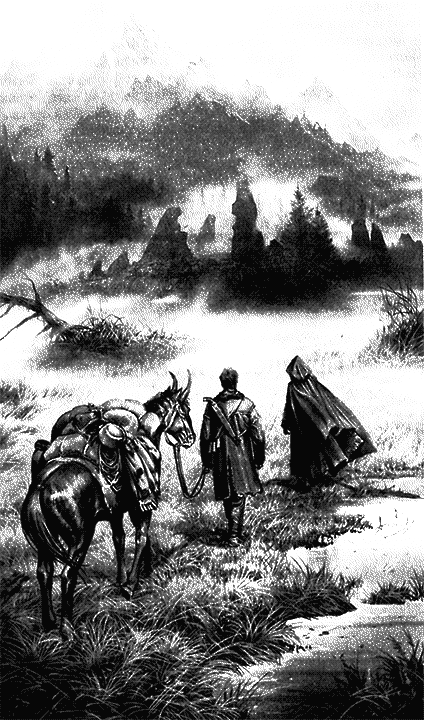
1
Слежка была организована ловко, этого Гензель не мог не признать.
Скорее всего, их незримо вели с того момента, как они вошли в город, от самых Русалочьих ворот. Гензель не сразу ощутил, что к привычному запаху Лаленбурга, запаху яблок, примешивается еще один — чужого внимания. И внимания, судя по всему, недоброго, пристального.
Мысль об уличных воришках Гензель отбросил сразу же. Одной его улыбки, полной акульих зубов, обычно хватало, чтобы отбить даже у самых дерзких желание интересоваться содержимым кошеля. Да и не станут обычные воры так себя утруждать — не их почерк.
Вели их аккуратно, умело, как опытный егерь ведет дичь, не показываясь на глаза, но не отрываясь от следа, выгадывая момент, когда можно будет настичь добычу и вскинуть ружье, чтоб выстрелить наверняка. Гензель не горел желанием служить для кого-то дичью, но и поделать ничего не мог. Оставалось лишь приглядываться к окружающему, делая вид, что беззаботно разглядывает рыночные ряды и прилавки.
Здесь было на что посмотреть. На дворе стояла поздняя осень, оттого прилавки Лаленбурга были завалены яблоками, великим множеством яблок. Красные, как артериальная кровь, зеленые, как весенний луг, желтые, точно начищенная золотая монета, или даже бесцветные — здесь можно было найти товар на любой вкус, из всех уголков королевства. Каждый год к середине осени Лаленбург превращался в одну огромную яблочную ярмарку, и товара зачастую было так много, что груды битых и гнилых яблок заполняли все городские канавы.
Иногда Гензелю казалось, что в этом городе не знают другой пищи, кроме яблок. Если ему не изменяла память, яблоко красовалось даже на гербе здешней королевской династии. Он любил яблоки, но уже через несколько минут дыхания воздухом, в котором яблочных испарений было ощутимо больше, чем любых других газов, ощутил легкое головокружение. После душистого степного воздуха, которым он дышал последние две недели, Лаленбург был серьезным вызовом его обонянию.
Впрочем, город хранил для гостей и иные ароматы. Чем дальше они с Гретель отходили от ворот, тем сильнее это ощущалось. Они миновали скотобойню (тяжелый запах застарелой крови), мастерские скорняков (едкий до тошноты аромат каких-то красителей) и углеводородную фабрику (оттуда отчего-то тянуло спиртом и чем-то кислым, как забродившее сусло). И сразу оказались в переплетении крошечных улочек и переулков Лаленбурга — настоящая паутина, сотканная гигантским пауком из осыпающихся блоков и позеленевших от времени бетонных плит.
Их по-прежнему вели, так же аккуратно и уверенно. Гензель даже не оглядывался, его чутье уже подняло свою заостренную акулью морду над поверхностью. Чутье говорило, что загонщики уже очень близко. Пользуясь несравненно лучшим знанием окрестностей, они постоянно находились рядом, но ни разу не показались на глаза. Хороший навык, прикинул Гензель. Выдающий крайне настойчивое желание встретиться. По его расчетам, встреча не должна была заставить себя ждать — через полста метров переулок, которым они шли, круто изгибался, а вокруг было множество подворотен самого заброшенного и зловещего вида. Если бы встречу планировал он сам, это место было бы со всех ракурсов идеальным для засады.
— Эй, сестрица! — окликнул он Гретель, шедшую на пару шагов впереди. Обычное дело — погруженная в собственные мысли, она не следила за скоростью шага, а шаг этот порой был не по-девичьи стремителен. — Постой-ка, не лети!
Она подняла на него свои прозрачные глаза:
— Что такое, братец?
— Похоже, кто-то жаждет с нами встретиться.
Кажется, это не произвело на нее никакого впечатления.
— Грабители? — только и спросила Гретель. Таким тоном, каким обычно осведомляются о том, не припустит ли к вечеру дождь.
— Едва ли. — Он покачал головой. — Слишком ловки. Вспомни, пожалуйста, нет ли у нас в Лаленбурге знакомых, коим не терпится с тобой поговорить?
Гретель пожала плечами, которые казались худыми и острыми даже под грубым мужским дублетом. Едва ли кто-то, кроме стражников при воротах, вообще распознал в ней женщину. Грубые потрескавшиеся ботфорты выглядели ничуть не элегантно, зато служили зримым доказательством многих отсчитанных миль. Да и потертый берет, под которым скрывались коротко остриженные волосы белого, как тополиный пух, цвета, не был верхом изящества. Даже двигалась Гретель не по-женски целеустремленно, резко, совершенно не пытаясь придать своим движениям грациозность. За спиной у нее висела бесформенная походная сумка из потрепанного брезента. Словом, совсем не тот тип девушки, на который позарилась бы охочая до женского общества лаленбургская чернь.
— Мы давно не были здесь, братец, — сказала она.
— Четыре года. Кто-то мог соскучиться. Приличный срок, а?
— Смотря для чего.
— Или для кого. Возможно, с тобой не терпится встретиться кому-то из старых клиентов с хорошей памятью? У тебя ведь, помнится, было много контрактов здесь?
— Все мои контракты выполнены. Претензий не было.
— Это Лаленбург, сестрица, — вздохнул Гензель. — Здешние деловые обычаи вполне допускают претензии, высказанные остывающему трупу.
— Ты уверен, что это не грабители?
— Уверен. Слишком уж терпеливы и хитры. Грабители выбирают цель возле ворот, но идут за ней не слишком долго. Чтобы полоснуть бритвой по шее и вырвать котомку, не надо много времени. А эти… Они ждут, пока мы углубимся в переулки. Видно, хотят потолковать обстоятельно и долго, без лишних свидетелей. Один идет позади нас, шагах в двадцати. Еще двое поджидают впереди, вон в той подворотне. Думаю, они собираются выглянуть из норы, как только мы окажемся рядом. Нас отрежут с двух сторон.
Гретель не выглядела обеспокоенной. Насколько Гензель ее знал, она вообще никогда не выглядела всерьез обеспокоенной, сохраняя на бледном лице выражение предельной сосредоточенности, что граничило с отрешенностью. Такая уж она, сестрица Гретель.
— Нас хотят убить? — буднично спросила она.
Подумав, он покачал головой:
— Это можно было бы сделать еще раньше, за фабрикой. Выстрел в спину — и поминай как звали. Там было вполне подходящее место. Но я думаю, они хотят чего-то другого.
— Тогда давай встретимся с ними, братец, и узнаем, чего они хотят.
Ему это не понравилось. На взгляд Гензеля, пустынные переулки Лаленбурга были не лучшим местом для встреч. Слишком уж часто на его памяти подобные встречи заканчивались самым прискорбным для одной из сторон образом. Но спорить с Гретель он не стал. Лишь понадеялся на то, что ее безмятежность имеет под собой надежную почву. Более основательную, чем уверенность в силах старшего брата.
Рука, однако, рефлекторно проверила висящий за правым плечом мушкет. Короткий, трехствольный, с укороченным до предела прикладом, он отлично подходил для узких улочек, однако даже батарея тяжелых картечниц не поможет тому, кто теряет бдительность. Колесцовые замки он завел и смазал еще до входа в город и теперь лишь убедился в том, что они не дадут осечки. Порох на полках сухой, стволы надежно забиты пыжами из промасленной бумаги. В двух стволах пули, в одном рубленая дробь. Хороший трактирщик всегда готовит блюда загодя — чтобы подошли аккурат к приходу гостей. А в том, что гости не заставят себя долго ждать, он уже не сомневался…
Они и в самом деле показались из подворотни, чутье не соврало. А негромкие, отраженные стенами звуки шагов за спиной подсказывали, что их встреча спланирована наилучшим образом.
«Человечество Извечное и Всеблагое! Дай нам, твоим увечным потомкам, силы и смелости да избавь от тяжести грехов наших и наших предков!» Краткую молитву Гензель вознес скорее по привычке, без должного почтения.
Как чувствовал, что не стоило возвращаться в Лаленбург, город тухлых яблок и генетической скверны!..
— Доброго дня, сударыня ведьма!
Сказано было без надлежащего уважения, скорее с насмешкой. От одного этого голоса Гензель ощутил, как дремлющий в его генетических цепочках хищник напрягся. Невидимые зубы едва заметно разомкнулись, обнажаясь в щербатой акульей усмешке. Такой голос не предвещал ничего доброго, ничего хорошего, ничего путного. Такой голос обещал неприятности. Может быть, больше неприятностей, чем он, Гензель, успеет отвести.
Эти двое были бы примечательной парой, но только не для Лаленбурга. Здесь можно было встретить и не такую компанию.
Первый был квартероном, это Гензель мгновенно определил по металлическому блеску браслета на руке. Цифру на браслете с такого расстояния не разобрать, но он готов был поставить половину своих зубов на то, что она не ниже двадцати. Как минимум двадцать процентов порченой крови, генетического сора. Слишком уж раздуто тело, слишком искажены человеческие пропорции.
«Да он похож на огородное пугало, — подумал Гензель, ощущая безмерную брезгливость. — Словно изнутри его набили сеном и тряпьем, да так, что едва не трескается…»
И в самом деле, кожа была растянута, а черты лица поплыли, словно их нарисовали краской на полотне, а само полотно потом натянули на излишне широкий холст. Здоровяк переминался с ноги на ногу и казался неуклюжим, но Гензель не собирался терять бдительности. В этом раздутом теле, судя по всему, скрывалась недюжинная сила, вон какие свисают бурдюки мышц… В блеклых и затертых, как старые пуговицы, глазах почти не угадывалось мысли, чувства, лишь концентрированная и едва сдерживаемая животная ярость. Не человек, а огромный ком плоти, причем плоти явственно агрессивной. Судя по тому, как подергивалось это чучело, как глухо ворчало, пачкая почти отсутствующий подбородок стекающей желтоватой слюной, оно не собиралось вступать в долгие и обременительные беседы.
Второй был мехосом. Это сперва удивило Гензеля — механические люди редко совались в квартеронские кварталы города. Слишком много тут грязи, угрожающей их смазанным сочленениям и фильтрам. Но этот, кажется, не боялся грязи. Он выглядел так, словно вообще ничего не боялся, и, надо сказать, имел для этого все основания.
Огромная, на голову выше Гензеля, металлическая туша, руки — стальные балки, торс — дредноут, укрытый броневыми пластинами, из-под которых свисают гроздья силовых кабелей, голова — литой бункер, разве что торчащих из глазниц орудийных стволов не хватает… Кое-где угадывались островки плоти, но ее было так мало, что она не составляла и процента от общей массы мехоса, лишь зоркий глаз мог заметить ее нездоровую желтизну в пробоинах корпуса.
Когда-то это существо было человеком, но было им так давно, что давно должно было забыть, что это такое. Что ж, подумалось Гензелю, некоторые выбирают и такой путь бегства от несовершенства плоти и генетических увечий. Замени свои мышцы гидравлическими поршнями, кожу броней, а внутренние органы грохочущими железяками, — но полностью от своей генетической сущности все равно не избавиться. Зато все в соответствии с церковными догматами, осуждающими любое вмешательство в генетический код.
Этот тип не был похож на монаха. И едва ли он оказался здесь, в глухой подворотне, по делам Церкви Человечества. По крайней мере, Гензель сомневался, что с подобными гидравлическими сухожилиями и лязгающими пальцами, способными раздавить в кулаке человеческую голову, удобно собирать милостыню или молиться за генетические грехи ныне живущих. Обладая подобным арсеналом, встроенным в тело, проще добывать хлеб насущный куда более простым и древним способом.
Глухая маска, когда-то бывшая человеческим лицом, не сохранила достаточно плоти, чтоб выражать эмоции, но в позе мехоса, в наклоне его головы, даже в равнодушном блеске тусклых объективов Гензелю почудилось сдерживаемое злорадство. И даже нечто сродни голоду, хотя едва ли этот гигант остался в состоянии употреблять обычную человеческую пищу.
Гретель не оскорбилась из-за «ведьмы». И испуганной не выглядела. На странную пару она смотрела совершенно равнодушно, как на самых обычных лаленбургских прохожих.
— И вы здравствуйте, судари, — сказала она спокойно, остановившись в трех-четырех шагах.
Гензель встал по левую сторону от нее. К мушкету он не прикасался, позволив тому висеть за плечом мертвым грузом, даже принял нарочито расслабленную позу. Не стоит заранее провоцировать того, кого собираешься в скором времени убить. А в том, что ему придется это сделать, он уже почти не сомневался. Слишком странная компания, слишком неподходящее место, слишком нехороший тон. Никто не ищет встречи с «сударыней ведьмой» в глухом месте, если не замышляет чего-то недоброго.
— Значит, узнали? — громыхнул мехос. Голос у него был не человеческим и не машинным, а чем-то средним — как будто кто-то наделил даром речи тяжелый металлургический станок. — Нам очень отрадно слышать это. Мы ведь имели счастье общаться с вами, сударыня ведьма. Пять лет назад, если память мне не изменяет.
— Четыре с половиной года, — кивнула Гретель, спокойно разглядывая собеседника. — Или немногим меньше.
— У вас, кажется, отличная память!
— Я всегда помню своих клиентов.
— Вот как… И что скажете про меня?
— Вы обратились ко мне за помощью. И вы ее получили. Контракт был выполнен. Насколько я понимаю, вы собираетесь выразить мне благодарность?
Мехос приблизился на шаг. Слишком резкое движение — брусчатка под его лапами прыснула в разные стороны мелкими каменными осколками.
— Благодарность? — проскрежетал он. Слова словно отделялись от глыбы грязного металла ржавым диском циркулярной пилы. — Пожалуй, можно сказать и так! Да, наверняка. Наша благодарность ждала несколько лет и уже немного залежалась! Мы уже думали, что вы никогда не вернетесь в Лаленбург. И тут, подумать только, такая счастливая новость! Не желаете ли потолковать с вашими благодарными клиентами?
Гензель почувствовал близкое присутствие третьего — того, что прежде таился за их спинами. Осторожно повернулся, чтобы рассмотреть нового противника, и скривился.
Мул. Конечно же. Вот отчего он так тихо крался, как не каждый человек сумеет. Генетическое отродье, чей фенотип обезображен более чем наполовину. Гензелю приходилось видеть самых разных мулов во всех частях света, включая и тех, чье родство с человеком было почти невозможно установить. Но ему пришлось признать, что этот мул был одним из самых отвратительных на его памяти.
Получеловек-полузверь, причудливое сочетание генетического мусора и порочных тканей. Нижнюю, часть тела вполне можно было принять за человеческую, разве что ноги выгнуты в другую сторону и украшены толстыми когтями. А верхняя… Наверно, так могло бы выглядеть существо, которое сумасшедший бог сперва слепил в виде человека, а потом решил превратить во льва, но так и не закончил работы.
Разросшаяся бочкообразная грудная клетка поросла жестким черным и желтым волосом, а конечности можно было назвать и руками, и лапами — сразу и не определишь, кому они принадлежат. Судя по тем же когтям — все-таки зверю. Но ужаснее всего была голова. На плечах у мула торчала несимметричная глыба в обрамлении свалявшейся и висящей грязными клочьями гривы. Вытянутая пасть, полная крупных желтых зубов, а над ней — абсолютно человеческие глаза, полные сдерживаемой, но уже не вполне человеческой злости. Человек-лев. Еще один член здешнего цирка уродов. И, надо думать, еще один недовольный покупатель, имеющий претензии к «сударыне ведьме».
Гензель беззвучно вздохнул, стараясь держаться вполоборота к третьему члену шайки. Так всегда заканчивается, когда возвращаешься в город, где давно не был и чью пыль давно стряхнул с подошв. Всегда — если путешествуешь в компании с геноведьмой. Добрую память о себе может оставить портной или печник, но только не тот, кто манипулирует живой материей, искажая ее по своему разумению. Вслед ему всегда будут нестись проклятия и слезы. Даже если уговор был выполнен самым честным образом. Гензель вздохнул еще раз. Особенно если уговор был выполнен самым честным образом.
— Не в моих правилах возвращаться к старым контрактам. — Гретель с полнейшим равнодушием разглядывала мехоса, который, судя по всему, был главным у этой троицы и выражал от себя ее волю. — Но если у вас есть претензии к моей работе, вы всегда можете обратиться в магистрат. Я буду в городе еще несколько дней.
Похожий на набитое чучело здоровяк глухо заворчал, роняя на мостовую хлопья слюны. Он явно не отличался острым умом, но холодный голос геноведьмы одним своим звучанием скверно на него действовал. Такие обычно и нападают первыми. Гензель хладнокровно наметил здоровяка первой целью.
— Нет, сударыня ведьма, — проскрипел мехос с уже нескрываемым злорадством. — В магистрат нам не с руки обращаться. Пусть там благородные господа заседают, которые не брезгают ручкаться с геноведьмами. Да, пусть они там заседают! А мы, извольте видеть, презренные мулы, у нас другой разговор. Мы так соображаем: если кто-то пообещал, но не дал, а деньги себе зажилил, с этого кого-то полагается спрос. По нашим меркам так выходит, сударыня ведьма.
Кого-то другого подобное замечание, особенно из уст такой компании, могло бы заставить напрячься. Но Гретель и бровью не повела. На странную троицу она, как и прежде, поглядывала совершенно равнодушно, как на досадное, но не представляющее никакого интереса препятствие.
В ее глазах они и были препятствием, понял Гензель. Одним из многих, которые заставляют терять время и вносить коррективы в планы. Геноведьмы не любят излишне навязчивых препятствий. И те из них, которых нельзя преодолеть, они зачастую попросту устраняют — с тем же равнодушием, с которым смахивают мошку со стекла объектива. А еще геноведьмы не умеют приносить извинений и совершенно чужды дипломатии.
Гензель прочистил горло.
— Шли бы вы себе, господа мулы, — сказал он, глядя в мутные глаза мехоса. — Сударыня геноведьма проделала сегодня длинный путь и порядком устала. Не навлекайте себе на голову больше неприятностей, чем сможете унести.
Человек-лев за спиной расхохотался. Вышло удивительно по-человечески, учитывая его полную зубов пасть.
— А ты кто таков, бродячая падаль? Телохранитель? Компаньон? — проревел он.
— Родственник, — кратко ответил Гензель.
— К тебе мы претензий не имеем. Ты не геномаг. Можешь катиться отсюда!
Гензель усмехнулся. На некоторых его усмешка действовала надлежащим образом. Но некоторые — как эти трое — переступили черту. Такие не отступают. Даже увидев человека с полным ртом треугольных акульих зубов.
— Разве это зубы? — расхохотался человек-лев, вокруг пасти которого клочьями повисла пена. — Я могу показать настоящие зубы! Смотри! Эти зубы отгрызут тебе голову быстрее, чем ты моргнешь!..
— Не обломал бы ты их… — пробормотал Гензель и покосился на Гретель: чего ждет?..
Гретель разглядывала странную компанию с прежним равнодушным видом. И Гензель чувствовал, как под взглядом ее прозрачных глаз все трое постепенно теряют уверенность. Они думали, что все будет проще. Проследить, окружить в подворотне, немного надавить — и вот уже «сударыня ведьма» рыдает и просит пощады. Если так, их ждало не самое приятное открытие.
Геноведьмы не испытывают страха. Как и жалости. И прочих человеческих чувств.
— Мой брат прав, у нас мало времени. Какие у вас претензии к моей работе?
— Вы не выполнили уговора! — рявкнул мехос так резко, что внутри него что-то задребезжало. Может, отошла какая-то деталь?.. — Вы не сделали того, за что мы заплатили вам!
— Я всегда выполняю уговор. Я даю людям то, чего они хотят. Если это не противоречит природе геномагии.
— Вы обманули нас! Вы думали, что уйдете от наказания, если сбежите из Лаленбурга? Не вышло! Мы ждали вас. Долго ждали. Вы сами пришли к своей плахе, сударыня ведьма!
— Я помню всех вас, — спокойно обронила Гретель. — У меня хорошая память. Конкретно вы хотели, помнится, настоящее сердце…
Мехос ударил себя в грудь. Будь она человеческой, ребра уже сломались бы, как рыбьи косточки. Но бронированная сталь легко выдержала удар. Такая, пожалуй, выдержит и попадание из мортиры…
— Да, дьявол вас раздери! Человеческое сердце! И я поклялся, что вырву из груди ваше — оно вполне мне подойдет!
— Вы слишком поздно обратились ко мне, — сказала Гретель, не выказывая ни сожаления, ни сочувствия. От ее безэмоционального голоса даже Гензель на какой-то миг ощутил себя неуютно. — Ваше тело страдает от излишней механизации, ваша система кровоснабжения редуцирована и почти уничтожена. Ни одно человеческое сердце не смогло бы функционировать, помести я его в вашу грудную клетку. Слишком много металла, слишком мало органики. Я дала вам кое-что другое.
— Вы дали мне чертов метроном! Он до сих пор отсчитывает удары в моей груди. Я слышу его стук! Но это не сердце. Не человеческое сердце! Я не могу чувствовать им, как чувствуют человеческим сердцем!
Другой человек на месте Гретель пожал бы плечами. Она не сделала и этого. За все время разговора она вообще не пошевелилась, не говоря уже о том, чтобы совершать какие-то жесты. С точки зрения геноведьмы, жесты — всего лишь бесцельный расход энергии. Пустая трата калорий.
— Больше я ничем не могу вам помочь, сударь лесоруб. Но мне показалось, что вы обратились ко мне не ради того, чтобы внутри вашего стального тела медленно некрозировал кусок бесполезной мышцы. Вы хотели вновь почувствовать себя человеком, ощутить давно забытый стук сердца. Я дала вам это.
Мехос зарычал, но Гретель уже повернулась к его соседу, раздувшемуся толстяку.
— И вас я помню. У вас была серьезно нарушена высшая нервная деятельность. Серьезная деградация головного мозга и низкий коэффициент умственного развития. Скорее всего, результат генетической болезни в вашем роду. Мне жаль, но геномагия была здесь бессильна. Нельзя научить думать то, что думать не способно. Даже за все деньги мира. Но я смогла помочь вам. Стабилизировать ситуацию.
— Вы вскрыли ему голову и засунули внутрь пучок иголок! — рыкнул мехос.
Толстяк быстро закивал, но, судя по его пустым глазам, он с трудом сознавал ход разговора. Присмотревшись, Гензель действительно заметил ровный розовый шов, разделяющий вдоль его покатый лоб — след давней трепанации.
— Не иголки. Стимуляторы нервных центров. Они гарантируют ему еще несколько лет почти полноценной нервной деятельности. Он не будет терять память, не превратится окончательно в овощ, останется способным ощущать хотя бы зачаточные эмоции. Если вы ожидали, что я дам ему новый мозг и он выйдет от меня мудрецом, то ваши ожидания были беспочвенными. Это не по силам даже геномагии.
На взгляд Гензеля, этот толстяк и так был овощем, чьего куцего сознания едва хватало для управления телом. Но в разговор он старался не вмешиваться. Это по части Гретель. Когда у нее закончатся слова, а у этих ребят — терпение, придет его черед выполнять свою часть работы.
— А я? — Человек-лев хотел было протянуть лапищу, чтоб схватить Гретель на плечо, но наткнулся на ее взгляд и отчего-то не решился сделать последний шаг. — Помнишь, что ты обещала мне, ведьма?
— Смелость. Я обещала вам смелость, сударь.
— Да! И где она, моя смелость? Где она, я спрашиваю?
Гретель коротко усмехнулась. Гензель знал, что ее усмешка — не вполне то же самое, что усмешка обычного человека. Не обычное, принятое в разговоре среди людей, напряжение мимических лиц. От улыбки геноведьмы непроизвольно хочется осенить себя священным знаком Двойной Спирали. Особенно жутко эта усмешка выглядит в сочетании с пустыми глазами, которые, кажется, смотрят сквозь собеседника, и ничего не выражающим, сродни маске, лицом.
Вы все не понимаете сути геномагии, — произнесла Гретель. — Оттого и просите того, что невозможно. Геномагия — способ воздействия на материю, но она не всесильна. Вы же ждете от нее чуда.
— Хватит болтать! Где моя смелость, ведьма?
— Смелость — не орган и не железа, которую можно пересадить. Я стимулировала ваши надпочечники для выработки большей дозы норадреналина, но дело не в нем. Едва ли вам нужна была смелость. Мне кажется, причина вашего беспокойства в другом. Вы слишком презираете физическое уродство своего тела, свои собственные генетические пороки. И смелость едва ли вам в этом поможет.
Человек-лев хлестнул себя хвостом по боку.
— Ты лжешь, ведьма! Ты украла наши деньги! Ты посмеялась над нами!
Он медленно надвигался на нее. По сравнению с хрупкой фигуркой Гретель этот мул казался огромным и несокрушимым. Одного удара его лапы должно было хватить, чтобы смять ее, раздавить, вбить в брусчатку. Но Гретель даже не попятилась. С прежним спокойствием стояла на месте, не делая и попытки отстраниться. Нечеловеческая выдержка. Выдержка настоящей ведьмы, подумалось Гензелю, человека, слишком глубоко погрузившегося в запретные тайны геномагии, чтобы интересоваться чем-то насущным и обыденным. Вроде сохранности своей головы.
Вот почему рядом с ней всегда должен находиться брат-защитник.
— Отойдите, — сказал он негромко, приподнимая мушкет. — Я, конечно, не геномаг, но кое-какие чудеса делать умею. Если вам не нравится то, что вы получили, я легко могу вышибить все, что вы получили, обратно. Только это будет немного больнее, чем при работе сударыни Гретель…
Какую-то секунду ему казалось, что это может сработать. Что эти трое, давно потерявшие человеческий облик, эти изуродованные дети грязного города вдруг одумаются. И отступятся. И что-то человеческое вдруг проклюнется сквозь их искаженную, полную генетической скверны оболочку. Но это длилось всего секунду.
— Взять ведьму! — проскрежетал мехос, расставляя огромные, гудящие гидравликой лапы. — Рви их!..
Им не было нужды распалять себя. Они уже были готовы, только ждали подходящего момента.
Гензелю приходилось слышать от бывалых воинов, что во время боя время растягивается, а каждая секунда превращается в минуту. Он сам ничего такого не испытывал. А то, что он испытывал, едва ли было кому-то знакомо.
Он просто ощутил, что хищник, плавающий в непроглядных черных глубинах его внутреннего моря, давно напрягшийся в ожидании добычи, поднялся к самой поверхности. Он чуял свежую кровь. Грязную, не вполне человеческую, но горячую и сытную. Этого было довольно.
Кровожадный хищник с гибким и сильным телом акулы. Хладнокровный и в то же время алчущий крови. Спокойный, как сама смерть. Гензель слишком долго сдерживал его. Пришло время дать ему свободу.
Человек-лев, стоявший за спиной Гензеля и Гретель, наверняка считал, что успеет первым. Что его лапа, вооруженная острейшими когтями, вскроет черепа наглецов, пока те таращатся на громыхающего мехоса. В конце концов, он тоже был хищником — опытным, бесшумным и очень ловким. Он знал: самая легкая добыча — та, что смотрит в другую сторону.
Возможно, он просто никогда не сталкивался с акулами. И не знал, что их холодные, как вечная ночь, и столь же равнодушные глаза могут смотреть в любую сторону.
Ствол мушкета крутанулся в руке Гензеля и вдруг уставился в живот мулу. На таком расстоянии не было нужды целиться, даже если стреляешь себе за спину. И Гензель не целился. Он знал, что попадет, еще до того, как курок колесцового замка, звонко клацнув, сработал. Механизм не подвел. Негромкий хлопок сгорающего на полке пороха — и сразу же мгновенно оглушающий грохот мушкета.
Живот человека-льва лопнул, как обивка старого дивана, только в глубине обнажились не ржавые пружины, а влажные комья внутренностей, часть из которых вперемешку с клочьями плоти и шерсти усеяла брусчатку. Возможно, среди них были и модифицированные надпочечники. Если так, человек-лев должен был окончательно утратить смелость. И он ее утратил.
Отшатнувшись к стене дома, мул взвыл, как-то фальшиво и удивительно тонко, и нелепым движением попытался прижать лапы к ране — словно затыкал дырявую трубу, из которой хлещет вода. Но воды уже было слишком много, и цвет у нее был грязно-алым, как дрянной яблочный сидр на здешнем рынке. Человек-лев завыл. Его огромные когти были созданы для того, чтобы впиваться в противника и разрывать его на части, но с удержанием собственных внутренностей справлялись куда хуже…
Гензель сразу же забыл про него, развернувшись к мехосу и его спутнику. У некоторых существ, наделенных в полной мере инстинктом самосохранения, зрелище умирающего товарища может вызвать потерю уверенности. Но эти двое лишь замешкались на пару секунд. Значит, не передумают.
Они бросились на него одновременно, в полном молчании.
Драка в подворотне не любит лишних звуков — угроз, проклятий, выкриков. Настоящие хищники могут скалиться и рычать, когда демонстрируют силу или вызывают противника на бой, но молчат, когда дело доходит до драки. И эти двое вовсе не были новичками, Гензель ощутил это сразу же.
Стальная туша мехоса казалась неуклюжей, лишь пока пребывала в неподвижности. В бою ее хорошо смазанные члены работали почти беззвучно, двигаясь с равномерной машинной грацией. Сошедший с ума многотонный станок летел на Гензеля, занося для удара сверкающую, как хирургический инструмент, руку. Любое существо, не успевшее убраться с ее дороги, превратилось бы в кровавую кашу на мостовой.
Главное было — отвлечь их внимание от Гретель. Кажется, ему вполне это удалось — едва прогремел выстрел, как оба противника забыли про беловолосую ведьму, решив в первую очередь уничтожить ее зубастого защитника. Естественный инстинкт. Его собственные акульи инстинкты диктовали ему совсем иное. Ничего удивительного. Если верить Гретель, инстинкты эти были сформированы в ту доисторическую эпоху, когда священный человеческий геном еще не появился на свет. Увернуться от удара просто лишь в том бою, в котором сам выступаешь зрителем. Хорошо поставленный и грамотный удар точен и быстр настолько, что избежать его дьявольски сложно. А удар мехоса был и поставленным, и грамотным. Стонущая от натуги гидравлика придала его огромным рукам силу, достаточную, чтобы проломить стену дома.
От первого Гензель увернулся лишь чудом, ощутив, как прогудел возле лица многокилограммовый стальной кулак размером с его собственную голову. На миг он ощутил запах смазки, но почти тотчас аромат разлитой по переулку крови затопил его без остатка, смывая все прочие запахи.
Запах крови. Вкус крови. Теплая красная жижа, растворенная вокруг…
Стремительный и грациозный танец хищного стремительного тела в сладком алом облаке.
Акула довольно осклабилась. Она понимала в этом толк. И любила, когда жертва беспомощно трепыхается, совершая множество напрасных движений. Иногда жертва сама не понимает, когда борьба превращается в агонию…
Второй удар прокатился бесконечно высоко над Гензелем. Третий ушел далеко вправо. Четвертый не достал до него полметра. Сочленения мехоса лязгали, когда он пытался двигаться быстрее Гензеля, лязг этот был грозным и яростным, как шум танковых гусениц, давящих бруствер траншеи. Но сам по себе этот лязг не был опасен. Гензель двигался быстро и стремительно, как двигается рожденный в воде хищник, беззвучно скользил, не позволяя себе ни секунды оставаться в одном положении.
Иногда акулы не сразу убивают свою добычу. Даже опьяненные кровью, они ценят азарт настоящей схватки…
Промахнувшись несколько раз, лишенный сердца мехос взревел и принялся колотить обеими руками сразу. Размеренные удары сменились настоящим градом. От стены отлетали куски камня, звенели каскады выбитого стекла, брусчатка волнами прыскала в стороны. Водопроводные трубы, которые задевал мехос, раскалывались подобно стеблям тростника. Ржавые оконные решетки превращались в искореженное переплетение прутьев. Не прошло и десяти секунд, как переулок уже выглядел так, словно его засыпала снарядами тяжелая осадная артиллерия.
Иногда трепыхающаяся жертва делает слишком много лишних движений.
Раздутый толстяк оказался не так уж и глуп, как сперва казался. По крайней мере, ему хватило ума обойти Гензеля сзади и попытаться сграбастать его своими огромными мясистыми руками. Даже в бою лицо его выглядело бессмысленным и пустым — не человек, а биологический механизм, подчиненный единственному приказу. Гензель позволил ему приблизиться — чем дальше от Гретель, тем лучше — и даже схватить себя за плечо.
Хватка была сильнейшей: точно капкан впился. Еще мгновение — и пригвозженного к земле Гензеля настигнет стальной кулак его механического компаньона, расплескав по всему переулку содержимое черепа. Мехос уже занес свою руку-наковальню, готовый обрушить ее. В этот раз он уже не должен был промахнуться.
Расплывшееся чудовище, схватившее Гензеля, довольно заурчало, но насладиться успехом не успело: увидело перед лицом его улыбку, ощетинившуюся десятками акульих зубов.
Гензель извернулся и впился в сдавившую его плечо руку. В рот хлынуло горячее и сладкое, под зубами захрустели, лопаясь подобно старым трухлявым веткам, кости. Упоительное, неповторимое ощущение…
Мозг толстяка был действительно неразвит. Даже боли потребовалась секунда или две, чтобы отыскать верный путь к уцелевшим нервным центрам. Страшилище удивленно уставилось на обрубок своей руки, больше похожий на мясную кость, побывавшую в зубах у своры уличных псов. Осколки костей перемешались с разодранным мясом, на брусчатке стремительно расширялась темная лужа удивительно округлой формы. То, что когда-то было его кистью, шлепнулось беззвучно в пыль. Толстяк зачарованно уставился на руку, на миг показалось, что его пустое лицо озарится какой-то пробившейся на поверхность мыслью, что какой-то импульс, молнией резанувший мозг, сможет поколебать этот застоявшийся пруд. Но лицо расплывшегося мула практически не изменилось, лишь округлились в немом удивлении глаза. Должно быть, впервые в его жизни произошло что-то такое, чего он не понимал.
А спустя еще половину секунды его лицо действительно изменилось — когда кулак мехоса, разогнавшийся так, что вокруг него гудел воздух, разминувшись с Гензелем, врезался толстяку в голову.
Раздался громкий хруст, какой бывает, если наступить каблуком на подгнивший орех. И сходство не ограничивалось одним лишь звуком — голова толстяка лопнула, расколовшись на части, толстенные кости черепа разошлись, обнажив серую мякоть мозга, деформированные зубы неправильной формы и зазубренный остов позвоночника. Один глаз треснул в глазнице, мгновенно став черно-багровым, другой вовсе пропал.
Этот удар, размозживший голову толстяка, на месте уничтожил бы любое живое существо. Но силы генетической скверны, спрятанные в его изуродованном теле, были воистину всемогущи. Рваные лохмотья губ, свисавшие из изломанной челюсти, вдруг шевельнулись. Черно-багровый глаз затрепетал в глазнице. Мул издал нечленораздельный звук и зашатался, но не упал. Это было жуткое зрелище. Практически обезглавленный, он дергался, шатаясь из стороны в сторону, и тянул к своей расколотой голове руки — уцелевшую и культю, — словно пытаясь соединить обратно лопнувшие кости.
Невероятная живучесть за пределами человеческой природы. Далеко за ними.
Но Гензель на него уже не смотрел — толстяк вышел из боя и больше не представлял опасности. А значит, следовало сосредоточиться на последнем противнике.
Мехос исторг из своей стальной груди поток ругательств, слишком сумбурно и нечетко, чтобы Гензель смог их оценить. Гигант, желавший иметь человеческое сердце, на миг опешил, увидев, как его приятель бесцельно бредет по переулку, раскачиваясь как пьяный и пытаясь удержать на плечах расползающуюся бесформенную кучу, прежде бывшую головой. Там, где толстяк задевал еще державшиеся стены, на камне оставались алые, серые и багровые мазки, кое-где на водосточных трубах оставались висеть куски скальпа.
Будь мехос хладнокровнее, не задержись он с атакой, возможно, ему удалось бы прожить на несколько секунд дольше. Но, видимо, что бы ни говорила Гретель, под прочной броней осталось слишком много человеческого.
Воспользовавшись его замешательством, Гензель одним длинным и резким шагом оказался почти вплотную. Бронированные пластины бывшего лесоруба, издалека выглядевшие весьма пристойно, вблизи производили заметно худшее впечатление. Давно не полированные, местами покрытые рыжими пятнами ржавчины, они свидетельствовали о том, что хозяину давно не по карману было ухаживать за ними должным образом. Даже металл, который в сто раз прочнее человеческой плоти, требует ухода.
Кое-где на бронированном теле красовались металлические заплаты и следы ремонта, в других же местах на броне, давно не знавшей пощады, образовались трещины, зазоры и отверстия.
Даже в сверхпрочной шкуре можно найти уязвимое место.
Последний удар мехоса был неуклюж и почти не опасен. Гензель легко пропустил его над головой и, качнувшись, коротким движением вогнал мушкет в проржавевший бок гиганта. В снопе искр стволы погрузились во внутренности мехоса, точно пика, всаженная под ребра огромному быку. Наружу торчал лишь укороченный приклад.
Гензель одновременно спустил оба взведенных курка.
В последнюю секунду перед выстрелом Гензелю показалось, что за скрежетом, шипением и треском большого тела он слышит размеренные ритмичные удары под металлической обшивкой. Точно там и в самом деле работал крошечный метроном…
Громыхнуло так, точно в огромном жестяном тазу взорвалась пороховая граната. С крыш посыпалась крошка глиняной черепицы, зазвенели каскады стеклянных осколков, ссыпаясь из оконных проемов.
Торс стального гиганта дрогнул и навалился на стену, отчего та опасно затрещала. Из щелей, прорех и отверстий, медленно сплетаясь в смоляные косы, потянулись струйки дыма. Мехос выгнулся, заскрежетал, литая голова-шлем стала быстро подергиваться. Гензель на всякий случай проворно отскочил в сторону. Правы старые охотники, умирающая добыча — самая опасная.
Мехос и в самом деле занес огромную руку, которая теперь двигалась неуверенно, рывками. Но вместо того чтобы ударить Гензеля, он помедлил и с оглушающим звоном вдруг ударил себя в грудь-кирасу. Еще один удар. Еще. Дымящийся мехос ворочался, скрипел, дергал головой и раз за разом наносил себе сокрушительные удары. Точно пытался проделать отверстие в своем прочном панцире, чтоб выпустить наружу мучающую его боль. Из зарешеченного отверстия рта доносилось утробное хриплое подвывание вперемешку с шипением — ни дать ни взять кто-то медленно сгорал в раскаленном чреве медного быка…
Гензель наблюдал за ним, сжимая в опущенной руке разряженный мушкет.
Седьмой или восьмой удар оказался последним. Панцирь мехоса заскрежетал и развалился на две неровные части. Из проломов пыхнуло зловонным дымом, вонью горелой изоляции и паленого мяса. Затрещало пламя, кое-где оно прорывалось наружу деловито гудящими оранжевыми языками. Судя по всему, внутри мехоса бушевал пожар.
Когда броневые пластины разошлись, вниз стали хлестать потоки прозрачного, резко пахнущего физраствора пополам с кипящим маслом и быстро сворачивающейся кровью. Потом в быстро образовавшуюся лужу стали шлепаться и шипеть в ней объятые огнем детали и внутренности. Некоторые из них плавились, на глазах превращаясь в бесформенные комки пластика, другие еще долго полыхали, стреляя во все стороны искрами.
Гензель увидел, как глубоко внутри развороченного и чадящего корпуса ворочается что-то скользкое, состоящее из хрящей и влажно блестящих тканей, похожее на человеческий зародыш. Оно дергалось, как птенец, пытающийся выбраться из горящего гнезда. И у него в конце концов это получилось. Комок плоти шлепнулся в лужу из масла, физраствора и крови, полную оплавленных фрагментов, и беспомощно забился в ней, рядом со своей вскрытой неуязвимой оболочкой, привалившейся к зданию застывшей и уродливой статуей. Метроном больше не стучал.
Гензель повернулся к Гретель, и его горящие от пережитого напряжения мышцы вдруг безотчетно сжались для рывка. Гретель была не одна. К ней медленно полз получеловек-полулев с выпотрошенным животом.
Он хрипел, на зубах пузырилась багровая иена, а след, остающийся за ним на камне, казался пунктиром, нарисованным на карте самого ада. Сила ненависти победила и боль, и инстинкт самосохранения. Мул не отрывал по-животному горящего взгляда от Гретель, клыки его щелкали, когти скрежетали по брусчатке. Он не обращал внимания на расплетающиеся клубки собственных внутренностей, на скользкую от крови поверхность, на самого Гензеля, застывшего с разряженным мушкетом в руках. Он видел только Гретель и чувствовал лишь желание вонзить в нее зубы. Даже на пороге смерти это порождение генетических мутаций не собиралось сдаваться. Какой же силой должна обладать ненависть, чтобы суметь тащить вперед умирающее и непослушное тело?..
Гензель собирался подскочить к человеку-льву и раздробить ему затылок стволом мушкета, но Гретель вдруг встретила глазами его взгляд и едва заметно качнула головой. Очень трудно прочитать выражение глаз, прозрачных, как кристаллы хрусталя в горной реке. Иногда кажется, что это вовсе не возможно. Но Гензель вдруг увидел в этих глазах грусть. И остался без движения.
— Вот видите, сударь, сделка была честной, — сказала Гретель, обращаясь к хрипящему животному, тщетно щелкающему челюстями. — Пусть я и ведьма, но я честно выполнила уговор. Ваша кровь кипит от гормонов. Только вот ее остается все меньше и меньше, но это уже не моя вина.
Человек-лев скользнул по ней безумным взглядом. Он даже не попытался ответить. Непонятно было, слышал ли он вообще Гретель. Его огромное тело, поросшее шерстью, агонизировало, мышцы напрягались и опадали. Но он все-таки полз вперед. Умирающий, полный чистой, как слеза альва, ненавистью, он торопился свести счеты с той, кого считал своим врагом. Гензель вздохнул. Под ребра изнутри мягко толкнуло какое-то чувство, похожее на уважение. Даже хищники умеют уважать чужое упорство и бесстрашие.
Гретель убрала со лба несколько коротких белых прядей, как часто делала в минуты задумчивости. Таких минут в ее жизни было много, может, поэтому, как подшучивал Гензель, она нарочно не отпускала длинных волос — чтобы иметь возможность их теребить.
— Вы могли жить, сударь, но вы попросили у ведьмы то, что вас погубило. Кто же из нас виноват?
Она не очень долго ждала ответа. Человек-лев рявкнул и попытался схватить зубами ее ногу. Если бы ему это удалось, ступня Гретель мгновенно превратилась бы в кашу из раздробленных костей, не помог бы и толстый кожаный ботфорт. Но она проворно убрала ногу.
Многие люди считали Гретель отрешенной и слишком задумчивой. Живущей в ином, невидимом мире и слабо реагирующей на внешние раздражители. И многие потом об этом жалели.
— В этом все люди, — задумчиво сказала Гретель, и уже непонятно было, обращается она к хрипящему от ненависти человеку-льву, к Гензелю, к самой себе — или же вовсе ни к кому из перечисленных. — Они отчаянно требуют у ведьмы чуда, не желая слышать предупреждений и оговорок. Они упрямо хотят невозможного и уверены в том, что геномагия вправе им его дать. Увы, иногда они получают то, чего просят. И неминуемо уничтожают себя.
Человек-лев стал задыхаться. Легкие его клокотали, как кузнечные мехи, в которые попала влага, из пасти высунулся длинный алый язык, покрытый кровавой пеной. Но взгляд оставался прежним, черным от ненависти, жгучим, тяжелым. Существа с таким взглядом не отступаются. Наверно, Гретель тоже наконец это поняла.
— Не принимайте подарков от ведьмы, если не уверены, чего на самом деле желаете, — сказала она, запуская тонкую бледную руку за пояс короткого, по мужской моде, дублета. — И, может, тогда геномагия будет милостива к вам…
В руке ее появилась крохотная склянка, прозрачная и невесомая. Но Гензель все равно напрягся. Слишком уж часто он видел, как капля какого-то совсем безобидного на вид зелья творила с людьми и вещами страшные вещи, подчас не подчиняющиеся осознанию.
Но в этот раз ничего откровенно жуткого не произошло, когда Гретель щелчком открыла склянку — и опорожнила ее на умирающего мула. Небо над Лаленбургом осталось его прежнего цвета несвежей мертвой рыбины, гром не грянул, молнии не сверкнули. Но мул вдруг почти мгновенно затих, словно оглушенный тяжелой дубиной между глаз. Он еще пытался рычать, тщетно напрягал мускулы, ворочался, но тело его стало обмякать, набухшие мышечные волокна под шкурой разглаживались, конечности цепенели. Еще несколько секунд — и кипящие ненавистью глаза затуманились, потеряли блеск, стали большими черными жемчужинами, запотевшими от чьего-то дыхания.
— Не очень-то эффектно, сударыня ведьма, — заметил Гензель, подходя поближе, чтобы рассмотреть мертвую тушу получеловека-полузверя. Даже распластанная посреди мостовой, она все еще выглядела угрожающе. — Я думал, ты сделаешь что-то более жуткое. Например, превратишь его в лягушку.
Гретель не торопясь спрятала склянку.
— Сколько раз тебе повторять, братец, я не занимаюсь ярмарочными фокусами.
Гензель поморщился и несколько раз сплюнул на брусчатку, чтобы избавиться от неприятного привкуса чужой крови на губах. Кровь толстяка отдавала чем-то зловонным и приторным.
— Я помню одного наглого парня в Муспелльхейме, которого ты превратила в лилипута. Его еще сожрали чертовы гуси…
— То был другой случай, — спокойно ответила Гретель, поправляя берет. — Этот заслужил безболезненную смерть. Всего лишь нейропарализующий токсин. Мгновенный паралич нервной ткани.
Гензель поморщился, как делал всегда, слыша непонятные и грозные слова из лексикона геномагов. Сам он на дух не выносил таких словечек, даже если их произносила сестра своим тонким голоском. Они всегда казались ему зловещими и какими-то пророческими. Как запах разложения, сопутствующий чумным покойникам.
— Мне плевать, от чего он дух отдал, хоть от простуды. Давай-ка, сестрица, побыстрее делать из этого местечка ноги. Насколько я помню, Лаленбург печально славится тремя вещами — самыми старыми шлюхами на всем континенте, самым гадостным вином и самой проворной городской стражей. И если с первыми двумя я познакомился в достаточной мере, от третьей предпочел бы уклониться…
Гретель фыркнула — как всегда, когда Гензель пытался продемонстрировать лоск высокой речи. Видимо, она находила его попытки говорить аристократическим языком по-детски наивными и неуклюжими. Что ж, каждый в своем нраве… Не пытается же она заставить его полюбить гадостные словечки геномагов!..
— Пора уходить, — согласно кивнула Гретель. — Этот город не любит геноведьм.
— Кто бы мог подумать? Мы в городе неполный час, а тебя пытались убить уже трое. Знаешь, я бы хотел уточнить одну деталь… Насколько богатой у тебя была здесь практика четыре года назад, сестрица?
— Ты же знаешь, Гензель, я не обсуждаю своих контрактов.
— Да, даже с братом. Но это чисто деловой вопрос. Я хочу прикинуть — сколько еще человек попытается перерезать нам горло, прежде чем мы доберемся до постоялого двора. И в чем еще ты здесь упражнялась? Давала ли людям ядовитые зубы и крылья? Может, превращала людей в трехметровых ящеров? Наделяла убийственным взглядом?..
Гретель взглянула на него и вдруг улыбнулась. Ее бледное и худощавое лицо в сочетании с холодными и ясными глазами не сочеталось с улыбкой, как не может сочетаться лед с огнем, но когда она улыбалась, Гензель всегда хмыкал в ответ. Не мог удержаться.
— Эх, братец… От деда тебе достались акульи зубы. Я изучила твою генетическую карту вдоль и поперек, но так и не поняла, от кого из нашей родни ты получил язык попугая!
— Ехидна! — фыркнул Гензель и уже собирался было схватить Гретель за рукав, чтобы утянуть в первый же переулок, когда понял, что дело в общем-то пропащее.
Об этом ему сказала мостовая. Булыжники под ногами, собранные, обтесанные и выложенные кем-то десятки, а то и сотни лет назад, противнейшим образом завибрировали под пятками. Означать это могло лишь одно. По крайней мере, в Лаленбурге.
— Бежим! — крикнул он.
Гретель побежала за ним. В таких вопросах она целиком и полностью полагалась на его чутье. А чутье говорило ему, что на запах свежей крови иногда слетаются не только акулы, но и рыбки поменьше. Но тоже очень голодные и злые. Как их там называют?..
Камень вибрировал все сильнее. Гензель потянул было Гретель в переулок, но тотчас отскочил назад — по переулку к ним приближалась звенящая серая стена. Другой! И здесь тоже. Третий!..
Оттолкнувшись от стены, Гензель свернул за угол — и едва не врезался в глыбу серой стали. Глыба эта каким-то образом передвигалась и, не будь его рефлексы достаточно быстры, уже сломала бы ему полдюжины ребер. Глыба была человекоподобной формы, имела руки и ноги, а на груди — там, где у человека была бы грудь, — имела облупившееся изображение лаленбургского герба: изящно надкусанное яблоко и три скрещенные стрелы.
Глыб этих вокруг Гензеля и Гретель становилось все больше. Они выскакивали из переулков и замирали, звеня железом. Железо это было плохим, опасным — отточенные до желтизны короткие палаши, свернутые кнуты из шипастой проволоки, чеканы и булавы. Что ж, эти судари, похоже, знают, чем сподручнее всего орудовать в узких переулках… Гензель ощутил колючую, как крапива, досаду — не успел взвести курков, не насыпал пороху… Но разум, пробившийся сквозь дремлющее у поверхности чутье вечно голодной акулы, подсказал ему, что хвататься за мушкет в такой ситуации — последнее дело. Разорвут мгновенно, как свора натасканных охотничьих псов.
Стражники окружили их деловито и очень уверенно. Крепкие ребята. Кирасы не из легированной стали, но начищены и блестят на солнце. Руки не дрожат. На лицах, где те не прикрыты забралами, — спокойствие, холодное, как рукоять кинжала, выпавшего из руки мертвеца.
— Мушкет опустить, сударь. И лучше не рыпайтесь, не прыгайте. Дело тут государственное, как вы видите. Ваша работа?
Гензель на всякий случай оглянулся, хотя и так представлял, что увидит в подворотне.
К стене привалилась статуя стального рыцаря, лопнувшая в груди, искореженная, как будто по ней стреляли шрапнелью, мертвая. В луже перед ней барахтался, уже затихая, кровоточащий человеческий комок. Неподалеку от него все еще шатался почти обезглавленный толстяк, бессмысленно шевеля уцелевшей рукой, с его плеч на мостовую медленно сползали мозговые сгустки и бледные пластины лопнувшего черепа вперемешку с лоскутами кожи. У стены лежал человек-лев, вытянув лапы в той позе, в которой смерть милосердно стерла его сознание. Мертвый, но до сих пор угрожающий, свирепый даже в смерти.
Гензель мысленно поморщился. Милая, должно быть, картина. Были бы стражники не так выдержанны — уже разрядили бы в них с Гретель свои жуткие короткие тромблоны, начиненные наверняка рубленой картечью, одним из самых популярных блюд в Лаленбурге после яблок.
— Славная бойня, — пробормотал капитан стражи, хмурый мужчина с тяжелым давящим взглядом. Однако взгляд этот умел перемещаться со скоростью порхающего лезвия шпаги. Он скользнул по трупам, по Гензелю и Гретель, по браслетам на их руках. — Квартероны, значит? Рекомендую вам назваться и сообщить цель прибытия в славный город Лаленбург. Пока не вышло чего-нибудь дурного.
— Гензель. Квартерон. Сопровождаю сестру.
— Гретель. Квартерон. Геномастер. В Лаленбурге нахожусь по делам частной практики.
Гретель подала капитану свой патент, истертую бумагу с множеством поплывших от старости печатей. Ее капитан изучал долго, неспешно переводя взгляд со строки на строку.
— Геномагичка, значит, — сказал он, возвращая документ. — Ну понятно. Редкие гости пожаловали нынче. Значит, не успели прибыть, а уже королевских подданных калечите? Интересная же у вас частная практика… А теперь, судари квартероны, извольте следовать за мной. И ружьишко отдайте на всякий случай. Бежать не советую. Глупостей делать тоже не советую.
По едва заметному жесту капитана стражники выстроились вокруг Гензеля и Гретель. Чувствовалось, что этот маневр они выполняют не впервые и уже успели набраться должного опыта. Гензель, которого ловко и быстро обезоружили, кисло подумал о том, что делать глупости действительно расхотелось.
— Ну и куда теперь? — спросил он с нарочитым безразличием. — В каталажку?
В лаленбургской каталажке ему еще бывать не приходилось, но он сомневался в том, что здешние застенки сильно разнятся от прочих. Вонь пригоревшей каши на прогорклом жиру и человеческих испражнений, отчаянный смрад сотен немытых тел, клочья давно изгнившей скользкой соломы на каменном полу… Все каталажки мира похожи друг на друга, как клоны от одного генетического семени. От каталажки Лаленбурга Гензель чудес не ожидал.
— Нет, — буркнул капитан стражи, и губы его дрогнули, что могло обозначать улыбку. — В королевский дворец.
2
Гензель никогда прежде не был во дворцах. Сопровождая Гретель, ему приходилось посещать особняки аристократии и духовенства, были среди этих особняков и весьма претенциозные образцы архитектуры, но чтобы дворец…
Камень и металл — вот было первое впечатление от дворца. Очень много камня и металла. Огромные мраморные лестницы, бледные нездоровой чахоточной белизной, величественные арки, украшенные переливающимися золотыми лозами, которые никогда не дадут плодов, вытянувшиеся анфилады, альковы и целые галереи… Дворец был огромен, и у Гензеля спирало дух, когда он запрокидывал голову и видел его своды, парящие на невероятной высоте. А может, все дело было в здешнем воздухе. Какой-то особенный, должно быть, дворцовый воздух, вроде и не ароматизирован никакими искусственными ароматами, а дышится как-то необычно…
Их не сразу впустили во внутренние покои. Сперва пришлось пройти обыденную для посетителей дворца очистку — их тщательно вымыли в специальных кабинках струями воды, пара и ионизированного воздуха, а одежду пропустили через обеззараживающую машину, отчего та стала горячей и липкой. Разумная мера предосторожности. Учитывая, сколько дряни находится в лаленбургском воздухе и воде, не дело коронованным особам рисковать своим здоровьем.
Повсюду — на чеканных рамах огромных зеркал, на резных панелях, даже на медных дверных ручках — красовался герб правящей лаленбургской династии: надкусанное яблоко и три скрещенные стрелы. Лаленбургский герб всегда казался Гензелю неказистым и в некотором смысле недостаточно величественным, но здесь его продублированный тысячи раз облик отчего-то внушал должное уважение. Даже завораживал.
Хоть Гензель и отказывался признаваться себе в этом, атмосфера дворца подавляла его. Он чувствовал себя побирушкой, оказавшимся в богатом доме, неуклюжим, нелепым, оборванным и совершенно неуместным — как бородавка на носу епископа. Отчаянно хотелось вынырнуть обратно на улицу и набрать в легкие воздуха, полного зловонных миазмов, промышленной пыли, бактерий, но все-таки способного насыщать организм. Дворцовый воздух с каждым шагом казался ему все более густым, тягучим и приторным. Точно пьешь патоку вместо чистой воды.
Еще одной причиной для беспокойства была дворцовая стража, которой Гензеля и Гретель передал капитан сразу же при входе во внутренние покои. Новые конвоиры и в самом деле могли вызвать беспокойство одним лишь своим внешним видом. Они были детьми. Но такими детьми, один взгляд на которых заставлял сердце Гензеля нарушать привычный ритм.
У них были младенческие головы, розовощекие, со вздернутыми носами, ясными глазами и губами того невозможно-алого оттенка, которым окрашивают на картинах свежие лепестки лилии. Только венчали эти головы юных херувимов не детские тела, а нечто совсем иное. Могучие атлетические торсы были по-своему идеальны, под гладкой кожей переливались мощные мышцы, пропорционально сложенные и блестящие. Бархатные ливреи королевских лакеев почти не скрывали этого великолепия, напротив, подчеркивали.
Силачи с головами младенцев сопровождали Гензеля и Гретель почти в полном молчании, лишь изредка перебрасываясь отрывистыми птичьими трелями на своем языке. Несмотря на ясность детских глаз, они не выглядели существами, наделенными сознанием, скорее бездушными биологическими особями, выполняющими сложную, но привычную программу. И Гензель не сомневался в том, что стоит им услышать сигнал тревоги, как «херувимы» превратятся в безрассудные карающие мечи. Слыша за спиной шаги этих биологических химер, Гензель ощутимо нервничал. То, что наверняка в глазах Гретель было генетическим чудом, сотворенным специалистом своего дела, ему казалось гротескным и жутковатым произведением безумного искусства.
Были во дворце и прочие обитатели, чей облик указывал на близкое знакомство с геномагией. Уборщики, бесшумно снующие в темных коридорах, были похожи на пауков — крошечные тела и тонкие длинные члены, находящиеся в постоянном движении. Пажи, жизнерадостно резвящиеся у фонтана, издали казались детьми, но лица у них были морщинистыми, оплывшими, и Гензель догадался, что это престарелые карлики, которых геномагия заставила до самой смерти оставаться в детском обличье. Повар, мелькнувший в боковом проходе, казался огромной уродливой птицей — его огромный нос тянул голову вниз. С таким носом, пожалуй, непросто жить, зато можно улавливать тончайшие кухонные ароматы. Дворцовой вентиляцией занимались люди-змеи, чьи вытянутые тела со множеством крошечных отростков-щупалец временами можно было разглядеть за декоративными решетками.
Но больше всего поразили Гензеля придворные гетеры, которых они случайно обнаружили в одном из роскошно отделанных альковов. Сперва Гензель принял их за придворных дам, но даже без подсказки Гретель быстро понял разницу. Тела их были не просто стройны, они были гипертрофированны — словно их породила не природа, а мужская фантазия самого раскованного свойства. Огромные груди казались налившимися до предела ягодами, такими тугими, что могут лопнуть, если коснуться их пальцем. Талии были невозможно стройны, настолько, что каждую можно было обхватить ладонями. В таком объеме не могут умещаться человеческие органы, но девицы выглядели вполне живыми, даже жизнерадостными. Они хихикали, провожая Гензеля кокетливыми взглядами и прикрываясь веерами. Лица их тоже были прекрасны — огромные глаза, чувственные, тоже непомерно большие, губы, пышные прически. Кроме того, он готов был поклясться, что поры дворцовых красавиц вместо сернокислых соединений, калия и продуктов белкового обмена источают чистейшие благовонные масла.
Но Гензель ощутил под сердцем мимолетный холодок, едва представив себе свидание с такими красотками. Они тоже были лишь внутренней обстановкой дворца, искусственно порожденными генетическими куклами, в которых человеческого не больше, чем в гипертрофированных младенцах-херувимах.
— О Человечество… — вздохнул Гензель, надеясь, что их конвоиры не слишком разбирают обычную речь. — Этот дворец все больше напоминает мне какой-то генетический паноптикум. Даже на прошлой ярмарке я не видел такого сборища чудовищ!
— Аристократический шик, — невозмутимо отозвалась Гретель, на которую, кажется, не произвел особого впечатления ни королевский дворец, ни его причудливые обитатели. — Ничего удивительного. У тебя, как и у всякого квартерона, просто отсутствуют гены хорошего вкуса.
Гензель нахмурился. Иногда колкие замечания Гретель могли выглядеть удивительно по-человечески.
— Они… слишком извращены геномагией, — пробормотал он, машинально понижая голос, так чтобы не услышали вооруженные херувимы, молча шагающие за ними. — Мне казалось, человек, свободный от генетической порчи, не станет окружать себя подобными… существами.
— Почему?
И вновь бесхитростный вопрос геноведьмы выбил его из колеи. Гретель превосходно владела подобным умением — смущать самыми простыми вопросами.
— Он — человек. — Даже произнося эту очевидную вещь, Гензель с опаской покосился на дворцовые своды. — Хранитель благословенного и неизменного человеческого генокода.
Может, прозвучало излишне благоговейно, но тут уж Гензель ничего не мог с собой поделать. При одной мысли о том, что он сейчас дышит тем же воздухом, что дышит его величество, по телу пробегала дрожь. Ну а то, что им придется увидеть его величество вживую, заставляло его спотыкаться, точно шел он не по толстым коврам, а по скрипучим ступеням ведущей на эшафот лестницы.
— Церковные догматы, — с безразличным лицом сказала Гретель. — Помнится, они утверждают, что все особы королевской крови чисты, как наши стародавние предки. Полностью идентичные человеческому образцу хромосомы. Ни единого искажения на протяжении многих веков. Ноль целых ноль десятых генетических дефектов. Священный сосуд человеческой сущности — кажется, так?..
Несмотря на отсутствие всякой интонации в ее словах, прозвучало это насмешливо. Как и многое из того, что произносила Гретель. Гензель был убежден, что это всего лишь иллюзия — Гретель была бесстрастна, как лабораторный прибор, и ее внешний вид являлся полным отображением внутреннего. И уж тем более она была практически незнакома с традициями человеческого юмора.
— Ты не веришь? — напряженно спросил Гензель, ощущая, как в груди от этого святотатства нарастает пульсирующий болезненный жар. — Сомневаешься в божественной человеческой природе его величества?
Возможно, подумалось ему, Гретель даже не поняла, что сказала. С геноведьмами такое часто случается. Человеческое общество для них — чужеродная среда, полнящаяся в высшей степени нелепыми, непонятными и примитивными существами. И геноведьмы редко тратят силы на то, чтобы научиться вести себя сообразно социальным правилам. Они попросту не видят в этом никакого смысла, как он сам не видел бы смысла в хаотичных движениях муравьев.
— Я привыкла доверять только тому, в чем можно убедиться. Один из основных принципов геномагии. И в случае с его величеством он явно не поможет. Генетические карты всех монархов засекречены, и доступ к ним имеют разве что придворные геномаги. А если я приближусь к венценосной особе с набором для взятия генетической пробы, меня ждет дыба, разве не так? Согласись, в такой ситуации не так-то просто сделать верное заключение о чистоте монаршей крови.
— Ты уже наговорила на дюжину костров, — сухо сказал Гензель, не глядя на нее. — Хватит.
Гретель улыбнулась. Ее улыбка показалась крохотной бледной бабочкой, невесомо порхающей в душной атмосфере дворца.
— А знаешь ли ты, братец, отчего самые шикарные картины помещаются в нарочито скромных рамах?..
— Нет. Но обязательно это выясню, как только заведу хотя бы одну. Ну или наконец обзаведусь стеной, на которую ее можно будет повесить.
— Контраст. Он рождает иллюзию преувеличения. Окружив себя уродами, куда проще выглядеть красавцем.
— Ты имеешь в виду…
— Это понятно даже ребенку. Куда проще выглядеть человеком, когда тебя окружают нечеловеческие существа.
Некоторое время они молчали. Вопрос, который шмелем вился на языке у Гензеля, был слишком опасен, чтоб задавать его вслух. Кто знает, вдруг лоснящиеся мышцами херувимы способны понимать человеческий язык?.. Несколько минут Гензель сдерживался, делая вид, что разглядывает дворцовые витражи, но в конце концов все же не выдержал:
— Ты ведь не веришь в божественную природу его величества, да?
Гретель задумчиво потеребила белую прядь. Знакомый жест. Один из немногих, которые она сохранила с детской поры и, может, из-за этого все еще выглядевший естественным.
— Из геноведьм никогда не получаются хорошие монахини, — задумчиво ответила она, помолчав какое-то время. — Я посвятила свою жизнь геномагии, а не слепому восхвалению человеческого генокода. Изучению закономерностей и правил, а не пению псалмов о грядущем очищении.
— Значит, не веришь? — требовательно спросил Гензель, не глядя на сестру.
— Я занимаюсь геномагией полтора десятка лет, братец. И за все это время не видела существа, которое могла бы назвать человеком в полном биологическом и генетическом аспекте этого слова. Так что же ты хочешь от меня услышать?
Гензель и сам не знал что.
— Но ведь чистый человеческий код существовал? Этого ты никак отрицать не можешь?
— Несомненно, существовал, братец. Возможно, еще при жизни нашего прадеда.
— Но раз он существовал — и ты это признаешь, — почему ты так скептически относишься к Церкви Человечества и венценосным особам? Почему не признаешь, что его могли сохранить до наших дней? Хранятся ведь изумруды в царских сокровищницах, так почему не мог сохраниться и тщательно сберегаемый генокод? А ведь его охраняют куда лучше, чем любые изумруды! Придворные специалисты составляют генетические карты на каждую особу королевского рода и тщательно следят, чтобы ни единая хромосома в ее наборе не оказалась бракованной. Как там это называется на твоем мерзком ведьмачьем языке?
Губы Гретель тронула едва заметная улыбка.
— Селекция, братец. Это называется селекцией. Не спорю, в ситуации, когда каждый из нас — своего рода склад генетической скверны и рассадник всевозможного вредоносного материала, — селекция могла бы спасти чистый человеческий генокод и сохранить его… на какое-то время. Но дело в том, что спасительный ход обернулся ловушкой.
Гензель насторожился:
— О чем это ты?
— На протяжении поколений особы королевской крови именно этим и занимались. Контролируемым спариванием с целью сберечь свой нетронутый генокод и передать его по наследству. Они поняли, что залог стабильного генофонда — образование потомства с себе подобными. Может, они были хорошими королями, но, к сожалению, весьма неважными генетиками. Это их и погубило. Это — и еще примитивная бесконтрольная селекция в замкнутой биологической группе. Законов геномагии нельзя обмануть, братец. А короли в этом отношении мало чем отличаются от породистых лошадей.
— Ты имеешь в виду…
— Имбридинг, — спокойно пояснила Гретель, без всякого выражения разглядывая украшенные самоцветами колонны. — Кровосмешение. В попытке соблюсти стопроцентную чистоту крови монархи стали жениться на носителях родственного и, значит, столь же чистого человеческого материала. Породив тем самым множество самых разных генетических дефектов в крови своих потомков. Иногда эти дефекты дремлют пару поколений, иногда обнаруживают себя сразу же, но факт остается в том, что королевская кровь давно отравлена. Кроме того, многим монархам свойственны человеческие слабости. Попытки улучшить свой организм с помощью геномагии, случайные генетические инфекции, дефектные генозелья, а то и яд…
Гензель с ужасом представил, что станется, если хотя бы пару слов из речи Гретель, высказанной равнодушным, как всегда, тоном, услышит священник. Тем более, говорят, во дворце их водится немало — ее величество, супруга ныне царствующего короля, известна как набожная прихожанка Церкви Человечества Всеблагого и Изначального. Тут, пожалуй, еще порадуешься, если дело ограничится одним лишь костром, без инструментов из арсенала братьев-монахов…
— Замолчи! — приказал он Гретель шепотом. — Ты не понимаешь, что говоришь!
Скупой жест Гретель был равнозначен пожатию плечами.
— Ты вправе верить во все, что пожелаешь, братец. Это я не могу позволить себе веру. Однако какое тебе дело до того, сколько процентов порченой крови в королевских жилах?
— Ты не понимаешь, сестрица.
— Возможно. — Кажется, это ничуть ее не печалило, но крайней мере, ни лицо, ни взгляд не переменились, оставшись отрешенными, не по-человечески спокойными, холодными.
— Дело не в том, грешен король или нет. А в том, что он, как ты и сказала, священный сосуд Человечества! Вместилище нашего драгоценного, неискаженного, неизувеченного генокода. А раз есть сосуд и его содержимое, как знать, вдруг в будущем нам удастся уронить эти семена на благословенную почву и получить плоды?..
— Заселить мир вновь семенами чистого Человечества?
— Да. — Гензелю даже на миг захотелось сжать ее холодную ладонь. — Начать все сначала. Стереть генетическое проклятие, которое сожрало наших предков и отравило нас самих. Начать с чистого листа! Неужели ты не понимаешь, какой это шанс? Пока на этом свете осталось хотя бы два образца неискаженного человеческого кода, у нас всех есть будущее! Человечество Изначальное и Всеблагое еще может вернуться! Может, не сейчас, может, через много веков, но может!..
— Ты слишком часто посещал проповеди, братец.
Гензелю с трудом удалось сохранить спокойствие. Кровь геноведьмы! Иногда ему казалось, что человеческого в Гретель — лишь внешняя оболочка. А все остальное давно перестало быть человеческим, переродилось под излучением геномагических чар, сделавшись бесконечно чужим и непонятным. Не человек, а загадочное хладнокровное существо, безразлично наблюдающее за копошением примитивных жизненных форм вокруг.
— Так, значит, все зря? — спросил он ее нетерпеливо и зло, забыв про королевскую стражу за спиной, про генномодифицированных гетер, про дворец, даже про их величества. — Так выходит? Что, все тщетно?
— Мне нравится твой оптимизм, братец. — Гретель невозможно было смутить. — Но я ученый. Я работаю только с известными величинами. Наблюдаемыми, проще говоря. Всем остальным пусть занимаются церковники.
— И ты…
— Как ученый, я могу сказать, что невозможно восстановить здоровый генофонд популяции, сто процентов которой не годятся для продолжения рода. Генетическая скверна не только внутри нас. Она повсюду вокруг. Растения, животные, микроорганизмы, бактерии — все это давно утратило срою изначальную генетическую форму, претерпело сотни и тысячи генетических мутаций, бесконечно далеко ушло от своего прообраза. Во всем мире не осталось ничего изначального, чего-то, что не было бы искажено генетической порчей. Ни цветов, ни рыб, ни насекомых. По крайней мере, за все время мне не приходилось встречать ни единого образца. Глупо надеяться, что такой встретится среди людей. Я оцениваю вероятность с математической и логической точки зрения. Она нулевая. Извини, братец.
Он почувствовал, как на смену злости приходит глухая тоска. Зря он завел этот разговор. Что может смыслить в Человечестве геноведьма, существо, для которого человеческие клетки и хромосомы — всего лишь расходный материал?..
— Хватит, — сказал он сквозь зубы. — Не собираюсь спорить с тобой на эту тему.
— Как пожелаешь, братец.
Оставшуюся дорогу они молчали, и, по счастью, эта дорога не затянулась.
— Малый зал для аудиенций его величества Тревирануса Первого! — грянул откуда-то сбоку голос, которым, как показалось Гензелю, можно было сбить с копыт несущегося быка. Даже драгоценные витражи под потолком жалобно звякнули. — Его величество готов вас принять. Слушайте внимательно. Подходить к нему по одному, держась прямо. Целовать руку. Пятиться назад. Не стоять ближе пяти метров к трону — там есть отметка. Обращаться к нему только после того, как он сам заговорит. Не перечить. Не смотреть в глаза. Но и не смотреть в другую сторону. Только на носки туфель его величества. Говорить не громко и не тихо, но четко. Не переспрашивать. Если у вас есть просьба, не называйте ее, пока его величество сам не попросит. Не шевелиться во время разговора. Не зевать. Не улыбаться, если не улыбнется его величество. В стенах зала установлены автоматические термические ружья. Одно резкое движение — и от вас, мелкие квартероны, останется кучка зловонного пепла на полу!
Гензель поспешно сорвал с головы потертый шаперон и успел ткнуть локтем сестру, чтобы та сняла берет. Увы, геноведьмы так же плохо ориентируются в человеческих душах, как и в дворцовом протоколе.
Судя по всему, говоривший был личным церемониймейстером его величества, но выглядел так грозно, что мог сойти за фельдмаршала. Мундир был усыпан многогранными орденами, а выправка такая, что позавидовал бы манекен готового платья из витрины. На посетителей церемониймейстер смотрел с уместной в данном случае долей легкой брезгливости.
Литая дверь распахнулась без предупреждения и даже без скрипа — судя по всему, и здесь автоматика. Если этот зал для аудиенций здесь звался Малым, подумалось Гензелю, в Большом, пожалуй, можно выращивать пшеницу для такого города, как Лаленбург. Зал показался ему огромным. Впрочем, освоившись с освещением, он решил, что первое впечатление было преувеличено: слишком уж много тут было сверкающего стекла и металла. Впереди возвышался трон — массивное сооружение с роскошной золотой отделкой. Но трона, равно как и прочего убранства, Гензель отчетливо не рассмотрел.
Потому что увидел его величество Тревирануса Первого.
3
Собственное тело предало его. Омертвели, не в силах сделать выдох, легкие, отмерли мышцы, и даже сердце вдруг съежилось где-то в глубине тела, крошечное, как новорожденная опухоль. Гензель ничего не мог с собой поделать. Замер на пороге, не в силах сделать и шага, кровь прилила к лицу. Наверно, в этот миг он выглядел идиотом с пораженным генетической хворью мозгом. Гретель пришлось незаметно ткнуть его под ребра, чтобы тело обрело хоть какую-то чувствительность.
Сама она, кажется, особого волнения при виде царственной особы не испытывала и на его величество взирала с не большим интересом, чем на уличного торговца или садовника. Он вдруг с суеверным ужасом ощутил, что в этом нет ни малейшего притворства, ни малейшей неискренности. Она и в самом деле не видела существенной разницы между его величеством и любым другим организмом на свете. И уж подавно была лишена религиозного трепета.
Гензель заставил себя сделать три шага вперед. Это было пыткой, с которой его тело едва совладало. Он даже не мог поднять головы, глядя себе под ноги, но в то же время ощущая присутствие в зале чего-то столь чистого и мощного, что на всем теле вставали дыбом волосы. Как невидимое излучение огромного неэкранированного реактора.
Увидев расшитые носки королевских туфель, Гензель едва не лишился чувств в благоговейном экстазе.
Человек. Высшее существо, которому суждено править миром. Идеальное сочетание хромосом, не испорченных, подобно его собственным, поколениями генетических вырожденцев. Священный сосуд, полнящийся драгоценной влагой. Величайшая сила, перед лицом которой всякое существо должно онеметь в религиозном экстазе.
Несмотря на все гигиенические процедуры и омовения, Гензель ощутил себя невероятно грязным, настолько, что хотелось рухнуть на колени и приникнуть к полу. Он словно увидел себя со стороны — некрасивое лицо, щерящееся треугольными акульими зубами, потрепанная одежда, несуразные пропорции. Квартеронское отродье. Выродок. Набор бракованных генов. Оскорбление Человечества. Живое воплощение всего самого низменного и позорного.
— Подойдите, — негромко сказал король. — Только вы двое. Остальные пусть ждут снаружи.
На ватных подкашивающихся ногах Гензель добрел до основания трона. Протянутая ему рука была рукой взрослого мужчины, с морщинистой кожей и скромным золотым перстнем. Она источала едва ощущаемый аромат. Гензель поцеловал ее губами, которые вдруг стали непослушными и бесчувственными, как древесная кора. И сердце ухнуло куда-то в самый низ груди. Не лишиться бы чувств прямо в зале…
Но он выдержал. Отошел от трона, стараясь смотреть лишь на кончики королевских туфель, стоящих на нижней ступени трона. Поцелуй Гретель был на удивление долгим и почтительным. За то время, что ей потребовалось, чтобы поцеловать протянутую монаршую длань и вернуться на положенное место, Гензель успел немного прийти в себя. И даже украдкой взглянуть на его величество.
Король был… Наверно, даже будь Гензель придворным поэтом и работай всю жизнь без передышки, едва ли ему удалось бы найти подходящие слова для того, чтобы описать Тревирануса Первого.
Он был…
Идеален.
Гензель рассматривал короля украдкой, чувствуя, как душа преисполняется сладким, как вересковый мед, благоговением. Ему приходилось видеть вблизи и с почтительного расстояния много придворных. Седецимионов, щеголяющих одной шестнадцатой частью дефектной крови, вельможных тригинтадуонов с их одной тридцать второй частью, даже особ королевской крови, чей процент был и вовсе исчезающее мал. Все они, как правило, были хороши лицом, даже очень хороши. Совсем не похожи на серолицых, с неправильными и несимметричными чертами квартеронов или, упаси Человечество, мулов, которые зачастую и вовсе не имели человеческих лиц. Все они были обладателями упругой розовой кожи, мягких овалов и прекрасных волос.
Даже семидесятилетние старцы выглядели моложавыми и полными сил мужчинами, ну а женщины сохраняли свою удивительную красоту до глубокой старости. Гретель объясняла ему, что все это — следы пластической хирургии и целого букета генетически омолаживающих процедур, которые, латая стареющий фенотип, одновременно превращали генотип в кишащее всякой нечистью болото. То болото, из которого черпали генетический материал их потомки. Остающиеся до самой смерти прекрасными аристократы передавали своим отпрыскам генетические дефекты величайшей силы.
Нет ничего удивительного, что баронские, герцогские и графские жены регулярно рожали от своих чистокровных супругов отвратительных мулов, которые втайне сжигались в дворцовых крематориях или по-быстрому закапывались в безымянных могилах.
Бывали в таких делах и казусы. Гретель как-то рассказывала ему о каком-то короле из Пацифиды, который, отправляясь за океан в военный поход, оставил во дворце беременную супругу. К несчастью супруги, ее сестры считали себя мастерицами дворцовых интриг и воспользовались ситуацией. Королева разродилась плодом, это был удивительно здоровый и сильный мальчик практически без следов генетических мутаций. Нет сомнения, в его жилах текла чистая, почти не разбавленная королевская кровь. Но сестры королевы были начеку. Они перехватили гонца с важным донесением и заменили его своим собственным посланием: «Королева ночью родила. Пол плода неясен — то ли мужчина, то ли женщина. Похож и на грызуна и на рептилию одновременно. Явный мул».
Убитый горем отец действовал так, как полагалось королю. Получив ответную депешу, верные слуги схватили ни в чем не повинную жену с крошечным сыном, запаяли их в контейнер для утилизации лабораторных отходов — и вышвырнули в океанские волны. Было у этой истории и продолжение, но уже смутное, обросшее слухами, как молодая раковая клетка обрастает кровеносными сосудами. Мол, принц с матерью умудрились выбраться из контейнера, разбившегося о дальний остров, остались живы и со временем вернулись по дворец, поквитавшись с подлыми интриганками. Так это или нет, Гензель не знал. Да не очень и стремился. К тому времени он уже составил об аристократии не самое лестное мнение.
Но король…
Его величество Тревиранус Первый был идеален. Лицо нельзя назвать прекрасным, оно было лицом рано постаревшего человека, но старость удивительным образом не стерла былой красоты, лишь сделала ее выдержанной, как хорошее вино. Нет, короля настоящим красавцем тоже не назовешь. Его лицо никогда бы не появилось на иконах в Церкви Человечества — у тамошних святых никогда не было темных, немного запавших глаз, припорошенных сединой волос и прыщей на шее. У короля Тревирануса Первого всего этого имелось в избытке. Но, как ни удивительно, эти мелкие детали совершенно не портили его благородного облика. Даже напротив. Он выглядел на удивление… Гензель даже растерялся, но быстро нашел нужное слово. Единственно возможное слово. Его величество Тревиранус Первый выглядел человечным.
Настоящим. Естественным. Таким, каким и должен выглядеть истинный человек.
И еще — безмерно уставшим. На его лице пролегли глубокие морщины вроде тех, что Гензель помнил на лице у отца. Взгляд королевских глаз оказался тяжелым и внимательным, точно принадлежал не королевской особе, а старому бомбардиру, нащупывающему глазами цель. В этот раз цель была прямо перед ним, и ему не требовалось вводить поправку, высчитывая скорость ветра или упреждение. Гензель ощутил предательскую дрожь в коленях, когда Тревиранус Первый неспешно скользнул взглядом по его телу. По сравнению с ним даже взгляд пустых глаз Гретель не казался столь пугающим.
— Хватит поклонов, — немного раздраженно произнес король. — И, ради парика святого Менделя, прекратите с таким почтением пялиться на мои туфли. Если бы я хотел видеть в своем зале столь нелепо согнутые фигуры, я бы поручил придворным геномастерам создать что-то подобное!
Голос у него был мягким и звучным, но чуть-чуть надтреснутым, как металлический кубок с крохотным внутренним дефектом. Удивительно, но из-за этого он казался еще более звучным.
Гензель опешил, не зная, как себя вести и куда девать ноги в растоптанных сапогах. Как ему показалось, король наблюдал за смущением посетителей с определенным удовлетворением. Впрочем, все смущение, как обычно, пришлось на долю самого Гензеля. Гретель разглядывала его величество так запросто, словно он был обычным придворным, вздумавшим посидеть на золоченом стуле в отсутствие хозяина.
— Я немолод, — отрывисто произнес король. — А человеческое тело быстро стареет, особенно если не подпитывать его генетическими зельями. Я привык дорожить временем. Поэтому мы опустим весь этикет вплоть до титулов и представлений. Меня вы, смею думать, знаете. А я уже знаю вас. Гретель и Гензель. Странствующая геноведьма с помощником. Квартероны.
Последнее слово не прозвучало ругательством, как обычно в устах великородных особ.
— Все верно, — кивнула Гретель. — Прибыли в Лаленбург этим утром.
— Собираетесь переждать здесь зиму?
Геноведьма размышляла лишь несколько секунд. Хотя могла бы вообще не размышлять. Просто по своему обыкновению попыталась сымитировать обычную человеческую реакцию.
— Едва ли. Мои старые контракты уже выполнены. Решили погостить в Лаленбурге несколько дней, прежде чем двигаться дальше на юг.
Она не добавила «ваше величество», и Гензель мысленно застонал. Однако Тревиранус не разгневался. Не дернул за шелковый шнур, вызывая стражу, не стал стучать ногами в богато украшенных туфлях. Вместо этого он медленно кивнул.
— Понимаю. Спешите? Или вам не нравятся яблоки?
Гензель отчаянно пожелал, чтобы сестра солгала. Есть у людей такое полезное свойство — лгать при необходимости. Жаль, что геноведьмы в большинстве своем его лишены.
— Мы с братом были в соседнем королевстве, когда до нас донесся слух, что в Лаленбурге резко вырос спрос на геномагов. Четыре года назад он был куда меньше. Вот мы и решили…
— Проверить обстановку?
— Присмотреться. — Гретель спокойно выдержала взгляд старого короля. — Быть может, найти несколько необременительных контрактов. Когда количество геномагов по какой-то причине уменьшается, стоимость на их услуги, как правило, резко возрастает.
— Что ж, мудро. И вполне дальновидно. К тому же вы можете больше не искать подходящего контракта. Вы его уже нашли.
— С кем?
— Со мной, — спокойно сказал Тревиранус Первый, наблюдая за их реакцией. По части Гензеля его ожидания должны были быть вполне оправданны — тот и сам услышал непроизвольный щелчок собственных зубов. Что же до геноведьмы, его величество ожидало разочарование — Гретель осталась совершенно бесстрастной. В этот раз она даже не сочла необходимым изображать задумчивость, а ее прозрачные глаза оставались спокойными и безмятежными, как поверхность озера в безветренную погоду. Непроглядная поверхность озера, истинная глубина которого не была известна ни одному живому существу.
— Боюсь, не могу за него взяться, ваше величество.
Тронутая сединой королевская бровь поднялась самое больше на два миллиметра. Но даже этого хватило, чтоб Гензель вмерз в пол.
— Вот как? Полагаете, что королевское золото пахнет иначе, чем всякое другое? Как интересно. Прежде мне не приходилось встречать принципиальных геноведьм.
— Дело не в золоте.
— А в чем?
— Личные причины. — Гретель засунула ладони за широкий ремень — очередной вызов придворному протоколу, от которого строгого церемониймейстера, надо думать, на месте хватил бы удар. — Мы, геноведьмы, оставляем за собой право выбора заказчика. И отказывать без объяснения причины.
Король немного склонил голову. Так, словно тяжелая корона успела немилосердно натереть ему виски. От Гензеля, однако, не укрылась грозная, белого золота, искра, вспыхнувшая на миг в царственном взгляде.
— Значит, к королевскому золоту вы равнодушны. Что ж, у меня есть и другие средства оплаты. Как вы смотрите на… Скажем, на то, что я позволю вам собственными ногами покинуть мое королевство, вместо того чтобы кликнуть придворного палача и этим же вечером отправить вас на плаху?
Внешне Тревиранус почти не переменился, но Гензель ощутил изменение в излучении его эмоций. Это была часть акульего чутья, которая редко проявляла себя и голоса которой сам Гензель зачастую не понимал. Это было похоже на блеск стальной кольчуги под ветхим плащом. Сквозь морщины стареющего короля на мгновение выглянул истинный Тревиранус Первый, король Лаленбурга, единственный его правитель и, возможно, единственный настоящий человек во всем королевстве.
— Мы не совершили ничего дурного, ваше величество. — торопливо сказал Гензель, чтобы Гретель не ляпнула очередную бестактность. — Если вы имеете в виду тех троих в подворотне…
Тревиранус смерил Гензеля взглядом, от которого его позвонки прикипели друг к другу, точно под воздействием дуговой сварки.
— Пара дрянных мулов и спятивший мехос. Явно не то, чем дорожит мое королевство.
— Тогда…
— Вашу сестру зовут Гретель. Ей двадцать два года, она уроженка Шлараффенланда и имеет одиннадцать процентов порченого генетического материала.
Должно быть, на лице Гензеля отобразилось изумление, потому что Тревиранус Первый не удержался от короткой усмешки, на миг сделавшей его лицо куда моложе и убравшей лишние морщины.
— Этот дворец буквально набит аппаратурой. Не успели вы войти, как ваши расшифрованные генокарты уже легли на мой стол. Кроме того, с давних пор у меня есть привычка собирать информацию обо всех генетических кудесниках в этом королевстве. Простительная слабость для старика…
— Мы покинули Шлараффенланд не по своей воле, ваше величество.
Тревиранус поднял руку с широко расставленными пальцами, заставив Гензеля замолчать.
— Мне нет дела до Шлараффенланда, как и до его спятившей правительницы. Это исключительно ваше дело. А вот что имеет важность — так это процент порченой крови вашей сестры. Одиннадцать процентов! При этом она, кажется, занимается практикой как геномастер?..
— У нее есть соответствующий патент, выданный в Гунналанде. Он допускает к занятиям генетическим ремеслом любого, у кого количество порченой крови составляет менее пятнадцати процентов, ваше величество.
— Разумеется. Только вот в Лаленбурге ей этот патент не поможет. Здесь к занятиям геномагией допускаются лишь те, в ком порчи не больше десяти процентов. Наши новые порядки, призванные оградить жителей королевства от генетической порчи. Это значит, что ваш гунналандский патент на территории Лаленбурга более недействителен. — Король сделал паузу, которая показалась Гензелю удивительно затянувшейся и неуютной. — А следовательно, ваша сестра, сударь Гензель, является геноведьмой. Со всеми вытекающими последствиями.
Король замолчал. Продолжать не было нужды. Первой нарушила тишину Гретель.
— И давно в Лаленбурге действуют эти порядки? — спросила она, разглядывая носки своих ботфортов. Стертые, с разбитой подошвой и подвязанным каблуком, эти ботфорты ничем не напоминали изящных туфелек городских геноволшебниц. Они помнили многие мили пути, десятки перейденных вброд рек, грязь множества королевств и брусчатку неисчислимого количества городов. Едва ли обладание ими доставит радость лаленбургскому палачу, подумал Гензель, разве что если разделить на части и продавать как амулеты от сглаза…
— С сегодняшнего дня.
— Понимаю, ваше величество.
— Конечно, понимаете, — кивнул тот. — Еще бы не понимали. Как понимаете и то, что бежать вам не удастся. Ни из дворца, ни из королевства. Граница Лаленбурга на замке, и, даже вырасти вы себе крылья, вам не уйти от королевской плахи. Ну а палаческому топору и подавно безразлично, чью голову рубить — геноведьмы или самого последнего мула.
— И контракт, который вы предлагали…
Несколько секунд король разглядывал свою ладонь. Когда он вновь поднял взгляд, Гензель сглотнул — в этом взгляде уже не было прежней задумчивой рассеянности. Теперь он казался тяжелым, как золото королевского трона, и целеустремленным.
— Ваши головы, которые останутся на плечах, — часть платы за него. Быть может, эта плата выглядит не очень внушительно, но мне кажется, вы здравомыслящие люди и вполне оцените мою щедрость.
Гензель метнул яростный взгляд в сторону Гретель.
«Во имя Человечества, сестрица!.. — взмолился он мысленно. — Хотя бы сейчас рассуждай как человек!»
Но он зря беспокоился за сестру. Геноведьму можно обвинить в чем угодно, но только не в отсутствии здравомыслия.
— В таком случае я принимаю этот контракт, ваше величество, — произнесла Гретель твердо.
Тревиранус Первый удовлетворенно откинулся на своем троне. Судя по тому, как он при этом поморщился, золоченые выступы спинки, впивавшиеся ему в позвоночник, за много лет немало его утомили.
— Умная геноведьма, — пробормотал он. — Не самая умная из всех, что я повидал, но умнее многих. Раз контракт можно считать заключенным, полагаю, вы захотите узнать его условия?
— Нет нужды, ваше величество, — сухо сказала Гретель. — Они мне известны.
— Так вы знаете, зачем я вас нанял?
— Вы хотите, чтобы я нашла вашу дочь.
— А вы прозорливы. Ведьминское чутье?
— Всего лишь хорошая память. Когда мы были здесь четыре года назад, весь город был увешан объявлениями. Его величество Тревиранус Первый обещал щедрое вознаграждение всякому, кто отыщет след пропавшей принцессы Бланко.
— Бланко Комо-ля-Ньев, — напевно произнес король, и прозвучало это как название изысканнейшего вина. — Но она никогда не любила своего полного имени. Считала слишком длинным и напыщенным. Мы с супругой называли ее просто Бланко.
Теперь наконец и Гензель вспомнил.
И в самом деле были объявления, только за несколько лет, в течение которых судьба водила их вдалеке от Лаленбурга, это совершенно выветрилось из головы. Гензель напряг память, но ничего толкового из нее выудить не сумел, лишь смутные обрывки — «всем подданным короля» и «высочайше благоволит».
— Значит, ее все еще не нашли… — спокойно констатировала Гретель.
— Не нашли, сударыня ведьма. Хотя искали ее шесть лет, денно и нощно. Как только она пропала, я издал указ. Ее искали все. Королевская гвардия, лесники, горожане и стражники. Ремесленники и крестьяне. Священники и челядь. Долгих шесть лет… Сперва добровольцы приходили ко мне по сотне в день. Они были уверены, что легко нападут на след. И в самом деле — далеко ли может сбежать из дворца одиннадцатилетняя принцесса?
— Видимо, далеко.
Король поднялся с трона — тяжело, будто статуя, впервые за много лет оторвавшаяся от своего постамента, — и прошелся вдоль зала. Оказывается, он был не так уж и высок, почти вровень с Гензелем. Однако этого легко можно было не заметить благодаря его царственной осанке и особенной, исполненной благородства грации. Он двигался мягко, но в этой мягкости не было ничего такого, что позволяло бы заподозрить слабость. Напротив, это были мягкие движения взрослого льва, неторопливо обходящего свои владения.
— Ее искало все королевство. Шесть лет подряд. Тело ее так и не было найдено. Поток добровольцев быстро стал иссякать. Первые несколько лет я щедро давал им золото на поиски. От толп желающих не было отбоя. Каждый был уверен, что знает, где искать. Заброшенные деревни, болота, леса… Каждый получал от меня щедрый аванс. Это было опрометчиво с моей стороны. Казна стремительно пустела. Я стал платить серебром. От сотен добровольцев остались десятки, но и они возвращались с пустыми руками. Когда я перешел на медь, желающих осталось совсем мало. Некоторых самых жадных пришлось повесить, как вы понимаете… С тех пор поиски принцессы перестали казаться хорошим способом заработать. «Пойди поищи принцессу», — так нынче говорит чернь в Лаленбурге, когда говорит о каком-нибудь бесполезном и бессмысленном занятии. Моя дочь так и не вернулась. Словно провалилась сквозь землю.
— И тогда вы обратились к геномастерам, — констатировала Гретель безо всякого выражения.
— Они называли себя по-разному. Геномастерами, генопрорицателями, генокудесниками и геноархимагами. — Король вымученно улыбнулся. — Мне не было до этого дела. Я заключил бы договор даже с последним генофокусником, если бы он помог мне разыскать Бланко. Сколько этих проходимцев побывало в Лаленбурге за эти годы… Они исчертили весь дворец странными диаграммами, читали нараспев формулы аминокислот, даже пытались вызвать дух святого Бэтсона… Без малейшего результата, разумеется. А уж каково приходилось моей супруге!.. Впрочем, вы, наверно, не знаете. Моя супруга, королева Лит — человек веры, сударыня геноведьма, и истая прихожанка Церкви Человечества Извечного и Всеблагого. Она очень… серьезно относится к генетической линии наших предков и чтет святые писания. Иногда мне даже кажется, излишне серьезно… Для нее все эти геноритуалы были сущим святотатством. Но, можете представить, я настолько ослеп в своем горе, что продолжал привечать всех этих геношарлатанов до тех пор, пока в казне оставались хоть какие-то деньги. Но беды наши лишь множились. Один из геномагов случайно устроил эпидемию генномодифицированного тифа, что стоило тысяч жизней моих подданных. Другой попытался выдать мне под видом принцессы какую-то крестьянку, которой искусными чарами придал сходство с моей дочерью. Третий под разными предлогами выманил у меня остатки былого состояния… В общем, мне пришлось вспомнить старые способы. Десяток геномагов сожгли на площади в назидание остальным. Но эта публика сделала неверные выводы. Вместо того чтобы удвоить усилия по поиску принцессы Бланко, они сбежали. Все до последнего. Сбежали из Лаленбурга. И с тех пор стараются здесь не показываться.
— Так вот почему у стражи есть приказ тащить всех геномагов в королевский дворец… — Гретель усмехнулась самым непочтительным и нетактичным образом. — Причем, насколько я понимаю, не делается исключений и для геноведьм.
«Прекрасный вывод, сестрица», — язвительно подумал Гензель, но рта открывать предусмотрительно не стал.
Король Тревиранус смерил Гретель своим тяжелым взглядом.
— Да. С тех пор я взял за обыкновение приглашать к себе всех заезжих геномастеров. И даже геноведьм. Я верю, что моя дочь все еще жива. Как верю и в то, что ее можно разыскать. Я люблю ее и боюсь умереть, так больше и не увидев ее лица. Считайте, что я предложил вам контракт, сударыня Гретель. Вам и вашему молчаливому брагу.
«Обычно это ее считают молчуньей, — подумал Гензель хмуро. — Эх, как же сухо во рту…»
— Я была в Лаленбурге четыре года назад, — негромко произнесла Гретель, глядя в непонятном Гензелю направлении. — Как раз тогда, когда шумиха с поисками принцессы была в самом разгаре, а на каждом столбе висело по объявлению, обещавшему золотые горы нашедшему Бланко. Люди на них стали висеть гораздо позже… Я не взялась за эту работу в тот раз. Вы знаете, почему, ваше величество?
Король нахмурился. Как неприятно, оказывается, хмурятся короли. Мочевой пузырь сам собой съеживается.
— Сочли, что дело безнадежное?
— Именно так, ваше величество. Скорее всего, принцесса давно мертва.
— Почему вы так считаете?
Слова короля показались Гензелю звенящей полосой тяжелой стали. Должно быть, такими можно снести голову с плеч не хуже, чем палаческим мечом. По крайней мере, Гензель ощутил, как тело напрягается точно так же, как обычно напрягалось, отражая выпад клинка.
— Иммунитет, — спокойно сказала Гретель. Она никогда не считала нужным что-то пояснять. Объяснять людям суть геномагических терминов с ее точки зрения было не продуктивнее, чем откармливать свиней жемчугом.
— Что это значит?
— Иммунитет — способность организма самостоятельно отражать агрессию внешней среды, вырабатывая особые клетки, лимфоциты. У принцессы Бланко иммунитета нет. Всю свою жизнь она прожила во дворце, под опекой и охраной. Оказавшись за пределами городских стен, она не смогла бы выжить. Она — чужеродный организм в той среде, которую вы называете своим королевством. В очень агрессивной и жесткой среде. Такие, как она, не живут слишком долго. Думаю, она мертва. Просто тело разложилось или было съедено, или…
— Вы говорите про мою дочь!
Гневному возгласу короля витражи тронного зала отозвались жалобным звоном.
«Сейчас кликнет стражу, — понял Гензель с замирающим сердцем. — Проклятый Лаленбург. Проклятые яблоки. Проклятая геномагия…»
Но Тревиранус не стал звать стражу. Сделал еще несколько шагов, тяжело дыша, потом прикрыл глаза и сделал несколько размеренных глубоких вдохов. Было видно, что порыв королевской ярости, едва не испепеливший дерзких квартеронов, взят под контроль. Судя по всему, Тревиранус Первый наилучшим образом умел контролировать не только свое королевство, но и себя самого. Это вызывало уважение.
— Она — человек, — бесстрастно произнесла Гретель. — А люди — весьма хрупкие, примитивные и недолговечные существа. Я должна была сказать вам очевидное.
— Геноведьмы… — В этот раз взгляд короля был приправлен откровенным презрением. — Я знаю, что для вас люди — лишь сор, не стоящий внимания. Впрочем, еще я знаю, что вы не лжете. И все равно желаю заключить с вами контракт.
Интересно, рассеянно подумал Гензель, если бы Гретель на миг обрела возможность испытывать человеческие чувства, что сейчас отразилось бы на ее лице?.. Обреченность? Отчаяние? Обычный страх?.. За свое лицо он был спокоен — несомненно, оно выражало одну лишь бескрайнюю угрюмость.
Искать по всему королевству сбежавшую много лет назад принцессу?.. Едва ли возможен контракт хуже. Гензель еще помнил лихорадку четырехлетней давности. Десятки и сотни добровольных спасателей сложили головы, отправившись в безнадежные поиски.
Заблудились в дебрях и пещерах, разбились в горах, были сожраны чудовищами, перерезали друг другу глотки, спились или просто пропали без вести вслед за принцессой.
И никто из них не мог похвастать тем, что видел принцессу или хотя бы след ее туфельки. Следов не было. Как в сложных генетических реакциях отдельные клетки вдруг исчезают, поглощенные другими, так и некоторые принцессы обладают способностью пропадать бесследно.
Конечно же королевская дочь мертва. Может, стала жертвой какой-нибудь злокозненной придворной интриги, а тело ее давно растворено в кислоте без остатка. Или покинула королевство с заезжим сердцеедом, каким-нибудь обнищавшим аристократом. Такое, говорят, не редкость при королевских дворах. А может, ее безымянные косточки тлеют в какой-нибудь общей могиле. Возможно, рядом с костями своих спасателей. И Гензелю не хотелось оказаться поблизости.
— Значит, наши жизни в обмен на жизнь принцессы Бланко? — сухо уточнила Гретель. Как автомат, бесстрастно измеряющий массу препаратов в двух противоположных чашах.
— Ваши жизни в обмен на Бланко. — эхом повторил Тревиранус, впечатав эти слова в золото подлокотника ударом кулака. — И я надеюсь, что не ошибся, когда посчитал вас достаточно умной геноведьмой, сударыня Гретель. Не думайте, что сможете обмануть меня: слишком многие до вас уже пытались это сделать. Вы сможете выскользнуть из дворца, но покинуть пределы королевства вам не удастся. Я давно уже принял соответствующие меры. Автоматические термические излучатели — слышали о таких? — превратят в золу всякого, кто попытается покинуть королевство без разрешения. А еще — конные разъезды, королевская гвардия, минные поля, генетические ищейки… Если потребуется, я подниму весь воздушный флот Лаленбурга, чтобы найти вас, можете не сомневаться.
Гензель не сомневался. Взгляд человека на золотом троне, быть может, одного из последних людей в мире, не давал возможности усомниться. Слишком уж многое было в этом взгляде. Куда больше, чем может разобрать самый внимательный прибор из арсенала геноведьмы.
— Не считайте меня тираном, судари, — тихо сказал Тревиранус Первый. — Я не тиран. Я — любящий отец, потерявший свое самое драгоценное сокровище. И вы даже не представляете, как мало расстояние от любви до жестокости…
— Мы понимаем, что вы чувствуете, ваше величество.
— Не можете понимать! — рубанул он по подлокотнику. — Вы не можете знать, что это значит. Точно у меня украли половинку сердца, вырезали кривым ножом из груди, и оставшаяся много лет кровоточит, и стонет, стонет… — Король, машинально или нет, положил руку на золоченую рукоять меча, но сейчас этот жест не казался Гензелю угрожающим. Скорее, он отдавал отчаянием. — Ничто в этой жизни не утешало меня так, как принцесса Бланко. Милый, чудный, добрый ребенок! Я не знал иных людей, столь же светлых и чистых. Она не заслуживает бродить до скончания дней в этом страшном и безумном мире. Я поклялся, что разыщу ее, чего бы это ни стоило. Мне пришлось расплатиться сперва золотом, потом своим здоровьем, но этого оказалось недостаточно. Видимо, теперь мне придется платить чужими жизнями… И, к сожалению, я готов и на эту цену. Простите меня. Если бы это помогло в поисках дочери, я рассек бы вену и отдал вам кровь из своего тела, самую чистую в мире кровь, но этим не помочь. Даже этим…
Король устало потер висок, точно у него болела голова. Идеальный человек на золотом троне, он больше не выглядел небожителем или священным сосудом. Он выглядел пожилым мужчиной, которого годы и несчастья согнули, как бури из года в год сгибают мощное, когда-то стремящееся прямо в небеса дерево.
Не просто государь. Не просто страдающий отец.
Настоящий, подлинный человек. В нем было нечто большее, чем драгоценная человеческая кровь. В нем был человеческий дух.
«Какая сила, — подумал Гензель потрясенно, стараясь не выдать охвативших его чувств. — Кажется, впервые в жизни я действительно вижу подлинного, настоящего до последней клеточки человека. Если так, это чудо. Самое настоящее чудо. Не такое прекрасное, в пастельных тонах, как на церковных иконах. Не такое сладкое, как причастие. Но именно в горечи оно проявляется и становится видимым…»
Гретель не выглядела растроганной. Она осталась собранной, спокойной, деловитой и в то же время предельно расслабленной. Проще говоря, она выглядела такой же, как и всегда. Даже голос не потеплел ни на градус.
— Мы понимаем ваши чувства, ваше величество. И готовы взяться за поиск принцессы, имея наградой лишь свои жизни. Приступим сегодня же. Но прежде я хотела бы кое-что спросить.
Король медленно кивнул. Взгляд его не прояснился, остался тревожным и настороженным, но Гензелю показалось, что он немного смягчился.
— Ваше право, сударыня ведьма. Спрашивайте. Только ответами я и способен снабдить вас для поисков дочери.
— Во-первых, я хочу знать все, что удалось узнать всем вашим подданным за время поисков. Не может быть, чтобы никто из них не наткнулся на след принцессы.
— Следы были. Тысячи следов. Но ни один не оказался надежным. Мне говорили, что принцесса Бланко съедена мулами-людоедами в южных землях, что бежала в другое королевство, что сменила внешность… Мне пришлось выслушать множество слухов, да толку?
— Могу ли я предположить, что среди этих слухов были и такие, которые ваше величество по какой-то причине сочло наиболее заслуживающими доверия?
Тяжелый королевский подбородок дрогнул. Совсем незаметно. Но для внимательно наблюдающего за ним Гензеля это крошечное движение было еще более явственным, чем дрожание подъемных ворот неприступной крепости.
— Все слухи были нелепы и смутны. Кто-то рассказывал, что принцесса попала в рабство к южному шейху, но сбежала и теперь предводительствует в далеких пустынях бандой из четырех десятков разбойников. Кто-то уверял меня в том, что Бланко по воле злой геноведьмы обернулась белоснежным лебедем. Всякое доводилось слышать… Чаще всего это были истории о похищениях. Они все сходились в том, что принцесса была похищена из своих покоев, но разнились по части того, кто это сделал. То горгульи, то кровожадные великаны, то мантикоры, то цверги…
Услышав последнее слово, Гретель отчего-то насторожилась.
— Цверги, ваше величество?
Тревиранус Первый устало махнул рукой.
— Не знаю, как у вас в Шлараффенланде, а в Лаленбурге цвергами пугают детей. Подземные чудовища с когтями и…
— Я знаю, кто такие цверги, — жестко сказала Гретель. — Это плотоядные хищники. Но они не крадут людей.
— Полагаете, я, как отец, испытал облегчение, услышав, что принцесса Бланко попала в лапы генетических чудовищ? — горько усмехнулся король. — Весть об этом принес один из моих егерей. Отсутствовал несколько месяцев, а вернулся едва ползущим. Выглядел так, будто его рвали псы, живого места нет. Бормотал только: «Она у цвергов! Проклятые цверги поймали принцессу Бланко!» Больше он не сказал ничего. Умер от истощения и великого множества рваных ран. Его история могла бы походить на правду, по крайней мере, покойный ничего не выиграл бы от этой лжи, как те, что твердили мне про великанов и горгулий. Но и верить в это… Цверги никогда никого не похищали. Разорвать на части — это им по плечу. А похищать, да еще и принцессу, из дворцовых покоев… Полная чушь. Тем более что в окрестностях Лаленбурга цвергов истребили еще много лет назад. Если они где и остались, то далеко в горах. На всякий случай я велел изловить несколько этих тварей, но, конечно, без толку: допрашивать цверга — все равно что допрашивать крысу. Они и говорить-то не умеют, эти твари…
Кажется, его ответ полностью удовлетворил Гретель.
— Хорошо, — сказала она. — И слабый след лучше всякого его отсутствия. И последний вопрос, ваше величество.
— Спрашивайте. Только, умоляю, быстрее. Я знаю, что это глупо, но, когда речь идет о поисках принцессы, каждая упущенная секунда кажется мне стальной занозой, всаженной в затылок.
— Этот вопрос тоже не праздный, он имеет значение для поисков. Отчего могла сбежать принцесса?
Челюсть Тревирануса Первого напряглась. Нехорошо напряглась. На улице, уловив такое движение, Гензель начал бы незамедлительные приготовления к драке. Но здесь, наедине с живым человеком, он ощущал себя блохой, взирающей на гору.
— Бланко не сбегала! — тяжело выдохнул король, сцепив до скрежета пальцы. — Принцессу похитили!
— Мне приходилось слышать обе версии, — осторожно сказал Гензель, чтобы отвлечь гнев монарха от сестры. — На улицах судачат всякое…
Тревиранус одним своим взглядом едва не вогнал Гензеля по колено в мраморный пол.
— Улицы! — с презрением обронил он. — Улицы!.. Улицы наполнены чернью, а та рада нести всякий вздор, и чем нелепее, тем лучше! Уж они вдоволь пополоскали свои гнилые языки, когда пропала Бланко!.. Можете не сомневаться, на улицах вы услышите самые чудовищные слухи. По сравнению с которыми даже цверги-похитители покажутся вполне обыденным делом!
— Нам нужна информация. — Своей сухостью голос Гретель мог погасить любой гнев. — И не суть, откуда она взята, из самого придирчивого анализа хромосом или из содержимого ночного горшка.
— Бланко похитили!
— Скорее всего, — согласилась геноведьма. — Но мне надо предусмотреть все варианты, прежде чем пускаться на поиски. Искать принцессу в таком большом королевстве, как Лаленбург, не имея никаких подсказок, то же самое, что ловить клетку пинцетом без микроскопа.
Едва ли король оценил сравнение. Но, по крайней мере, разжались на подлокотниках трона пальцы.
— Что вы хотите знать? — устало спросил он.
— Что могло заставить ее сбежать?
— Не знаю. Не знаю. Тому не могло быть никаких причин. Я любил ее, принцесса ни в чем не знала нужды. Она одевалась в шелка и парчу, у нее были все развлечения, о которых только можно мечтать. Изысканная пища, личная конюшня, пажи…
— Я не это имела в виду, ваше величество. Возможно, ей что-то угрожало или же она так считала?
— Исключено, — отрезал Тревиранус. — К ней были приставлены мои личные телохранители и гвардейцы. Ей нечего было беспокоиться о своей жизни. На нее никогда не устраивалось покушений или посягательств. Она была моим единственным ребенком, а это что-то значит даже у королей.
— Возможно, романтические отношения? — осторожно спросил Гензель и тут же пожалел, что не прикусил себе язык.
— Она была ребенком! — громыхнул Тревиранус. — Никаких романтических отношений у нее не было и быть не могло!
Кажется, пришла очередь Гретель спасать своего непутевого брата.
— Если не опасение за свою жизнь и не репродуктивная тяга… — пробормотала она. — У нее были враги при дворе? Недруги? Кто-то, кого она тяготилась или боялась?
Монарший взгляд, прежде попеременно испытывавший то Гретель, то ее брата, вдруг поплыл в сторону, стал бесцельно блуждать по тронному залу, как корабль, потерявший ориентиры в открытом море.
— Возможно… Возможно, моя супруга, но… Что за дурацкий вопрос!
Стряхнуть Гретель со следа было не проще, чем генетическую инфекцию, уловившую запах сложных аминокислот своей добычи.
— Королева Лит? — спросила жестко геноведьма.
Глаза Тревирануса Первого на миг потухли, сделавшись пустыми, как у мертвого мехоса из подворотни.
— Она не имеет никакого отношения к пропаже девочки.
— Но вы не случайно упомянули ее.
— Не случайно. — Король качнул головой и вдруг грустно улыбнулся. Как-то беспомощно и совершенно по-человечески. — Что, на улицах об этом не рассказывают?.. Все равно. Ладно, чего теперь скрывать… У бедной Бланко действительно были не лучшие отношения с ее матерью. Точнее, с ее мачехой. Лит ей не родная мать, но об этом-то вы уж наверняка знаете. Я… я потерял свою первую супругу через год после рождения дочери. Какая-то редкая генетическая хворь, от которой не застрахованы и короли. Долгое время я вдовствовал, но королевству нужен не только король, но и королева. Как человеку нужны две руки или два глаза. В интересах короны я был вынужден жениться через несколько лет вновь.
— На королеве Лит.
— Тогда еще герцогине, — слабо кивнул Тревиранус. — Она была хороша, очень хороша. Моложе меня, но не по годам мудра и проницательна. Прекрасная женщина, лучшей партии я и желать не мог. Она полюбила Бланко, как родную дочь, а мне стала надежной опорой на многие лета. Если бы я знал… Ох, если бы я знал, я бы выгнал всех монахов королевства взашей! Все уничтожила вера.
— Какая вера? — не понял Гензель.
— Вера в Человечество Извечное и Всеблагое, какая же еще!
— Вы… Вы упоминали, что королева-мачеха религиозна, но…
— Она не всегда такой была. С течением времени моя супруга становилась все более религиозной. Стала постоянной прихожанкой Церкви, читала священные книги о чистоте человеческого гена. Привечала монахов и церковнослужителей. В моем дворце их нынче бродит больше, чем блох по уличному коту… Скоро превратят весь мой дворец в пропахшую приторными маслами церковь… Я слишком поздно насторожился. Быть может, потому что виной всему был я сам.
— Ваше ве…
— Королевская кровь безгрешна. — Тревиранус искривил губы в неестественной улыбке. — Моя была чище воды в горном ручье. Кровь от крови Человечества. Ни единой примеси за все поколения. Впору разливать по бутылкам и продавать на рынке… Это все и сгубило. В наше время не так-то просто найти партнера для…
— Скрещивания, — сухо сказала Гретель.
— Да. Для продолжения династии. Я был последним неиспорченным на нашей чахлой лаленбургской ветви. Все прочие яблочки сгнили или покрылись плесенью. Мне не суждено было найти достойную партию, обладающую столь же чистым генокодом. Мать Бланко имела ничтожно малую примесь бракованной крови. В пределах нескольких хромосом.
— Значит, принцесса Бланко Комо-ля-Ньев…
«Принцесса унаследовала генетический порок!» — ужаснулся Гензель. Даже эту мысль он постарался сделать крохотной и незаметной, словно король мог почувствовать ее излучение и рассвирепеть от этого кощунства.
Король кивнул.
— Бланко не унаследовала моей генетической чистоты. Я бы любил ее, даже если бы она была квартероном вроде вас. Она моя дочь. Но Лит…
— Ее мачеха?
— Ее тоже нельзя было назвать совершенно чистой, но она была близка к тому. Ближе, чем моя первая супруга. И еще она боготворила меня. Смотрела таким взглядом, каким монахи смотрят на свои иконы. Неудивительно. В ее глазах я всегда был живым богом. Сосудом всего Человечества. Когда Бланко стала взрослеть, Лит, видимо, подкупила геномастеров и тайком сделала генокарту своей падчерицы.
На мгновение Гензелю показалось, что глаза сестры перестали быть похожими на непроницаемую озерную гладь, и в их глубине что-то сверкнуло. Возможно, что-то похожее на насмешку. Оно пропало гораздо быстрее, чем он успел бы сообразить.
— Значит, королева узнала, что кровь династии непоправимо испорчена, а в жилах ее падчерицы течет то, что всегда будет нести следы вырождения?
— Едва ли вы поймете. Лит слишком религиозна. Для нее генетический дефект Бланко был настоящим оскорблением королевского рода. Она не могла и помыслить о том, что трон после меня будет наследовать кто-то, в чьих венах не течет стопроцентная человеческая кровь. Для нее сама мысль об этом была невыносима.
— Так вы думаете, что это она… — потрясенно пробормотал Гензель.
Король резко выпрямился на своем троне, его точно ужалило электрическим импульсом.
— Нет, фруктоземия вас подери! Ничего подобного я не думаю! Королева Лит никогда не причинила бы зла своей падчерице. Они не ладили, это верно, но я не допускаю и мысли, что действия королевы могли бы… то есть стали бы причиной… Нет!
Гензелю стало его жаль. Тревиранус пытался спрятать смущение и слабость за гневом. Удивительно, но даже эта слабость каким-то образом его возвышала. Гензель против воли вспомнил собственного отца. Тот никогда не выказывал своей слабости. Даже когда отвел детей в Железный лес на верную смерть. Желчный, почти всегда угрюмый, нескладный, ворчливый — про таких говорят «квартеронская косточка». Возможно, он просто не умел быть слабым. Где-то в поколениях отмерла, никем не замеченная, хромосома, которая отвечала за это умение…
— Королева Лит не имеет отношения к пропаже Бланко, — отчеканил Тревиранус, тяжело дыша. — И мне плевать на слухи. Возможно… Да, возможно, плохие отношения с мачехой заставили принцессу покинуть дворец. Я допускаю это. Бланко была мала, одиннадцать лет. Слишком мала, чтобы понять, отчего королева, заменившая ей мать, относится к ней с презрением. Это больно для ребенка. А я… Я слишком часто был занят. Старый осел. До последнего не замечал, что творится с дочерью. Пока не стало слишком поздно. Найдите ее! Найдите Бланко!
— Мы сделаем все, что в наших силах, — поспешил сказать Гензель, чтобы Гретель не вставила очередную бестактность. — Мы перероем все королевство, если потребуется. Если принцесса жива, мы приведем ее домой.
— Спасибо, сударь Гензель. — Король невесело усмехнулся и в этот миг показался еще более уставшим. Если прежде в его облике угадывались царственные и благородные черты, теперь они казались отступившими в тень, смазанными. Как на картине придворного художника, мастерски написанной много лет назад, постепенно, под воздействием безжалостного времени, смазываются детали. — Ступайте. Впрочем… Стойте. Мне стоит кое-что вам передать.
Тревиранус Первый простер руку, вынуждая Гензеля поспешно шагнуть к трону и почтительно протянуть свою ладонью вверх.
— Возьмите. Если вы встретите принцессу Бланко, передайте это ей.
Гензель ожидал увидеть на своей ладони что угодно. Золотой медальон. Склянку с генозельем. Какую-то памятную безделушку с королевским вензелем. Но там лежал небольшой округлый предмет бледно-зеленого цвета. Совсем легкий и совсем непримечательный.
— Это… Это яблоко, ваше величество?
— Да. Вы знаете, отчего на нашем гербе изображено надкушенное яблоко?
Гензель наморщил лоб. Он слабо знал династическую историю Лаленбурга. Когда путешествуешь в обществе геноведьмы, на историю обращаешь внимание в последнюю очередь.
— Э-э-э… Лаленбург славится яблоками, — пробормотал он, не зная, что делать с зеленым шаром на собственной ладони.
По меркам Лаленбурга яблоко было не очень-то привлекательным. Совсем небольшое, пожалуй, даже мелкое, зеленое, какое-то потертое… Такие яблоки почти всегда оказываются ужасно кислыми, стоит лишь откусить. Даже просто глядя на него, Гензель ощущал, как во рту скапливается слюна. Совсем не похоже на яблоко королевского сорта. Скорее, на дрянное яблоко, завалявшееся у торговца в углу ящика.
— Символизм. Впрочем, едва ли вы, квартероны, понимаете его суть. — Тревиранус невесело усмехнулся, убрав с высокого лба седую прядь. — Когда-то один из первых людей, тех самых, что считаются святыми, откусил кусок от запретного плода с дерева знаний. Ему было запрещено это делать. Более того, он не мог не понимать, что это абсолютно безрассудно с точки зрения логики. Бесконечную мудрость нельзя усвоить, просто откусив кусок яблока. Более того, содеянное навсегда отвратило бы его от высшей милости. Понимал ли это человек? Конечно же понимал. Но все равно откусил яблоко. Почему?
— Не знаю, — признался Гензель, все еще держа зеленое яблоко на ладони. Сперва казавшееся невесомым, оно делалось все тяжелее с каждой секундой.
— Потому что он был человеком. А человек — это единственное существо на свете, которое способно вести себя нелогично. Не так, как подсказывает разум, а так, как ему заблагорассудилось. В этом и заключается свобода человеческой воли, которой ни один геномастер не нащупает в хромосомах. Возможность поступать вопреки логике. Бессмысленно. Наперекор всему. Вы даже не представляете, какой это великий и сложный дар.
Гензель бросил короткий взгляд на Гретель: «Молчи!» Гретель скривилась, но смолчала, и Гензель ей был за это благодарен. Если Гретель промолчит достаточно долго, возможно, у них и в самом деле есть шанс выйти живыми из королевского дворца.
— Мы должны передать яблоко принцессе? — уточнил Гензель. — Это особенный дар? Она поймет?..
— Принцесса Бланко терпеть не могла символизма, — улыбнулся Тревиранус. — Она готова была заснуть всякий раз, когда я пытался рассказать ей о сути нашего герба. Нет, дело в другом. Пусть она съест яблоко. Или хотя бы откусит от него кусок.
— Геномагия? — спросила Гретель требовательно.
Сделав короткий шаг, она взяла из рук Гензеля яблоко и внимательно его осмотрела. Хладнокровно и пристально, точно была большим анализирующим прибором, изучающим образец. Но Гензель был уверен, что ничего примечательного сестра в этом крошечном яблоке не найдет. Для некоторых вещей требуется нечто большее, чем зоркие глаза.
— Геномагия, — кивнул король. — Вы сможете сделать пробу?
— Только поверхностную. У меня с собой лишь полевой набор. Для полноценного разбора на хромосомы требуется лаборатория.
— Тогда вам придется поверить королю на слово. — Улыбка Тревирануса была такой же кислой, как само яблоко. — Я не настолько сошел с ума от горя, чтобы пичкать свою единственную дочь неизвестными и потенциально опасными генозельями. Но яблоко это и в самом деле особенное. Когда-то геномастера изготовили для меня несколько сотен таких. Магия, заключенная в нем, ориентирована на генетический материал принцессы Бланко. И как только она откусит хотя бы малейший кусочек…
— Лишится чувств? — предположила Гретель, пряча яблоко в перекинутую через плечо сумку. Не почтительнее, чем если бы это было обычным яблоком, купленным у Русалочьих ворот. — Что ж, так нам будет легче ее транспортировать.
Король покачал головой.
— Она ощутит ностальгию. Краткий минутный приступ ностальгии по прежним временам. Просто возбуждение определенных участков мозга, только и всего.
— Зачем это, ваше величество? — не понял Гензель.
Гретель, вероятно, поняла. По крайней мере, она промолчала.
— Я опасаюсь того, что бегство из дома и прожитые вдали от него годы могли ожесточить ее. Если она бежала от страха, этот страх может быть все еще властен над ней. Ей будет тяжело вернуться, если дом видится ей кошмаром из детства. Ностальгия — сладкий, но безвредный яд, судари. Попробовав яблоко, она вспомнит своего старика-отца и, быть может, осознает, что разбила ему сердце своим бегством. Я лишь хочу, чтобы она почувствовала и поняла.
— Мы найдем принцессу, — Гензель почтительно поклонился, — и передадим ей яблоко. Даю слово, ваше величество.
Тревиранус удовлетворенно кивнул. Выглядел он еще более усталым, чем в начале аудиенции. Сейчас он едва ли смог бы встать с трона без посторонней помощи.
— Надеюсь, так и будет. Ступайте. Переверните мое королевство вверх дном, но найдите принцессу. И верните домой. Все. Вы свободны, судари квартероны.
Король прикрыл глаза. Видимо, это было знаком конца аудиенции. Но все равно прошло несколько секунд, прежде чем Гензель решился сойти с места.
4
После атмосферы Малого зала для аудиенций даже душный и тяжелый воздух дворцовых покоев показался Гензелю сытным и сладким. Отряд херувимов, от невинных розовощеких лиц которых Гензеля передергивало, ждал их на прежнем месте, вероятно, чтобы конвоировать к выходу из дворца. Впрочем, сейчас их присутствие уже не заботило его так, как часом раньше.
Гретель молчала, глядя себе под ноги. Гензель не сомневался, что она будет молчать всю дорогу. Геноведьмы никогда не мучаются отсутствием общения и способны молчать бесконечно долго, находясь в своем внутреннем мире, который от присутствия человека отгорожен непроницаемыми стенами. В этом мире не было надоедливых людишек с их смешными и мелочными страстями, не было суеты и нелогичности. Именно поэтому Гретель проводила в этом мире большую часть своей жизни, выныривая лишь тогда, когда ей требовалось сообщить нечто по-настоящему важное. Иногда Гензелю казалось, что в какой-то момент Гретель просто забудет вынырнуть. Так и останется где-то там, в невидимом, пропитанном геномагией измерении, не имеющем связи с физическим миром. Как его собственная акула. Когда-нибудь она просто исчезнет. Останется лишь оболочка с широко открытыми прозрачными глазами, в которых не больше мысли, чем в чисто вымытых окнах пустого дома.
— Правильно говорят: если вздумал связываться с геноведьмой — выворачивай карманы, — вздохнул Гензель. — Я надеялся, нам удастся что-то заработать в Лаленбурге. А теперь выходит, что ничего, кроме трат, нас здесь не ждет.
— Траты? — эхом отозвалась Гретель. Судя по тому, что глаза у нее даже не моргнули, вопрос был не только риторическим, но и бессмысленным. Всего лишь имитация человеческого поведения. Мимикрия под живого человека.
— Нам придется сделать припасы. Возможно, купить коня. Это солидные траты.
— Конь?..
— Боюсь разочаровать тебя, сестрица, но цверги — дикие хищники, они не живут в городах. Более того, все их ближайшие логова разорены. Это значит, что нам придется отправиться весьма далеко. Причем накануне зимы, что особенно замечательно. Я-то думал, зиму мы проведем в тепле, под крышей, поедая моченые, сушеные и печеные яблоки… А придется тащиться туда, куда Человечество и носу не совало. Тританомалия по седьмой хромосоме! Тут уже не до денег. Вернуться бы из таких поисков живыми…
— Мы не станем возвращаться, — сказала Гретель. Это было так неожиданно, что Гензель сбился с шага. — И лошадь нам ни к чему. Прямо сейчас мы отправимся на юг, тем же путем, что пришли в город. И если повезет, через три дня уже будем за пределами королевства. И, полагаю, никогда сюда больше не вернемся. Если хочешь, купи себе яблоко на память. Или съешь то, что лежит в сумке.
Гензель уставился на нее, ничего не понимая.
— Но контракт! Ты же заключила контракт с его величеством!
— Минуту назад он был расторгнут.
— Что? Ты так просто можешь отказаться от договора? Просто нарушить слово? Чего тогда оно стоит, слово геноведьмы?
— Слово геноведьмы — всего лишь формулировка, братец. Само по себе оно не может ничего стоить. Я поступаю так, как считаю более рациональным и безопасным. В данном случае это значит как можно быстрее оказаться за пределами королевства.
— Логично, — пробормотал он с отвращением. — Его величество был прав. Все геноведьмы бездушны и холодны как лед. Только логика, только рациональность. А как же святой дар Человечества — возможность поступать так, как кажется правильным, а не подчиняясь логике?
От взгляда Гретель он осекся — взгляд был насмешливым, впрочем, от этого не более теплым, чем обычно.
— Ты отстаиваешь свое право надкусывать любые встреченные плоды? Я его не оспариваю. Но хочу напомнить, что четырнадцать лет назад, когда пытался им воспользоваться, ты чуть не превратился в мертвого рогатого мула.
Гензель оскалился, обнажив полный рот зубов. Насмешки человека, который не имеет ни малейшего представления о чувстве юмора, почему-то всегда оказывались особенно ядовиты.
— Да к черту символизм и надкусанные яблоки! Не в них дело. Принцесса.
— Она мертва, — сказала Гретель, не останавливаясь.
— Мы этого не знаем!
— Мы это знаем с вероятностью в девяносто девять процентов. Логика неумолима, братец, она не делает исключений.
— Даже для геноведьм? — не удержавшись, съязвил он.
— Даже для них. Как и для одержимых гормонами и бессмысленными психологическими установками квартеронов.
И вновь ее шпага оказалась на миллиметр длиннее его собственной. Разила она, как и прежде, без промаха.
— Дело не в принцессе! — запротестовал Гензель, злясь на Гретель, а еще больше — на себя. — Я дал слово его величеству!
Наконец она остановилась. Резко, как кукла, у которой кончился завод. Королевские херувимы, чудовищные силачи с лицами невинных детей, едва не врезались друг в друга.
— Твое слово ничего не значит, — проронила Гретель. — Более того, ты даже не понимаешь, что оно является для тебя источником опасности.
— Еще как понимаю! В том и смысл данного слова, Гретель! Выполнить его во что бы то ни стало, невзирая на опасности, которым себя подвергаешь.
— Бессмыслица. Подобную конструкцию могла породить только примитивная психика, руководствующаяся нелогичными и столь же примитивными принципами. Кроме того, братец, ты ведь солгал, когда сказал, что дело не в принцессе.
— Нет, — сказал он, тщетно пытаясь отвести от нее взгляд.
— Ты слишком любишь сказки, братец. Еще одно твое уязвимое место. Поиск принцессы представляется тебе чем-то увлекательным и романтичным. Настолько, что ты мгновенно забыл про бесперспективность и опасность подобных попыток. Не обижайся. Это характерно для человеческой психики вне зависимости от количества дефектного генокода. Игнорирование очевидных и логичных вещей в ущерб собственным умозаключениям, обычно весьма нелепым и субъективным. Вот и сейчас. Прекрасно понимая, что поиски принцессы опасны и, скорее всего, приведут к нашей смерти, ты все равно решил за них взяться. Это нелогично.
Спорить с Гретель было бесполезно. Всякий раз, когда он позволял себе ввязаться в спор с геноведьмой, кончалось все одинаково. Разгромом наголову. Невозможно спорить с геноведьмой, если ты всего лишь человек. Если каждая твоя клеточка, каждый твой помысел для нее — не сложнее, чем запчасти от разобранных часов.
— Логикой пользуются животные и машины, — парировал Гензель упрямо. — Король был прав, высший дар человека — в возможности от нее отказаться. Идти своим путем. Не всегда логичным, не всегда кажущимся здравым и разумным, но человеческим…
— Что ж, в таком случае ты живешь в мире победившего Человечества. — Гретель отбросила белые пряди со лба. — Того самого, которое, забыв про разум и логику, изувечило свой же генофонд, превратившись в злую пародию на самого себя.
Гензель чуть не прикусил язык. Все верно, сам виноват. Впрочем, он не собирался так быстро сдаваться. И уже хотел возразить, когда из очередной галереи наперерез их конвою внезапно выдвинулась приземистая плотная фигура. Сперва Гензелю показалось, что она облачена в балахон, но почти сразу же он убедился в том, что это монашеская ряса. Ветхая ткань совершенно не вязалась с роскошным убранством дворца, со всеми резными панелями и витражами, но ее обладатель держался так уверенно и спокойно, что совершенно не выглядел здесь чужеродным объектом. Гензель плохо разбирался в санах духовенства Церкви Всеблагого Человечества, но отчего-то был уверен, что перед ними не аколит и не чтец. Судя по всему, священник, не меньше.
Часть его греховной плоти была заменена на механические части и фрагменты. Челюсть была механизирована и лишь обтянута кожей, она мелко подрагивала на шарнирах, отчего казалось, что зубы священника периодически стучат. Один глаз был мутным и желтоватым, как старый, плохо сохранившийся жемчуг. В его глубине маленьким черным зрачком сидел объектив крохотной камеры. В остальном же священник сохранил немало человеческих черт. Правда, глухая ряса не оставляла возможности разглядеть его тело. Наверняка и оно было частично механизированным. По крайней мере, Гензелю казалось, что под рясой что-то едва заметно скрипит, точно там работают изношенные медные шестерни.
Херувимы замерли, встретив эту странную преграду, хотя каждый из них был куда больше и, без сомнения, куда сильнее. Священник обвел взглядом Гензеля и Гретель и сотворил пальцами двойную спираль, священный знак человеческой ДНК. Гензель ответил ему тем же, Гретель удостоила лишь безразличным взглядом. Но священник, кажется, всего этого попросту не заметил.
— Дальше я проведу их сам, — сказал он сухим и гулким голосом. — Ее величество королева желает пригласить этих сударей к себе на аудиенцию. Немедленно.
Гензель и Гретель переглянулись.
— Похоже, у стен тут и в самом деле есть уши, — пробормотал Гензель себе под нос. — Да только выходит, что уши эти — не короля, а королевы…
Гретель шикнула на него. Она была права: нечего язык распускать. Дело-то, похоже, закручивается. Как бы не закрутилось кольцами вокруг них, подобно удаву, и не раздавило…
Херувимы не спорили — видимо, стараниями королевы-мачехи, авторитет Церкви даже в королевском дворце был незыблем. Не удивительно, что монахи разгуливали здесь, как у себя в храме. Они коротко поклонились и отправились восвояси, видимо сочтя свою миссию выполненной. Без их общества Гензель ощутил себя свободнее, хотя воздух во дворце все еще казался ему отчаянно спертым.
— Следуйте за мной, дети мои, — сказал священник суховато, но с достоинством. — Я отведу вас в покои королевы Лит.
В этот раз путь оказался недолог, и на протяжении него и Гензель, и Гретель хранили молчание. Молчал и священник, лишь под его рясой что-то едва слышно скрипело.
У покоев королевы церемониймейстера не оказалось, зато стояло еще двое монахов. Оба были механизированны — у одного тщательно отделанное латунное ухо и металлический штифт в шее, у другого вместо рта на лице помещалась сращенная с кожей решетка репродуктора. Монахи с готовностью распахнули двери, сами же остались охранять покои королевы. С ними остался и священник.
— Ступайте, — мягко сказал он им в спины. — Королева сама примет вас.
Назад: Гензель и Гретель, или Хозяйка Железного леса
Дальше: Америциевый ключ, или Злоключения Бруттино

