Книга: Тайна Патера Брауна (сборник)
Назад: Гилберт Кийт Честертон Тайна Патера Брауна
Дальше: Небесная стрела
Смерть и воскрешение патера Брауна
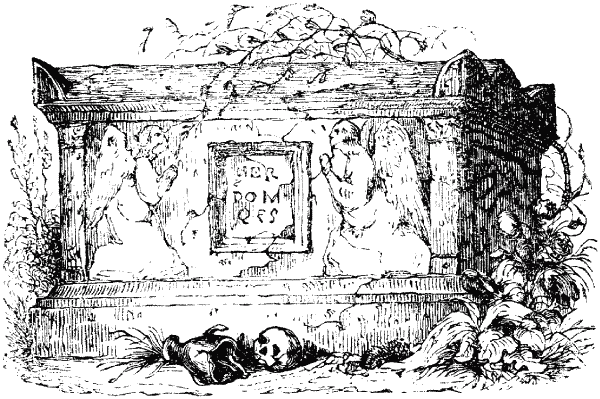
Был период, в течение которого патер Браун пользовался громкой славой, отнюдь его не радовавшей. Газеты кричали о нем, еженедельники полемизировали из-за него; в клубах и гостиных, преимущественно американских, оживленно, хотя и неточно рассказывали о его подвигах. Каким бы нелепым и невероятным это ни показалось всякому, кто знал священника, – его приключения служили даже сюжетом для коротких рассказов, печатавшихся в еженедельных журналах.
Странно, что этот блуждающий сноп прожектора нащупал его в самом глухом или во всяком случае отдаленном из тех многочисленных уголков земного шара, которые служили ему местом пребывания. Он как раз был послан в качестве миссионера, или приходского священника, в одну из тех областей северного побережья Южной Америки, где страны-лоскутки то непрочно прилепляются к европейским державам, то начинают усиленно грозить, что превратятся в независимые республики под защитой исполинской тени президента Монро.
Жители этих стран были в основном краснокожие и темнокожие, словом, испано-американцы и главным образом индейцы; но попадались и значительные, все расширяющиеся прослойки американцев северного типа, а также англичан, немцев и прочих.
Началось все с того, что некий приезжий из последней категории, совсем недавно высадившийся на берег и очень раздосадованный исчезновением одного из своих дорожных мешков, подошел к первому попавшемуся ему на глаза зданию с примыкающей к нему часовней, которое оказалось домом миссионера. Вдоль дома тянулась веранда, которую окружал ряд столбов, обвитых черными виноградными лозами с угловатыми, красными в эту осеннюю пору листьями. За столбами восседали, также в ряд, несколько человек, почти столь же неподвижных, как и сами столбы. Их широкополые шляпы и немигающие глаза были черны, а цвет кожи наводил на мысль о красном дереве тамошних лесов. Многие из них курили длинные, тонкие сигары, и во всей группе только дым и шевелился.
Приезжий, по всей вероятности, принял всех сидевших за туземцев, хотя многие из них гордились своим испанским происхождением. Впрочем, приезжий вообще не склонен был проводить тонкие различия: испанцы, краснокожие – не все ли равно! Как только он решил, что эти люди – туземцы, он настроился игнорировать их.
Журналист из Канзас-Сити, он был худощавым, начинающим лысеть мужчиной, с носом, который английский писатель Меридит назвал бы предприимчивым; казалось, этот нос нащупывает путь и шевелится, как хобот муравьеда. Фамилия его была Снейт; родители, по каким-то неведомым соображениям, нарекли его Солом – это обстоятельство он по возможности тактично скрывал. В конце концов он пошел на компромисс и стал называться Полом, хотя далеко не по тем причинам, которыми руководствовался апостол Павел, просвещавший язычников. Напротив, поскольку ему приходилось иметь дело с подобными вещами, имя гонителя подошло бы ему больше, ибо к организованной религии он относился с пренебрежением, которое можно позаимствовать скорее у Ингерсолла, чем у Вольтера.
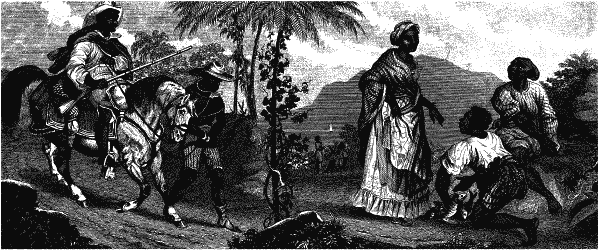
Эта-то черта – не из самых главных в его характере – заговорила в нем, когда он очутился лицом к лицу с домом миссионера и группой людей на веранде. Беззастенчивое спокойствие и невозмутимое равнодушие последних разожгло в нем безумную жажду действия. И, после того как ему не удалось добиться определенного ответа на свои вопросы, он сам взял слово. Стоя на самом солнцепеке, в панаме и щеголеватом костюме с иголочки, с крепко зажатым в руке дорожным мешком, он заговорил, обращаясь к людям, сидевшим в тени. Он начал с громогласного объяснения – на случай, если такие мысли прежде их не посещали, – объяснения, почему они ленивы, грязны и чертовски невежественны, хуже тех животных, что не выдерживают борьбы за существование и погибают. По его мнению, всем этим они были обязаны пагубному влиянию священников, из-за которых они обнищали и пали настолько низко, что теперь могли только сидеть в тени да курить, ничего не делая.
– Какой же вы мягкотелый сброд! – говорил он. – Позволяете этим фиглярам запугать вас только потому, что они ходят в своих митрах и тиарах, в золотых ризах и прочей ветоши и глядят на каждого так, будто он пыль у них под ногами! Они способны одурачить вас коронами, да балдахинами, да святыми зонтами! Все из-за того только, что напыщенный старикашка – первосвященник какого-то Мумбо-Джумбо – держит себя так, словно он царь земли. А вы что же? На кого вы похожи, простофили вы несчастные?! Говорю вам: вот почему вы пятитесь назад к варварству, не умеете ни читать, ни писать, ни…
В это время из дома торопливо вышел первосвященник, не очень-то смахивавший на царя земли, а скорее похожий на бесформенную подушку, на которую надели подержанное черное платье. На нем не было тиары (если допустить, что он таковую вообще имел) – ее заменяла потрепанная широкополая шляпа, мало чем отличавшаяся от шляп испанских индейцев и к тому же съехавшая на затылок.
Он уже собирался заговорить с неподвижными туземцами, как вдруг заметил незнакомца и поспешил спросить:
– О! Чем могу служить? Не угодно ли вам зайти?
Мистер Пол Снейт вошел в дом. И с этого момента его запас сведений стал быстро пополняться. Надо полагать, инстинкт журналиста одержал в нем верх над предрассудками – это часто наблюдалось у бойких представителей его профессии. Он задал основательное количество вопросов, ответы на которые крайне заинтересовали и удивили его. Он узнал, например, что индейцы умеют читать и писать – их этому научили, но что читают и пишут они лишь в тех случаях, когда этого нельзя избежать, так как предпочитают более непосредственные способы общения. Эти странные люди, восседавшие на веранде так неподвижно, что ни один волос у них не шевелился, умели, как оказалось, трудиться в поте лица на земле, в особенности те из них, которые были больше чем наполовину испанцами. Журналист с удивлением услышал, что у них есть клочки земли, действительно составляющие их неотъемлемую собственность. За это последнее нововведение туземцы, видимо, держались упорно. Но и патер Браун сыграл тут некоторую роль. В этом выразилось его вмешательство – в первый и последний раз – в политику, и то чисто местного масштаба.
Недавно эти края посетила одна из тех эпидемий атеистического и почти анархического радикализма, которые время от времени вспыхивали в странах латинской культуры; они зарождались в большинстве случаев в виде какого-нибудь тайного общества и заканчивались почти всегда гражданской войной. Лидером партии иконоборцев был здесь некий Альварес, авантюрист довольно колоритного вида, по национальности португалец, а по слухам – наполовину негр. Он возглавлял целый ряд лож и храмов для посвященных, которые в этих странах даже атеизму придавали характер мистицизма.
Лидером консервативной партии было лицо куда более заурядное – весьма состоятельный человек по фамилии Мендоза, владелец нескольких фабрик, человек почтенный, но для роли героя не очень-то подходящий.
Согласно общему мнению, дело партии, стоявшей на стороне закона и порядка, было бы окончательно проиграно, если бы она не приняла тактику, которая имела все шансы стать популярной, – не начала поддерживать туземное население в его стремлении сохранить землю. Патер Браун отстаивал эту идею с самого начала.
Миссионер еще говорил с журналистом, когда вошел Мендоза, лидер консерваторов. Это был тучный смуглый человек с лысым грушевидным черепом и круглым, тоже грушевидным туловищем. Он курил пахучую сигару, но, войдя, отбросил ее несколько театральным жестом и поклонился, весь изогнувшись, хотя подобной гибкости от столь дородного джентльмена совершенно нельзя было ожидать. Он всегда следил за всеми своими движениями, в особенности перед лицом религиозных установлений. Будучи мирянином, он был даже больше церковником, чем сами церковники. Патера Брауна эта его манера всегда стесняла, особенно в частной обстановке.
«Должно быть, я антиклерикал, – с тонкой улыбкой говаривал патер Браун, – так как нахожу, что клерикализм был бы далеко не так опасен, если бы им не занимались миряне».
– Как! Мистер Мендоза! – обрадованно воскликнул журналист. – Мы, кажется, уже встречались? Не были ли вы в прошлом году на Конгрессе торговли в Мексике?
Тяжелые веки мистера Мендозы дрогнули – он узнал.
– Припоминаю, – произнес он с ленивой улыбкой.
– Сколько дел было обстряпано за каких-нибудь два часа! – продолжал Снейт. – Вам, кажется, Конгресс тоже пошел на пользу.
– Мне повезло, – скромно сказал Мендоза.
– И не говорите! – воскликнул с энтузиазмом Снейт. – Удача приходит к тем, кто умеет за нее ухватиться. А вы цепко ухватились! Однако… надеюсь, я вам не мешаю?
– Ничуть. Я частенько позволяю себе навестить патера, чтобы немного потолковать с ним. Только с этой целью.
По-видимому, то обстоятельство, что патер Браун близко знаком с преуспевающим и даже знаменитым дельцом, окончательно примирило с ним практичного мистера Снейта. Миссия, на его взгляд, обрела более респектабельный вид, а всякие напоминания о религии – каких трудно было избежать ввиду близости часовни – он решил игнорировать. Снейт пришел в полный восторг от программы священника, по крайней мере в части светской и социальной. И заявил, что в любой момент готов сыграть роль живого телеграфа, чтобы оповестить о ней весь мир. С этой минуты патер Браун стал находить, что симпатизирующий журналист гораздо докучливее журналиста-антагониста.
Мистер Пол Снейт принялся рьяно рекламировать патера Брауна. Он писал в его честь длинные и напыщенные восхваления и отсылал их в свою газету. Делал снимки несчастного священника за самыми обыденными его занятиями, снимки, которые в увеличенном виде появлялись в гигантских воскресных приложениях американских газет. Самые невинные речи патера Брауна он превращал в афоризмы и постоянно одаривал мир каким-нибудь «Посланием от досточтимого джентльмена из Южной Америки».
Будь американцы народом менее восприимчивым, патер Браун надоел бы им до смерти. Но при данных обстоятельствах миссионер получал множество самых выгодных предложений совершить турне по Штатам, читая лекции. А когда он отказывался, ему выражали свое удивление и удваивали гонорар.
При участии мистера Снейта было задумано написать множество рассказов о патере, сделав его кем-то вроде Шерлока Холмса. Когда к священнику обратились за советом и помощью, он взмолился, чтобы его оставили в покое. Но мистер Снейт использовал и этот момент, чтобы завязать полемику: не следует ли патеру Брауну временно исчезнуть по примеру героя доктора Ватсона, хотя бы тем же способом – свалившись со скалы. Патер Браун и на это ответил письменно, что он согласен, если только публикацию рассказов приостановят на некоторое время. Втянутый в эту переписку, он писал все лаконичнее. Наконец, набросав последнюю записку, облегченно вздохнул.
Нечего и говорить, что шумиха, которую подняли на Севере, докатилась и до маленького поста на Юге, где патер Браун рассчитывал жить уединенно, как в изгнании. Англичане и американцы, уже довольно многочисленные в тех местах, возгордились, что среди них есть столь широко прославившаяся личность. Американские туристы – из тех, что в Англии, едва сойдя на берег, громко требуют, чтобы им показали Вестминстерское аббатство, – высаживаясь на этом побережье, громко требовали, чтобы им показали патера Брауна. Еще немного – и пустили бы специальные поезда его имени, а людей толпами приводили бы посмотреть на него как на какой-нибудь памятник.
Особенно надоедали ему мелочные торговцы и лавочники, деятельные и тщеславные, постоянно упрашивавшие его испробовать их товар и дать свой отзыв. Даже если отзыв был дан нелестный, они старались продлить корреспонденцию, чтобы накопить побольше его автографов. Благодаря добродушию патера они добивались от него всего, чего хотели. И случилось, что несколько слов, наспех набросанных им в ответ на обращение некоего франкфуртского виноторговца по фамилии Экштейн, изменили его жизнь.
Экштейн был суетливым человеком со взъерошенными волосами и пенсне на носу, изнывавшим от желания, чтобы патер Браун не только испробовал его знаменитого лечебного портвейна, но и сообщил ему на самой расписке в получении, где и когда именно он будет его пить. Патера Брауна не особенно удивила эта просьба: он давно перестал удивляться взбалмошности рекламщиков. Поэтому он нацарапал несколько слов и перешел к другим, более важным делам.
Его прервали снова: на этот раз принесли записку от его политического противника Альвареса. Последний звал миссионера на совещание, на котором надеялся «прийти к соглашению по одному из кардинальных вопросов»; совещание должно было состояться в тот же вечер, в кафе по ту сторону городской стены. На это патер Браун также ответил запиской, в которой выражал свое согласие, и записку вручил ожидавшему ее посланному – цветущему на вид человеку с несколько военной выправкой. Затем, имея в запасе еще часа два, он снова уселся и попытался заняться своими делами. По истечении этого срока налил себе стакан замечательного вина мистера Экштейна, выпил его до дна, взглянув с оттенком иронии на часы, и вышел в ночь.
Маленький испанский городок был весь залит лунным светом, и живописные ворота, к которым подходил патер Браун, с их аркой в духе рококо и причудливой бахромой из пальмовых листьев, напоминали оперную декорацию. Один большой иззубренный лист при свете луны был похож на черную пасть крокодила. Фантазия патера Брауна не задержалась бы на этом образе, если бы кое-что не привлекло его внимания, от природы настороженного: в воздухе было мертвенно-тихо, ни малейшего ветерка, а между тем поникший пальмовый лист шевелился…
Патер Браун оглянулся кругом и убедился в том, что он один. Последние домики остались позади, да и те были наглухо заперты, с задвинутыми ставнями. Он шел между двух стен, сложенных из больших, бесформенных, хотя и обтесанных камней; кое-где между камнями пробивались странные колючие растения. Стены тянулись параллельно до самых ворот. Не было видно огней кафе, расположенного по ту сторону городской стены, – должно быть, до него было еще слишком далеко. Миссионер видел лишь плиты тротуара, бледно освещенные луной, да несколько грушевых деревьев вдоль дороги.

У патера Брауна была способность предчувствовать беду; он ощутил тревогу, но о том, чтобы повернуть обратно, и не помышлял. Любопытство говорило в нем сильнее, чем даже мужество, которым он, безусловно, отличался. Всю жизнь он жаждал правды, даже в пустяках, порой пытался обуздать себя в этом отношении, но совсем избавиться от своего правдолюбия не мог.
Он миновал, не останавливаясь, ворота, и тут с верхушки дерева на него прыгнул, как обезьяна, какой-то человек и ударил его ножом. В ту же минуту другой человек, быстро продвигавшийся ползком вдоль стены, размахнувшись, хватил его дубинкой по голове. Патер Браун обернулся, зашатался и повалился наземь. На его круглом лице отразилось кроткое недоумение.
В это самое время в том же городке проживал другой молодой американец, полная противоположность мистеру Полу Снейту. Звали его Джон Адам Рейс, и был он инженером-электротехником, которого Мендоза пригласил, чтобы провести электричество в старой части городка.
Рейс значительно хуже, в сравнении с американским журналистом, разбирался в политических играх и всевозможных слухах. Хотя фактически в Америке на миллион таких, как Рейс, приходится всего лишь один Снейт. Рейс ничем не выделялся, кроме того, что исключительно хорошо работал в своей области. Начал он свою карьеру в качестве помощника аптекаря в небольшом селении на западе и выбился в люди лишь благодаря собственным стараниям. Свой родной городок он до сих пор считал центром мира. В ослепительном блеске новейших, необычайных открытий, сам постоянно экспериментируя и творя чудеса со звуком и светом – подобно богу, который создавал новые звезды и солнечные системы, – он ни одной минуты не сомневался в том, что нет ничего лучше, чем его мать, семейная Библия и чопорная мораль тихого городка. Он чтил свою мать так глубоко и трогательно, как умеет чтить только ветреный француз. Он считал заповеди Библии единственно правильными и смутно ощущал, что в современном мире ему недостает их.
Трудно было ожидать от него сочувствия к религиозным крайностям католических стран; и действительно, он сходился с мистером Снейтом в том, что недолюбливал митры и хоругви, хотя и выражал это не так заносчиво. Не нравилось ему ханжество Мендозы, но не прельщал и масонский мистицизм атеиста Альвареса. Пожалуй, вся эта полутропическая жизнь, расцвеченная пурпуром и золотом индейцев и испанцев, была для него чересчур колоритна. Во всяком случае он не лукавил, когда утверждал, что здесь ничто не выдерживает сравнения с его родным городом. Этим он хотел сказать, что где-то есть нечто простое и трогательное, чтимое им превыше всего на свете.
Таково было душевное настроение Джона Адама Рейса, очутившегося в глухом южноамериканском городке. Но с некоторых пор у него появилось странное чувство, которое он не мог объяснить. Оно все росло, хотя совершенно не вязалось с его предрассудками. Дело было в следующем: во всех своих скитаниях он не встречал ничего, что хоть отдаленно напоминало бы ему о старой поленнице дров, о провинциальных правилах приличия, о Библии на коленях матери так, как напоминали круглое лицо и неуклюжий черный зонтик патера Брауна!
Он ловил себя на том, что тайком следил за этой малоприметной и даже комической черной фигуркой, суетливо семенившей взад-вперед, – следил с настойчивостью почти нездоровой, словно видел перед собой живую загадку или противоречие. В самых недрах того, что он ненавидел, он нашел нечто, нравившееся ему против его воли. Как будто его долго терзали черти низшего ранга, а когда дело дошло до самого дьявола, то оказалось, что он наизауряднейшая личность.
В эту лунную ночь Джону Адаму Рейсу случилось выглянуть в окно, и он увидел проходившего мимо демона непостижимой безупречности; в своей широкополой черной шляпе и длинном плаще он шел, волоча ноги, по направлению к воротам, и Рейс провожал его глазами с интересом, который ему самому казался непонятным. Он с удивлением спрашивал себя, куда идет патер Браун и что он затевает. И долго еще не отходил от окна, глядя на освещенную луной улицу, после того как маленькая черная фигурка скрылась из виду. Тут он увидел еще кое-что, также заинтересовавшее его. Двое других мужчин, которых он узнал, прошли мимо освещенного окна. Голубоватый лунный свет выхватил из мрака копну волос, торчком стоявших на голове маленького Экштейна, виноторговца, и вычертил фигуру повыше и потемнее, с орлиным профилем, в старомодном цилиндре, который придавал облику этого человека еще более причудливый вид – точь-в-точь силуэт из пантомимы теней.
Рейс мысленно одернул себя за то, что позволил своей фантазии разыграться: он узнал черные испанские баки и резкие черты лица доктора Кальдерона, почтенного врачевателя города, которого он как-то видел при исполнении профессиональных обязанностей у Мендозы. Однако что-то в манере, с которой эти люди перешептывались и вглядывались в темноту, показалось ему странным. Повинуясь внезапному побуждению, он перешагнул через низкий подоконник и, не захватив с собой даже шляпы, направился вслед за ними.
Он видел, как они исчезли в арке ворот; секунду спустя в той стороне раздался страшный, неестественно пронзительный крик, особенно испугавший Рейса потому, что слов он понять не мог – кричали на незнакомом ему языке.
Еще мгновение – и послышался топот ног, снова крики, неясный гул, из которого выделялись возгласы гнева и боли; потом в собравшейся толпе началось движение, она отхлынула назад, к воротам, и под аркой ворот эхо отозвалось на другой голос, который крикнул, уже на понятном языке:
– Патер Браун умер!
Рейс бегом бросился к воротам, в которых и столкнулся со своим земляком, журналистом Снейтом, смертельно бледным и нервно щелкавшим пальцами.
– Да, это правда, – сказал Снейт тоном, который в его устах был близок к почтительному. – Он отходит. Доктор осмотрел его: надежды нет. Кто-то хватил его по голове дубинкой, когда он вышел из ворот. Бог весть из-за чего. Это будет большая потеря для всей округи…
Рейс ничего не ответил – быть может, не в состоянии был ответить – и побежал дальше к месту происшествия. Маленькая черная фигурка лежала там, где упала, на пустынной каменистой дорожке, кое-где испещренной звездочками зеленых колючек; толпа стояла поодаль. Ее удерживала на расстоянии главным образом жестикуляция некоей исполинской фигуры, маячившей на переднем плане. Многие даже покачивались из стороны в сторону, вторя движениям ее руки, словно это была рука волшебника.
Альварес, диктатор и демагог, был высок ростом и одет всегда в самые яркие цвета. И на этот раз на нем был зеленый мундир с вышивкой, изображавшей нечто вроде серебряных змей, расползавшихся по нему; на шее висел на яркой ленте орден. Курчавые волосы его уже поседели, и, по контрасту с ними, лицо (цвет которого друзья называли оливковым, а враги – метисовым) казалось маской, отлитой из золота. Но в данный момент это лицо с крупными чертами, лицо, в котором была и сила, и ирония, сурово хмурилось. Он объяснял, что ждал патера Брауна в кафе, как вдруг услышал шум, звук падения и, выбежав, увидел распростертое на плитах тело.
– Знаю, что вы думаете, – закончил он, гордо оглядываясь кругом, – и раз сами вы не решаетесь произнести это вслух, то я скажу за вас. Я атеист. Я не могу призывать в свидетели Бога, если моего слова недостаточно. Но клянусь последней крупицей чести, какая остается в душе каждого солдата и каждого человека, что я к этому делу непричастен. И если бы мне попались в руки те, кто это сделал, то я с радостью вздернул бы их на дереве.
– Мы, конечно, очень рады вашему заявлению, – торжественно ответил старый Мендоза, стоявший возле тела своего павшего союзника. – Постигший нас удар чересчур тяжел, чтобы мы сейчас могли сказать больше. Я полагаю, будет пристойнее, если мы унесем тело моего друга и прервем этот стихийный митинг. Насколько я понимаю, – обратился он к доктору, – сомнения, к сожалению, быть не может?
– Ни малейшего, – подтвердил доктор Кальдерон.
Джон Рейс вернулся к себе опечаленный и с ощущением какой-то странной пустоты в душе. «Можно ли ощущать потерю человека, с которым даже не был знаком?» – думал он.
Он узнал, что похороны состоятся на другой день: все придерживались мнения, что нужно как можно скорее покончить с этим делом, потому как опасались мятежа; поводов же для опасений набиралось с каждым часом все больше. Тех краснокожих, которых Снейт видел сидевшими рядышком на веранде, можно было принять за ряд старинных ацтекских идолов, высеченных из красного дерева. Но если бы он видел, что стало с ними, когда они услышали о смерти патера Брауна! Они, безусловно, восстали бы и линчевали бы лидера республиканцев, если бы их не удерживало уважение к гробу их собственного религиозного вождя. Настоящие же убийцы, линчевание которых никого не удивило бы, исчезли, будто в воздухе растаяли. Никто не знал, что это за люди, видел ли их когда-либо покойный. Застывшее у него на лице выражение недоумения, возможно, тем и объяснялось, что он узнал их. Альварес продолжал горячо утверждать, что он к этому делу непричастен, и на похоронах шел за гробом в своем роскошном, зеленом с серебром мундире, как бы бравируя своим уважением к покойному.
Позади дома миссионера каменная лесенка в несколько ступенек вела на отвесную зеленую насыпь, обсаженную кактусовой изгородью. Там-то, на насыпи, и поставили гроб – у подножия большого покосившегося распятия, которое возвышалось над дорогой. Внизу, на дороге, было целое море людей, причитавших и перебиравших четки, – осиротевшее население, лишившееся отца. Альварес держал себя сдержанно и почтительно, хотя все то, что происходило, было прямым вызовом ему. «И кончилось бы, – думал Рейс, – все благополучно, если бы другие оставили демагога в покое».
Рейс с горечью говорил себе, что Мендоза всегда смахивал на глупца, а на этот раз, несомненно, и вел себя соответствующе. Согласно обычаю, распространенному в примитивных обществах, гроб не закрыли и даже лицо оставили открытым. Поскольку это отвечало традиции, вреда от этого быть не могло. Но кто-то из официальных лиц вспомнил французский обычай – говорить надгробную речь у могилы. И Мендоза заговорил; речь была очень длинной, и чем дальше, тем больше падало настроение Джона Рейса, а с ним исчезали и симпатии к религиозному ритуалу. Длинный список самых обветшалых атрибутов святости разворачивался медленно, скучно, как у застольного оратора, который никак не может закончить свою речь. Это уже само по себе было плохо. Но глупость Мендозы дошла до того, что он стал делать выпады и даже бросать оскорбления в адрес своих политических противников. Не истекло и трех минут, как произошел самый настоящий скандал, у которого были весьма неожиданные последствия.
– Зададим же себе вопрос, – высокопарно говорил Мендоза, оглядываясь кругом, – зададим же себе вопрос: можно ли ожидать таких добродетелей от тех, кто в безумии своем отрекся от веры отцов? Да, среди нас есть атеисты, атеисты-вожди, даже подчас атеисты-правители, и их-то гнусная философия и приносит плоды в виде преступлений, подобных этому. Если мы спросим: кто умертвил этого святого человека, то, несомненно, окажется, что…
Африканский дикарь притаился в глазах Альвареса, авантюриста со смешанной кровью. Рейс вдруг понял, что человек этот все-таки варвар и не умеет владеть собой до конца, что весь его просвещенный трансцендентализм недалеко ушел от идолопоклонничества. Как бы то ни было, но Мендозе не удалось закончить фразу, так как Альварес выскочил вперед и завопил во всю мощь своего голоса:
– Кто убил его? Его убил ваш бог! Его собственный бог! Вы сами говорите, что он умерщвляет всех своих верных и глупых слуг, как умертвил вот этого. – Резким движением он указал не на гроб, а на распятие.
Несколько овладев собой, он продолжал все еще сердитым, но более спокойным тоном:
– Я не верю, но вы ведь верите. Разве не лучше обходиться совсем без бога, чем иметь бога, который расправляется с вами таким образом? Я по крайней мере нисколько не боюсь утверждать, что в этом слепом и бессмысленном мире нет силы, которая могла бы услышать ваши молитвы и вернуть вам друга. Как бы вы ни молили Небеса воскресить его, он не воскреснет! Как бы я ни бросал вызов Небесам, чтобы они воскресили его, он не воскреснет! Так вот, проверим: бог, которого нет, бросаю тебе вызов – разбуди этого уснувшего навеки человека!
Все оцепенело кругом – демагог произвел желанную сенсацию.
– Следовало ожидать, – хрипло выкрикнул Мендоза, – раз мы допустили такого, как вы…
Новый голос прервал его – высокий и пронзительный голос с американским акцентом.
– Стойте! Стойте! – кричал журналист Снейт. – Смотрите! Клянусь, я видел, он шевельнулся!
Он взбежал по ступенькам и бросился к гробу, а толпа внизу всколыхнулась, охваченная безумным волнением. Снейт тотчас оглянулся, лицо его выражало величайшее изумление. Он поманил пальцем доктора Кальдерона, и тот поспешил к нему. Когда они оба отстранились от гроба, всем стало ясно, что положение головы патера Брауна изменилось. Толпа испустила вопль, который оборвался на середине, будто повис в воздухе, так как в это время патер Браун вздохнул и приподнялся на локтях в гробу, затуманенным взором глядя на толпу.
Той суматохи, которая поднялась в последующие часы, Джон Адам Рейс, знакомый только с чудесами науки, так и не смог толком описать. Он словно перенесся из мира, ограниченного временем и пространством, в мир невозможного. За полчаса весь город и вся округа превратились в нечто, чего не видели уже многие века: средневековый народ, потрясенный чудом; греческий город, в который к людям сошел Бог. Тысячи людей лежали распростертые на дороге, сотни немедленно дали обет, и даже посторонние, как наши два американца, например, ни о чем другом не могли ни думать, ни говорить. Альварес, как и следовало ожидать, был потрясен и сидел, опустив голову на руки.
Среди этой бури один маленький человек тщетно старался заставить выслушать себя. Голос у него был слабый, а шум вокруг оглушительный. Он делал какие-то неуверенные движения, выражающие, скорее всего, раздражение. Подойдя к самому краю парапета, возвышавшегося над толпой, он махал руками, как пингвин короткими крыльями. Толпа не только шумела, она славословила. И тут патера Брауна в первый раз в жизни охватило крайнее негодование против его детей.
– О, глупый вы народ! Глупый, глупый народ! – крикнул он высоким дрожащим голосом. – Глупый, глупый народ!
Затем вдруг, как бы спохватившись, он шагнул к лестнице и стал торопливо спускаться по ней почти обычной своей походкой.
– Куда вы, отец? – спросил Мендоза еще почтительнее обычного.
– На телеграф, – быстро ответил патер Браун. – Что такое? Нет, конечно, никакого чуда не было! С чего вы это взяли? Чудеса так просто не происходят.
И он проковылял вниз по лестнице, а на пути его люди падали ниц, прося его благословения.
– Благословляю, благословляю, – торопливо говорил патер Браун. – Благослови вас Боже, пусть он поможет вам поумнеть.
И он поспешил на телеграф, откуда послал телеграмму секретарю епископа: «Тут ходят невообразимые толки о чуде. Надеюсь, его преосвященство не поверит. Ничего подобного не было».
Покончив с этим, он зашатался от волнения, и Джон Рейс поддержал его под руку.
– Позвольте мне проводить вас домой, – сказал он. – Вы заслуживаете большего, чем то, что эти люди воздают вам.
Джон Рейс и патер Браун сидели вдвоем в комнате последнего. Стол все еще был завален бумагами, с которыми миссионер возился перед своим уходом из дома; бутылка вина и пустой стакан стояли там, где он их оставил.
– Наконец-то, – почти угрюмо произнес патер Браун, – я могу подумать.
– На вашем месте я пока не стал бы ни о чем думать, – отозвался американец, – вам, наверно, нужно отдохнуть.
– Мне достаточно часто приходилось расследовать убийства, – проговорил патер Браун. – Теперь надо расследовать собственное убийство.
– На вашем месте я выпил бы сначала немного вина, – заметил Рейс.
Патер Браун поднялся, налил себе стакан вина, взял его в руки, рассеянно скользнул по нему взглядом и поставил на прежнее место. Потом он снова уселся и сказал:
– Знаете, что я чувствовал, когда умирал? Вы, пожалуй, не поверите, но это было чувство удивления…
– Вы, должно быть, удивились, что вас ударили по голове, – заметил Рейс.
Патер Браун нагнулся к нему и сказал вполголоса:
– Я удивился тому, что меня не ударили по голове.
Рейс с минуту смотрел на него так, будто находил, что удар по голове оставил как нельзя более заметные следы, но спросил только:
– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать, что дубинка, которой замахнулся тот человек, задержалась у самой моей головы, не коснувшись ее. И в ту же минуту другой малый только сделал вид, будто ударил меня ножом, но даже не оцарапал. Это было как на сцене. Да, именно так. Но самое необыкновенное произошло потом…
Некоторое время он задумчиво смотрел на бумаги, разбросанные на столе, затем продолжил:
– Хотя ни нож, ни дубинка не коснулись меня, я вдруг почувствовал, что у меня подкашиваются ноги, что жизнь уходит из меня. Что-то меня убило, но только не нож и не дубинка. И сейчас я, кажется, понял, что это было.
Он указал на вино, стоявшее на столе. Рейс взял стакан, посмотрел на свет, понюхал.
– Думаю, вы правы, – сказал он. – Я был аптекарским помощником и изучал химию. Не берусь утверждать, не сделав анализа, но тyт что-то неладно. На Востоке, например, есть снадобья, вызывающие сон, который легко принять за смерть.
– Вот именно, – подтвердил патер Браун совершенно спокойно. – По той или иной причине чудо это было подстроено. Похороны инсценированы, причем и время было строго рассчитано. Я готов предположить, что это как-то связано с той манией рекламировать меня, которой одержим Снейт, но вряд ли он зашел бы так далеко только ради этого. Одно дело – фотографировать меня и выдавать за ложного Шерлока Холмса, а…
Он не договорил, и выражение лица его внезапно изменилось. Моргающие веки опустились на глаза, и он привстал, как будто ему не хватало воздуха.
– Что с вами? – спросил его Рейс.
– Странно, невероятно… я был на волосок…
– Разумеется, – сказал Рейс. – Вы были на волосок от смерти.
– Нет, – возразил патер Браун, – не от смерти, а от позора!
Тот уставился на него. И патер Браун почти выкрикнул следующие слова:
– И если бы это был только мой позор! Нет, опозорено было бы все то, что я отстаивал, – сама моя вера! Вот на что они покушались! Вы представляете, что могло произойти? Самый ужасный изо всех скандалов, после того как заткнули глотку лгуну Титусу Отсу!
– Объясните же, наконец, о чем речь, – попросил его собеседник.
– Да, пожалуй, лучше сразу рассказать вам, – согласился патер Браун, усевшись, и продолжал уже спокойнее: – Меня осенило, как только я упомянул о Снейте и о Шерлоке Холмсе. Припоминаю теперь, что я написал по поводу той нелепой выдумки. Ответ вышел будто бы сам собой, а между тем, думается, они искусно довели меня до того, что я написал именно эти слова. Кажется так: «Я готов умереть и ожить снова, подобно Шерлоку Холмсу, если это наилучший выход». Как только я вспомнил об этом, я осознал, что меня не просто так заставляли писать всевозможные вещи, ведь все они сводились к одному… Я написал, например, как пишут соучастнику, что я выпью такое-то вино в такое-то время. Теперь понимаете?
Рейс вскочил на ноги, озадаченный:
– Да, как будто начинаю понимать!
– Они прокричали бы о чуде, а потом опровергли бы его. И, что хуже всего, уверили бы, что я сам был в заговоре! Чудо оказалось бы сфабрикованным нами сообща!
Рейс мрачно взглянул на стол, заваленный бумагами, и спросил:
– Сколько негодяев было в этом замешано?
Патер Браун покачал головой.
– И думать не хочется, сколько их, – сказал он. – Но я надеюсь, что некоторые по крайней мере были простым орудием в руках других. Альварес, вероятно, считает, что на войне все средства хороши, – он странный человек. Мендоза, боюсь, старый лицемер. Я никогда не доверял ему, и он не мог мне простить моего поведения в одном коммерческом деле. Однако со всем этим можно пока подождать. Но как я счастлив, что немедленно телеграфировал епископу…
Джон Рейс, казалось, задумался.
– Вы рассказали мне много такого, чего я не знал, – проговорил он наконец, – а мне хочется поведать вам одну вещь, которая не известна вам. Я прекрасно понимаю, на что рассчитывали эти субъекты. Они не сомневались, что каждый смертный, проснувшись в гробу и узнав, что он попал в святые и стал ходячим чудом, поддался бы общему увлечению и принял бы корону славы, которая свалилась на него прямо с неба. И я считаю, что психологически расчет их был совершенно верен, – таков человек. Я видел разных людей, в разных местах, но, скажу вам откровенно, не думаю, чтобы на тысячу нашелся хотя бы один, который очнулся бы таким образом, с настолько ясной головой и, даже не совсем придя в себя, проявил бы столько здравого смысла, столько простодушия, столько смирения, что…
Рейс сам удивился своему волнению; всегда ровный голос его дрожал.
Патер Браун рассеянно покосился на бутылку, стоявшую на столе.
– А не распить ли нам бутылочку настоящего винца? – сказал он.
Назад: Гилберт Кийт Честертон Тайна Патера Брауна
Дальше: Небесная стрела

