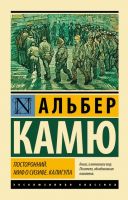Книга: Евангелие от Пилата
Назад: Пролог Исповедь приговоренного к смерти в вечер ареста
На главную: Предисловие
Евангелие от Пилата
Пилат своему дорогому Титу
Я ненавижу Иерусалим. Здешний воздух есть сводящая с ума отрава. Все искажено в этом лабиринте улиц, проложенных не для того, чтобы вести в нужном направлении, а для того, чтобы человек потерялся в них. На дорогах здесь не двигаешься, а постоянно с кем-то сталкиваешься. Сюда стекаются со всего Востока разноязыкие племена, и люди говорят, только чтобы не слышать друг друга. Здесь слишком пронзительно кричат на улицах и слишком тихо шепчутся по домам. Здесь не соблюдают римский порядок, потому что его ненавидят. Город задыхается от лицемерия и подавленных страстей. Даже солнце, выглядывающее из-за крепостных стен, смотрится предателем. Здесь невозможно поверить, что одно и то же светило сияет над Римом и ползет над Иерусалимом. Солнце Рима дарит свет. Солнце Иерусалима сгущает тени: оно создает темные уголки, в которых плетутся заговоры, коридоры, по которым разбегаются воры, возводит храмы, куда римлянин не имеет права ступить. Солнце-светило против солнца-слепца – я променял первое на второе, когда согласился стать прокуратором Иудеи.
Я ненавижу Иерусалим. Но есть кое-что, что я ненавижу больше Иерусалима. Это – Иерусалим во время Пасхи.
Я не писал тебе целых три дня, поскольку не мог ни на мгновение ослабить бдительность. Праздник Опресноков приводит мои нервы в полное расстройство, а моих людей держит в постоянной тревоге: я удваиваю количество солдат-стражников, постоянно рассылаю патрули, отправляю соглядатаев на разведку, выжимаю стукачей, как апельсин, – словом, не смыкаю глаз. Если Израиль вздумает угрожать Риму, он выберет именно три дня пасхальных празднеств. Город переполняется людьми, разбухает, еврейское население увеличивается в пять раз, поскольку все стремятся в Храм, чтобы вознести молитвы своему единственному Богу. По ночам те, кто не нашел пристанища на постоялых дворах или в домах, собираются под стенами города или заполоняют окрестные холмы, где спят вповалку под открытым небом. Днем их религия требует жертвоприношений и превращает Иерусалим в громадную ярмарку скота, окруженную бойнями. Тысячи животных ревут сначала в смертном страхе, а потом в смертной агонии. По земле растекаются и густеют кровавые реки. Люди собирают шкуры, шерсть, перья – все это сушится прямо на улице и издает невыносимое зловоние. Везде горят костры, их дым поднимается в небо, пачкая сажей стены. Всепроникающая вонь горящего жира наводит на мысль, что Иерусалим сгорает на костре, принося себя в жертву какому-то ненасытному богу. Все эти три дня я не спускаюсь с террасы и с отвращением разглядываю город, заполненный толпами людей. Я слышу доносящиеся с забитых народом улиц крики проводников, сзывающих паломников, чтобы показать им могилы пророков. Отовсюду доносится жалобное блеяние ягнят, призывное посвистывание блудниц из подворотен. Иногда толпу разрезает серебристая молния – один из голых воров, натершийся маслом, выскальзывает из рук преследователей, оставляя позади себя зиять пустые кошельки и бушевать бурю проклятий.
Ежегодно в эти три дня я боюсь всего на свете. И все же ежегодно я справляюсь со всеми трудностями. Все всегда оканчивалось благополучно. Никогда не происходило тревожных событий. На этот раз для поддержания порядка нам пришлось прибегнуть к пятнадцати арестам и распять троих человек, что намного меньше, чем в прошлые годы.
А значит, я смогу со спокойной душой отбыть в Кесарию, где я себя так хорошо чувствую, ведь это – современный римский город, разделенный на квадраты, приятно пахнущий кожей и казармой. Там, в своей крепости, мне иногда удается забыть о волнениях, хватающих меня за глотку в Палестине. В момент, когда я заканчиваю это письмо, разгорается утренняя заря. Наступает воскресенье, и скоро я велю складывать вещи. Как обычно, ночь прошла за беседой с тобою.
Иудея лишает меня сна уже давно, но эти жаркие ночи позволяют нам, дорогой мой брат, поддерживать нашу переписку.
Протягиваю тебе руку из Палестины в Рим. Прости меня за всегдашнюю сухость стиля и береги здоровье.
Пилат своему дорогому Титу
– Тело исчезло!
В момент, когда я сворачивал свиток с адресованным тебе письмом, центурион Буррус принес мне эту ошеломляющую весть.
– Тело исчезло!
Я сразу понял, что он говорил о колдуне из Назарета. И сразу увидел, какие неприятности меня ожидают, если немедленно не отыскать труп.
Позволь мне в нескольких словах изложить дело назареянина.
Вот уже несколько лет во всей Иудее говорят о некоем Иисусе, раввине-отступнике. Сначала он ничем не отличался от других: невзрачная внешность, говор галилейского бедняка. Но главное, он происходил из захолустного Назарета, а этого вполне достаточно, чтобы он не приобрел особой популярности. Но его таинственные обескураживающие речи, его двусмысленные фразы, его восточные притчи, иногда умиротворяющие, а иногда воинственные, его благожелательное отношение к женщинам, короче говоря, его странности позволили ему постепенно покорить души людей. Как только он начал шествие по Палестине, я послал по его следу людей. Они отписали мне, что новоявленный проповедник выглядит безобидным, ограничился религиозным поприщем, а его врагами, по его же словам, были скорее еврейские священнослужители, чем римские завоеватели. Мои люди немало всему этому подивились.
Для пущей осторожности я, чтобы выведать планы Иисуса, внедрил своих соглядатаев в группу его учеников, которая росла по мере его странствий, питаясь его словами…
Здесь в лоне любой религиозной секты скрыты политические интересы. С тех пор как Рим установил свой порядок, ввел войска и поставил свою администрацию, оставив местному населению свободу исповедания культов, религиозный экстаз стал проявлением своеобразного бунтарства, священным убежищем, где зреет сопротивление кесарю. Я подозреваю, что многие называют себя евреями, дабы возвестить: «Я против Рима». Фарисеи и даже подконтрольные мне саддукеи поклоняются своему единому Богу только ради того, чтобы крепче противостоять нашим богам и всему тому, что мы несем на покоренные земли. Что касается зелотов, ярых врагов кесаря и врагов любого, кто сотрудничает с кесарем, то они – опасные фанатики, ненавидящие нас, разбойники, не уважающие ни один закон, даже собственный, считающие греховным все то, что сами осуждают. Они могли бы, не будь я настороже, своей варварской энергией поколебать нашу власть и даже уничтожить собственную страну. Поэтому я хотел достоверно знать, к кому примкнет этот Иисус, к зелотам, фарисеям, саддукеям или он действительно является наивным верующим, как мне доносили. Я хотел выведать, какая группа собирается воспользоваться его популярностью и превратить его в средство борьбы против меня. К моему величайшему удивлению, ничего похожего не произошло. Колдун, как я его называю, только настроил против себя всех и вся. Зелоты возненавидели его, когда он оправдал присутствие моих войск и римский налог, заявив: «Отдайте кесарево кесарю». Фарисеи уличили его в нарушении закона, когда колдун презрел субботу. Что касается саддукеев, консерваторов и старших храмовых служителей, то они не могли стерпеть наглости этого учителя, который предпочитает говорить о здравом смысле, а не долдонить одни и те же слова из труднопонимаемых священных текстов. К тому же они опасались за свою власть, а потому добились в эти самые дни казни колдуна.
«Эка важность? – скажешь ты. – Твои враги сами избавляются от потенциального противника! Ты должен только радоваться…»
Конечно.
«К тому же он мертв, – добавил бы ты. – Тебе больше нечего бояться!»
Конечно.
Но есть опасение, что в этом деле была допущена некая поспешность. Я не осуществил правосудия, римского правосудия, а исполнил их правосудие, правосудие моих противников, правосудие саддукеев, одобренное фарисеями. Я избавил евреев от еврея-отступника. В этом ли состояла моя роль?
Во время следствия Клавдия Прокула, моя супруга, не переставала упрекать и осуждать меня.
Обратив ко мне свое тонкое серьезное лицо, никогда не омрачаемое страстями, она долго смотрела на меня.
– Ты не можешь так поступить.
– Клавдия, этого колдуна мне передали священнослужители синедриона. Как прокуратору мне не в чем его упрекнуть, но, будучи прокуратором, я обязан идти навстречу просьбам служителей, если хочу поддерживать мир с Храмом. Как, ты думаешь, управляет властитель? Он должен заставить всех поверить, что управляет именно он, но его решения диктуются желанием поддерживать равновесие, целесообразностью.
– Ты не можешь так поступить со мной.
Я опустил глаза. Я не мог вынести взгляда этой женщины, которую обожаю и которой обязан своей карьерой. Клавдия – и тебе это прекрасно известно – не только решила выйти замуж за безвестного провинциала, преодолев сопротивление всех своих близких, но и добилась от них, чтобы меня назначили на важный пост, сделав прокуратором Иудеи. Я никогда бы не получил такого назначения без ее протекции, ее обаяния и поддержки. Клавдия Прокула любит меня и уважает, но, как любая знатная римлянка, она привыкла высказывать свое мнение и вступать в дискуссии с мужчинами. Я бы не потерпел такого ни от одной другой женщины, и иногда мне трудно обуздать свое мужское самолюбие. Я предпочитаю не затыкать ей рот, а выслушивать ее доводы. Дабы мой престиж не пострадал в глазах окружающих, я требую лишь не спорить в присутствии посторонних. Теперь она пользуется нашим уединением для пылких словопрений.
– Ты не можешь так поступить со мной. Без Иисуса меня бы уже не было в этом мире.
Она говорила о своей долгой болезни. Несколько месяцев Клавдия медленно теряла свою кровь. Я приглашал всех врачей Палестины, римлян, греков, египтян и даже евреев, но ни один не смог остановить кровотечение, которое обычно у женщин длится четыре дня в месяц, но которое почему-то никак не прекращалось у Клавдии Прокулы.
Лицо ее стало безжизненным, утратило все краски, бледность ее губ ужасала меня. При малейшем движении сердце ее начинало яростно биться. Я уже видел день, когда Клавдия перестанет дышать.
Одна служанка рассказала ей о колдуне из Назарета, и Клавдия попросила моего разрешения призвать его. Я согласился, не питая никаких надежд, и даже не присутствовал при их встрече.
Знахарь провел с ней всю вторую половину дня. В тот же вечер кровь перестала истекать из тела Клавдии.
Я не мог в это поверить! Я никак не решался проявить бурную радость по поводу ее выздоровления.
– Что он сделал?
– Мы только говорили, и ничего больше.
– Он тебя не касался, не выслушивал, не прощупывал? Не помазал никакой мазью, никакими эликсирами? Но как он остановил кровь?
– Мы только говорили. И это была очень откровенная беседа…
Она еще не набралась сил, чтобы отвечать мне подробнее, но она улыбалась.
Она выглядела посвежевшей, ожившей, словно роса этого утра пошла ей на пользу. Она повернулась ко мне и сказала:
– Благодаря ему я примирилась с бездетностью нашего супружества.
Ты знаешь, мой дорогой Тит, как эти римские аристократки преподносят тебе туманную фразу, глядя в упор на тебя, а ты должен притворяться, что все понял, если не хочешь прослыть невеждой. И я принял умный вид, добавив чуть-чуть восхищения во взгляде, ибо, похоже, именно такого выражения чувств ожидала моя супруга. Больше мы об этом не заговаривали.
– Иисус спас меня. Спаси его в свою очередь.
Она напоминала о кодексе чести, не всегда совместимом с обязанностями прокуратора.
– Я велю публично бичевать его. Обычно хорошее кровопускание удовлетворяет толпу. Так ему удастся избежать худшего.
Клавдия молча кивнула. Мы достигли согласия, и оба считали, что таким образом колдун будет спасен.
Но публичная порка не дала желаемого результата. Солдаты вывели приговоренного на террасу крепости Антония и обрушили плети на его спину. Но Иисус, как ни странно, не кричал, не протестовал, даже не хрипел при ударах. Он, казалось, не придавал значения происходящему. Он был безмятежен, его поведение не походило ни на поведение преступника, ни на поведение невинного человека: он следовал судьбе, ужасной, но неизбежной; он принимал муку, отрешившись от окружающего мира. Кожа лопалась, текла кровь, но с его уст не срывалось ни единой жалобы. Иисус бросал вызов судьям и палачам, он обесценивал правосудие, обессмысливал пытку. Толпа была разочарована. Ее возбуждение росло. Она настроилась против Иисуса. Ведь он плохо играл роль наказуемого. Толпа жаждала зрелища, она хотела красивого конца, она требовала смерти.
Я присоединился к Клавдии, укрывшейся в тени башни. Я хотел предупредить ее, что наша уловка не принесла пользы. Но она уже все поняла. И с рыданиями укрылась в моих объятиях.
– Сделай что-нибудь. Умоляю тебя, сделай что-нибудь.
Если бы Иисус смог пролить хоть четверть слез, пролитых Клавдией, он сумел бы склонить толпу к милосердию, я в этом не сомневаюсь. Ради своей жены более, чем для самого колдуна, я должен был найти какой-то выход.
– Обычай! Пасхальный обычай!
Клавдия сразу поняла меня. Она перестала дрожать и наградила меня одним из тех восхищенных взглядов, которые позволят мне считать себя молодым и красивым даже в восемьдесят лет.
Я приказал стражникам привести из темницы знаменитого разбойника, грабителя и насильника. Он проводил в темнице последний день, поскольку во второй половине дня его должны были распять вместе с двумя другими преступниками.
Я обратился к толпе и напомнил ей, что, по обычаю, римский прокуратор освобождал одного из приговоренных в связи с пасхальными торжествами. Я предложил толпе выбрать между Вараввой и Иисусом. Я ни на миг не сомневался в ее решении. Иисус пользовался огромной популярностью и был безобиден, а кровожадного Варавву очень боялись.
Воцарилось удивленное молчание. Все смотрели на окровавленного, едва державшегося на ногах Иисуса, стоявшего с опущенной головой, и на нагло выпятившего грудь Варавву, мускулистого и загорелого. Во взгляде разбойника читался вызов.
Иудеи начали перешептываться. В толпе сновали какие-то люди: я думал, это ученики колдуна пытались склонить присутствующих к счастливому для него решению. Я поднял глаза к крепости и заметил застывшую у окна Клавдию. Мы улыбнулись друг другу.
И народ вынес свой приговор. Он вначале прошелестел, потом набрал силу, превратился в рев – толпа скандировала: «Варавва!»
Я ничего не понимал. Люди требовали освободить вора, насильника, убийцу. Иисус ничего не совершил, только бросал вызов религии, и потому приговаривался к смерти, а Варавва, это сучье отродье, жестокий громила, безжалостный, беспощадный разбойник, от чьих преступлений пострадала не одна семья в этой толпе, Варавва, по их мнению, заслуживал милосердия!
Я был возмущен, разочарован, раздражен, но должен был подчиниться.
Я дал обещание во всеуслышание. Я связал себя словом. Мне оставалось лишь умыть руки.
И я сделал ритуальный жест, означавший, что «это меня больше не касается». Стоя на возвышении над вопящим народом, я велел лить мне на руки теплую воду и, как по волшебству, обрел спокойствие, потирая ладони. Вдруг я заметил, что вода, ударяясь о днище медного таза, засверкала всеми цветами радуги.
В голове мелькнула мысль: на земле Иудеи я представляю не правосудие, а Рим. Но если Рим не осуществляет правосудия на своих землях, то почему я избрал Рим своим повелителем?
Я обернулся и бросил последний взгляд на двух пленников, прежде чем вернуться в крепость. И внезапно понял, что именно изменило судьбы этих двух людей, послав одного на крест, а второго избавив от смерти. Я увидел это лишь издали: Варавва был один из толпы, а Иисус был ей чужд.
Клавдия ждала меня в спальне. Я поглядел на высокую римлянку в светлых одеждах, на ее изящные руки, унизанные тяжелыми браслетами, на аристократку, повергнувшую к своим ногам все семь холмов Рима: она в отчаянии прикусила палец, жалея галилейского оборванца! Она с презрением смотрела из окна на толпу, черты ее лица были напряжены, губы пунцовели от гнева. Она не могла свыкнуться с несправедливостью.
– Мы проиграли, Клавдия.
Она медленно кивнула. Я ждал ее протестов, но она, похоже, смирилась с неизбежностью.
– Ты был бессилен что-либо сделать, Пилат. Он нам не помог.
– Кто?
– Иисус. Он своим поведением призывал к себе смерть. Он хотел умереть.
Быть может, она была права… Ни перед священниками, ни передо мной, ни перед толпой он не сделал ничего, чтобы добиться милосердия. Его суровость неуклонно подталкивала его к смерти.
– Нам остается только ждать, – обронила в заключение Клавдия.
Я недоуменно поглядел на нее:
– Чего ждать, Клавдия? Через несколько часов он умрет.
– Нам остается понять, что он хотел сказать нам своей смертью.
Я люблю Клавдию, но любой умный мужчина, сталкиваясь с умной женщиной, быстро истощает запасы своего терпения. Клавдия относилась к существам, для которых все является знаком судьбы – случайное слово, совпадение мыслей, падение листа, полет птицы, направление ветра, форма облака, глаза кошки или молчание ребенка. Как и оракулы, женщины стремятся наделить разумом все живое и неживое, пытаются прочесть мир, как пергамент. Они не смотрят, они разгадывают. Для них все имеет смысл. Если послание не ясно, значит оно сокрыто до времени. Нет никаких пустот, нет ничего не значащего. Вселенная многолика и многоголосна. Мне хотелось возразить ей, что смерть есть всего-навсего смерть, что своей смертью нельзя подать какой-либо знак. Смерть принимают как данность, и Клавдии никогда не уловить иного смысла в смерти своего колдуна, кроме прекращения жизни. Но в самый последний момент я сдержался. Быть может, чтобы избежать лишних страданий, Клавдия творила мир, где все, даже самое худшее, что-то ей предвещало.
И я, как всегда, сделал понимающее лицо, словно взвешивал слова Клавдии на вес золота, и вернулся к своим центурионам, чтобы отдать распоряжения о казни.
Через несколько часов Иисус умер, а Варавву освободили.
– Тело исчезло!
Теперь ты лучше понимаешь мое удивление, когда центурион Буррус сообщил мне странную новость. Колдун продолжил свои фокусы! Клавдия могла торжествовать.
В сопровождении когорты я немедленно отправился на кладбище, расположенное неподалеку от дворца, чтобы успеть поймать еще не упорхнувшую истину.
Десяток евреев, мужчин и женщин, стояли возле могилы. Наше появление заставило их скрыться в цветущих кустах. Перед разверстой пещерой остались лишь два стража.
По их одеждам я определил, что они принадлежали к охране Каиафы, первосвященника Храма, того самого, кто проявлял наибольшее рвение в желании осудить и убить Иисуса.
– Что они здесь делают?
Центурион объяснил мне, что Каиафа еще с вечера поставил их сторожить могилу, опасаясь, что тело похитят и превратят в объект культа.
– И что же вы видели?
Стражи стояли с закрытыми глазами и ничего не отвечали. Два истукана с грубыми лицами, словно их наскоро вылепил вручную неумелый гончар, не обронили ни слова. Их губы дрожали, но они молчали, опустив плечи и замкнувшись в своем безмолвии.
– Я наказал их кнутом, Пилат, но они утверждают, что ночью ничего не видели.
– Невозможно поверить!
Я приблизился к могиле. Здесь мертвецов хоронят в склепах. Ты таких никогда не видел. В Палестине не роют могил в земле, а долбят скалу, образуя нечто вроде грота. Потом пещеру заваливают огромным круглым камнем, служащим дверью.
Глыбу откатили в сторону, заблокировали жердью, наполовину открыв вход в склеп.
– Почему его вновь открыли?
– Утром женщины хотели возложить пахучие травы, смирну и алоэ, в качестве подношения усопшему.
– А кто именно открыл вход?
– Женщины и оба стража, а поскольку они не справлялись с весом камня, я присоединился к ним во время обхода, – ответил центурион. – Таким образом мы обнаружили, что могила пуста.
Я заглянул в темный грот.
Я никак не мог поверить в историю с исчезновением тела. Если требовалось столько сил, чтобы откатить в сторону камень утром, как колдун смог это сделать в одиночку и к тому же ночью?.. Нет, мысль была абсурдной.
Я вошел в склеп. Я сделал это почти непроизвольно. И удивился сам себе. Зачем врываться в мир мертвых?
Крохотная передняя камера, потом коридор, ведущий в более просторное помещение, где в скале были вырублены три ложа. И все они были пусты. На одном из них виднелись следы пребывания колдуна: бинты, мази и погребальное полотно, простыня очень хорошего качества. На ней виднелись коричневатые пятна крови. Погребальное полотно было аккуратно сложено и оставлено на краю ложа.
Нелепо. Как и исчезновение трупа, это тщательно сложенное погребальное полотно бросало вызов здравому смыслу. Кто снял его с тела? И кому в голову пришло укладывать его в форме правильной геометрической фигуры? Что за безумец орудовал в могиле? Неужели сам колдун был настолько аккуратен, что, придя в себя, инстинктивно…
Я держал ткань и теребил ее пальцами, словно это могло мне помочь найти решение. Мысли мои путались. Меня охватило какое-то отупение. Я уселся на ложе. И представил себя мертвым, запертым в скале на веки вечные, без света – только тонкий лучик солнца из отверстия, где камни плохо прилегали друг к другу. Я представил себе, что превратился в Иисуса, в высокого худого Иисуса, упокоившегося здесь после мук на кресте.
Мои легкие заливал расплавленный свинец. Плечи и грудь под неимоверной тяжестью истончались, расплющивались. Мне хотелось лечь и вытянуться. Из меня словно высосали все силы. Затмение рассудка, то ли наслаждение, то ли недомогание, парализовало мои ноги и волю.
И вдруг я понял, что происходит. Я увидел в углу ворох ароматных растений, смесь смирны и алоэ, их положили здесь, чтобы очистить затхлый, мертвенный воздух, и сейчас они вливали в мои легкие смертельную отраву…
Я напряжением воли заставил себя выбраться из могилы, вылетел из нее как стрела. Резкий солнечный свет был спасительной пощечиной.
Я глянул на сад, на вишневые деревья, усеянные цветами, на ярко-зеленые весенние листья, и здесь, в мире, насыщенном свежестью, наполненном красками и трелями птиц, вдруг засомневался, что смерть существует.
Я подошел к лошади и, прежде чем уехать, в последний раз оглянулся на стражников. Они с тупым видом рассматривали свои ноги.
Понимание пришло в мгновение ока: по их расширенным зрачкам я понял, что они были одурманены. Я заметил два бурдюка, валявшихся неподалеку в траве. Пустых. Достаточно было понюхать горлышко, чтобы ощутить запах снотворного, заглушённого резким и терпким ароматом плохого палестинского вина. Теперь я знал, какой вывод напрашивается: стражей опоили, чтобы они заснули. Поэтому они не могли ни видеть, ни слышать, как воры откатили камень, похитили труп и вновь закрыли могилу. Спектакль отменно подготовили: люди, даже самые трезвомыслящие, должны были обязательно поверить в сверхъестественные способности колдуна.
Я вернулся в крепость и принял необходимые меры: следовало отловить похитителей и отыскать тело Иисуса.
Мои помощники удивились:
– Господин, мы не имеем права заниматься делом об осквернении еврейских могил. Это в ведении Каиафы и его синедриона.
– Я должен обеспечить безопасность в стране.
– Безопасность живых, Пилат, но не безопасность трупов, а тем более трупов евреев, не говоря уже о трупе еврея-преступника.
– Иисус не был ни в чем виновен.
– Однако вы его распяли.
Я ударил кулаком по столу.
– Ваше дело – подчиняться. Если мы позволим людям поверить, что колдун самостоятельно вернулся к жизни, самостоятельно откатил камень от входа в свою могилу, мы станем жертвой непредсказуемых беспорядков, непреодолимых на этой насквозь прогнившей земле, где даже вино и лимоны вызывают приступы лихорадки! Похитители могут вызвать такое сильное возмущение верующих, что вскоре у всего Израиля на устах будет только имя Иисуса, а народ его оплюет нас и постарается вышвырнуть вон нас, римлян, обрекших проповедника на муки. Исчезновение тела может изменить равновесие всех сил, нарушив их расстановку. Если ловким фокусникам удастся провернуть мошенничество со склепом, они поднимут народ против фарисеев, которые ненавидели Иисуса, против саддукеев, которые учинили над ним суд, а потом отдали осужденного мне, чтобы я его казнил, и даже против зелотов, поскольку я предпочел освободить Варавву, одного из их людей, а не Иисуса. Одним словом, если вы не разыщете негодяев, сегодня ночью утерших нос власти, завтра пламя охватит весь Израиль и прольются реки крови. А нам останется только сесть на корабли и отплыть в Рим, при условии, что нас не перебьют до того, как мы доберемся до Кесарии. Я ясно высказался?
Буррус, повинуясь моим распоряжениям, отправился на поиски преступников. Я точно знаю, кто они. Через несколько часов похитители будут разоблачены, и все вернется на круги своя. А пока, мой дорогой брат, я пишу тебе это письмо не только чтобы поставить тебя в известность о происходящем, но и тем самым умерить свое нетерпение. Слуги продолжают укладывать вещи, готовясь к отбытию в казармы. Не сомневаюсь, дело это будет решено в кратчайшие сроки и не задержит меня в Иерусалиме. Напишу тебе о развязке из моей ставки в Кесарии. А пока желаю тебе здравствовать.
Пилат своему дорогому Титу
Последние несколько часов совершенно сбили меня с толку. Реальность восстает против моей логики. А ведь я не из тех восторженных людей, которые приукрашивают действительность, вместо того чтобы видеть ее таковой, какая она есть на самом деле, идеализируют ее, словно далекую, мельком замеченную и достойную любви женщину, наделяя ее множеством добродетелей, вкладывая в ее уста тысячи непроизнесенных ласковых слов, угадывая ее невысказанные пожелания, несущие успокоение, и умолчания, счастливо разъясняющиеся… Нет, я не из тех любовников-мечтателей, творцов красоты, ремесленников добра, золотильщиков идеала. Я не демиург блаженства. Я прекрасно знаю действительность. Хуже того, держу ее под подозрением. Я всегда жду, что она окажется уродливей, чем кажется, более жестокой, более скользкой, более извращенной, двусмысленной, коварной, мстительной, эгоистичной, жадной, агрессивной, несправедливой, двуличной, равнодушной, напыщенной… Одним словом, разочаровывающей. А потому не расстаюсь с действительностью, охочусь за ней, иду по ее следу, высматриваю все ее слабости и вынюхиваю ее вонь, выжимаю из нее все ее гнусные соки.
Эта прозорливость придает моей жизни горький привкус, но превращает меня в умелого прокуратора. Никакие речи, даже самые льстивые, самые медоточивые, расцвеченные обещаниями, не мешают мне разобраться в игре тайных сил. Поскольку мой разум подобен остро заточенному топору мясника, я довольно редко ошибаюсь. Привыкнув отбрасывать благоприятные перспективы, я часто иду к цели напрямик, и иду быстро.
Но сейчас у меня складывается впечатление, что я топчусь на месте или хожу кругами по арене.
Вчера, во второй половине дня, мои люди отыскали следы учеников колдуна. Приверженцы Иисуса укрылись в заброшенном поместье неподалеку от Иерусалима.
Я взял отряд из двадцати человек и покинул дворец. За вратами города мы обогнали богомольцев. После ежегодного паломничества они возвращались к себе домой. Их обсчитали владельцы постоялых дворов, их обманули торговцы, их обобрали священнослужители, но у всех у них были спокойные лица и в глазах читалось удовлетворение людей, исполнивших свой долг.
Позади нас, в глубине долины, высился Иерусалим, окруженный стенами, с горделивыми башнями дворца Ирода Великого, с монументальной громадой Храма, чьи беломраморные портики блестели на солнце позолотой. Я пожал плечами: да, это была столица, но столица восточная, кичащаяся роскошью, претенциозная, шумная, столица религиозной лжи, столица, где наживаются на наивных душах, столица, где манипулируют сердцами, где умы пытают виной и покаянием, цитадель суеты сует. На нее обрушился этот колдун из Назарета. И я полностью разделял его ярость.
Когда мы миновали перевал, Буррус указал на овчарню внизу. Проломы в крыше свидетельствовали о том, что скот здесь больше не держат.
– Тут они прячутся.
Я разделил отряд, чтобы окружить дом и не дать людям возможности разбежаться. Потом, по моему знаку, мы галопом поскакали к дому.
За стенами было тихо. Пришлось войти внутрь и по одному вывести дрожащих учеников.
Подозреваемых построили передо мной. От их тел несло сильным звериным запахом, запахом страха и паники, запахом обреченных на смерть. Они подумали, что я пришел их арестовать и подвергнуть той же участи, что и их наставника. Опасаясь, что я распну их, они обливались потом, вены их вздулись, глаза почти вылезли из орбит. В отличие от Иисуса, они не умели сдерживать свои инстинкты.
Я не ошибся: их было достаточно, чтобы тихо откатить камень в сторону и похитить труп. Говорили, что они бежали из Иерусалима в день ареста Иисуса и не присутствовали на его казни, опасаясь, что толпа или священнослужители возьмутся после учителя за учеников. Но кто может доказать, что это была не трусливая предосторожность, а точный расчет? Они скрылись на время, пока тянулась мучительная казнь, а потом похитили тело с такой ловкостью, что всем оставалось только поверить в то, что колдун исчез без постороннего вмешательства, преодолев саму смерть. Эта уловка позволяла им жить в спокойствии еще несколько лет, создав культ Иисуса для обмана легковерных.
– Где тело?
Ни один не ответил. Они, похоже, даже не поняли вопроса.
– Где тело?
Они переглядывались, опускали глаза, их охватила сильнейшая паника. Они так меня боялись, что я ощутил, что они едва ли не жаждут ответить мне.
Один из них рухнул передо мной на колени.
– Пожалей нас, господин, пожалей.
Остальные последовали его примеру. Они пали ниц. Они вымаливали прощение.
– Мы поверили Иисусу, потому что были наивными. Мы позволили обмануть себя обещаниями. Он обволакивал нас медоточивыми речами. Но мы не совершили ничего плохого! Это он, и только он перевернул лавки торговцев в Храме, это он, и только он все поломал и изгнал менял и фарисеев! Мы остались далеко позади, мы были у Сузских ворот. Нас удивил его гнев. Это он осуждал субботу, а не мы. Мы всегда ее соблюдали. Наша единственная вина в том, что мы слишком внимательно прислушивались к его словам. Но сегодня мы сожалеем об этом. С тех пор как он бесславно умер на кресте, как преступник, мы оценили глубину своего заблуждения. Как подумаешь, что бросили ради него свои семьи и свою работу…
Они выглядели оскорбленными рогоносцами, их лица были искажены возмущением. По сведениям моих шпионов, некоторые из них уже четыре года следовали за Иисусом, приняв его нищету, его убеждения, его борьбу, его видения, и вдруг их вера внезапно и насильственно оборвалась со смертью предводителя в самом расцвете лет; их мечта разбилась о крест! Сегодня они понимали, что были наивны; завтра все назовут их глупцами. И до конца дней над ними будут издеваться, но хуже того – они будут смешны сами себе.
Это были бедные евреи, простолюдины, еще молодые, но из-за трудностей скитаний, солнца и добровольно принятого нищенства они казались старше римлян того же возраста. И эти люди в лохмотьях, чьи спины покрылись испариной от страха, теперь лежали у моих ног.
– Почему вас всего десять?
Я вспомнил, что в сообщениях моих шпионов говорилось о двенадцати раскольниках.
– Один из нас повесился.
– А двенадцатый?
– Мой брат Иоанн остался в Иерусалиме, – ответил один из самых молодых.
Буррус наклонился ко мне и шепнул на ухо, что Иоанн и Иаков принадлежали к богатой семье, очень влиятельной и связанной с первосвященником Каиафой.
– Иоанн ушел сегодня утром, он отправился к могиле.
– А вы почему отстали?
– Мы возвращаемся по домам. Мы осознали свою ошибку.
– Где вы были сегодня ночью?
– Здесь.
Они казались искренними. У лжецов не могло быть столь виноватого вида. Лжецы доказывали бы свою непричастность.
Я приказал обыскать овчарню и окрестности. Трупа не нашли. Ученики, похоже, даже не понимали, что я ищу, они продолжали защищать себя, обвиняя во всем колдуна.
Более других обрушивался на своего бывшего учителя Симон, широкоплечий гигант с выпирающими мышцами. По его могучей шее разбегалась сеть синих жил, словно ее проложили земляные черви. Он с неистовством сжигал теперь то, что ранее обожал. И я подумал, как страстно он, должно быть, еще вчера почитал и любил Иисуса.
Разговор начал утомлять меня. Очевидно, что эти бедолаги потеряли всё и ждали скорого ареста, суда синедриона и неминуемой смерти. Если бы им было что сказать в свою защиту, они бы уже все выложили, чтобы избежать неприятностей.
В этот момент на дороге показалась белая фигура. Из Иерусалима к нам спешил хорошо сложенный красивый отрок лет восемнадцати, с длинными темными ресницами. Его, похоже, обуревали рвущиеся наружу чувства. Не обращая внимания ни на мой отряд, ни на меня, он бросился к друзьям и прокричал:
– Иисуса больше нет в гробнице!
Евреи были так испуганы, что застыли на месте, до них не дошел смысл сказанных слов. Юноша с радостью повторил новость, удивленный всеобщим равнодушием. Но ученики не слушали его, они косились на меня, пытаясь дать понять молодому человеку, что здесь находится прокуратор.
Юноша повернулся ко мне и, не потеряв присутствия духа, улыбнулся:
– Приветствую тебя, Понтий Пилат. Я – Иоанн, сын Зеведея. Я объявил им то, что отныне знает весь Иерусалим: Иисус покинул свою могилу!
И вправду, Иоанн обладал наглой самоуверенностью отпрыска из богатой семьи. Не выношу, когда ко мне обращаются с речами до того, как высказался я. Поэтому я не ответил и дал знак отряду собираться.
Потом смерил презрительным взглядом учеников.
– Я не стану вас задерживать. Расходитесь по домам. И чтобы вашей ноги больше не было в Иерусалиме.
От этих слов лица несчастных разгладились, подобно сухой земле после дождя. Они удивленно переглядывались: свободны! Они склонились передо мной все, кроме Иоанна. Симон, опьянев от благодарности, даже облобызал мне ноги, совсем не смущаясь столь унизительного проявления своей радости.
Я в последний раз пригрозил им:
– Идите домой, вернитесь к работе, забудьте о колдуне и перестаньте поддерживать слух об исчезнувшем трупе. Через несколько часов мы его найдем, а похитителей посадим под замок.
Иоанн расхохотался во все горло. Насмешливый юноша был счастлив бросить мне вызов. Я выхватил плетку, чтобы ударить его, но он остановил меня, быстро произнеся:
– Я знаю, кто взял тело Иисуса.
Он уже не смеялся. И выглядел искренним. Неужели моя плетка внушила ему почтительность? Он упрямо смотрел мне прямо в глаза.
– Я знаю, кто это.
Я неспешно заткнул плетку за пояс. В конце концов, экспедиция оказалась небесполезной.
– Откуда ты знаешь?
– Так было предусмотрено. Был план.
– Интересно. Итак?
– Все прошло как нужно.
– Интересно. И кто же украл труп?
– Ангел Гавриил.
Я долго разглядывал беднягу. Всеми силами своей юной души он верил в то, что произнес. Чтобы просветить тебя, ибо, к счастью, тебе, мой дорогой брат, неведомы еврейские глупости, знай: ангелы – местная достопримечательность наряду с апельсинами, финиками и пресными хлебами – есть посланцы их единого Бога, духовные создания, принимающие человеческий облик, нечто вроде армии нематериальных и бесполых солдат. Сии воины, похоже, неоднократно вмешивались в историю еврейского народа. Ангелы путешествуют между землей и небом с помощью лестницы, невидимой разумеется. И конечно, сегодня они настроены против римлян, как раньше были настроены против египтян, ибо поддерживают евреев во всех их столкновениях с другими народами. Евреи прячутся за спины ангелов, когда их разум спотыкается, что происходит очень часто. А потому этот отрок без труда объяснил непонятное небесным вмешательством, а чтобы придать своему объяснению больше достоверности, даже назвал имя ангела: Гавриил. Ибо эти странные существа, хотя никто их не видел, носят имена, оканчивающиеся на «ил», что указывает на их происхождение от Бога, а потому у них у всех имена Михаил, Рафаил, Гавриил. Сам видишь из этой ахинеи, что значит быть прокуратором Иудеи… Я ежедневно не только сталкиваюсь с беспорядком в отношениях между людьми – соперничество, межплеменные распри, восстания, бунты, – но и с крайним беспорядком в их мыслях. Иудея сводит с ума. Она дурманит, как вино. Парадокс этой иссушенной, твердой, иногда пустынной земли, над которой не поднимается туман и в небе которой не проносятся облака, состоит в том, что она творит туман в мыслях.
Я велел отряду возвращаться, и мы, не вступая в споры, покинули учеников. Теперь я знал, куда следует направиться, чтобы отыскать труп.
Когда я понял, что ученики слишком трусливы и слишком разочарованы, чтобы предпринять какие-либо действия, что они никогда бы не пошли на мошенничество, я тут же сообразил, кто организовал этот хитрый спектакль. Это должен быть кто-то из уважаемых людей, сторонник Иисуса, способный нанять банду умелых воров, скрытных и молчаливых, а потом припрятать труп, не вызвав ничьих подозрений.
Я отправился в сельские владения, где проживал всеми уважаемый богач Иосиф из Аримафеи.
Почему я не подумал об этом ранее? Именно Иосиф последние два дня дергал за ниточки послушных кукол.
Поместье его располагалось к востоку от Иерусалима за огромными оливковыми рощами. Вокруг простирались бесконечные виноградники. Благодаря виноделию Иосиф является одним из самых зажиточных людей, что дает ему возможность заседать в синедрионе, собрании, творящем суд в религиозных делах. Не исключая и дела колдуна. В синедрионе заседают три группы лиц: священнослужители, учители закона и главы богатейших семей. К последнему принадлежит Иосиф. Этот член совета произносит на заседаниях умеренные речи, не похожие на привычные религиозные славословия. Однако он больше, чем пристало судье, заинтересовался Иисусом. Вечером, в день распятия, Иосиф явился ко мне испросить разрешения снять Иисуса с креста, натереть его тело благовониями и похоронить в новой, только что подготовленной семейной гробнице.
Похоже, он испытывал смущение, обращаясь ко мне с просьбой. Я понимал, что он вместе со всем синедрионом проголосовал за смерть Иисуса, подчиняясь дисциплине, но сочувствовал осужденному больше, чем выказывал. Не задавая лишних вопросов, я удовлетворил его просьбу похоронить Иисуса. Ибо похоронить его надо было быстро, до захода солнца; в противном случае суббота и пасхальные праздники не позволят ничем заниматься и труп его будет гнить на кресте. К тому же я всегда с уважением относился к Иосифу, мудрому торговцу, заботливому отцу семейства, умеренному члену синедриона, который я пытаюсь контролировать по мере возможностей.
Тогда я не подозревал, в каком хитроумном плане невольно принял участие.
Мой отряд проскочил в ворота поместья, и все мы были поражены его странным видом. Двери и окна были открыты, но женщины между собой не переговаривались; двери амбара были распахнуты, калитка птичьего двора приоткрыта, но во дворе не было ни одного пастуха, ни одного конюха, ни одной птичницы. Мы двигались в застывшем мире, пораженные безмолвием. На земле валялись клочья разбросанного сена, инструменты, в кучах навоза торчали палки.
Мы соскочили на землю и увидели, что внутри дома странного было не меньше: распахнутые сундуки, взрезанные мешки, разбросанное белье, опрокинутая мебель, вспоротые матрасы, сорванные занавеси. Никаких сомнений: владение подверглось нападению разбойников.
Но куда подевались слуги и хозяева? Я испугался худшего. Только бы найти их живыми!
Я послал людей обыскать амбар, конюшню, окрестности. Мы с Буррусом обошли дом.
Я добрался до спальни Иосифа и его супруги. Здесь тоже царил беспорядок, но следов крови не было. Я глянул на постель и обомлел. На мятые простыни было вывалено содержимое сундука – груда драгоценностей, колец, браслетов, золотых монет…
Как все это объяснить?
На Иосифа напали разбойники, но ничего не взяли? Бросили целое состояние, несмотря на риск, на избиение хозяев? Что же они искали? Что именно?
– Погреб! Надо осмотреть погреб!
Буррус шел за мной, ничего не понимая. Когда мы подошли к тяжелой низкой двери, я услышал стенания и понял, что прав: все обитатели поместья – женщины, мужчины, дети, старики – были здесь. Их связали и бросили среди высоких кувшинов и чанов.
Я сам развязал Иосифа и помог ему выбраться на свет. Благообразие этого старца внушает уважение: резкие и четкие морщины, солнечными лучиками расходящиеся у светло-синих глаз, свидетельствуют о честно прожитой жизни. Все в его лице гармонично. Только кустистые брови говорят о недостатке фантазии.
– Иосиф, что произошло?
– Явились какие-то люди. Они искали труп.
Он повернулся ко мне, и на его губах появилась легкая ироничная улыбка.
– Они рассуждали, как ты.
– Кто это был?
– Они были в масках.
Я понял, что мне хотел сказать Иосиф: если люди были в масках, значит Иосиф мог их узнать. А если Иосиф мог их узнать, значит они прибыли из Иерусалима. А кто в Иерусалиме, кроме членов синедриона, желал завладеть трупом Иисуса, чтобы воспрепятствовать возникновению никому не нужного посмертного культа?
Я задумчиво обронил:
– Каиафа?
Иосиф из Аримафеи ничего не ответил, и для еврея это был единственный достойный способ выдать тайну римлянину.
Значит, Каиафа, как и я, подозревал Иосифа в организации похищения трупа.
– И Каиафа ушел несолоно хлебавши?
Иосиф Аримафейский долго глядел на меня.
– Да! А если мне не веришь, спроси у него самого. Вы оба приписали мне намерения, которых я никогда не имел. Кстати, к счастью. Поскольку радуюсь тому, какой оборот принимают события, хотя я сам даже мизинцем не шевельнул… Теперь нам остается только ждать.
– Ждать чего?
– Подтверждения, что труп был действительно похищен. Вам с Каиафой требуется доказать, что так и произошло.
– Нам не требуется доказывать, что исчезнувший труп был похищен: это и так очевидно.
– Ну не скажите! И боюсь, что с каждым прожитым днем эта очевидность будет все больше и больше обретать имя ангела Гавриила.
Я был подавлен. Иосиф оказался не таким мудрым, каким он мне представлялся. Мы стояли в темной кухне, с балок свисали пучки душистых трав, лежали три неощипанные курицы. Женщины суетились вокруг слуги, худого высокого парня. Его ранили, когда он оказал сопротивление нападавшим в масках.
– Иисус был не обычным человеком, – продолжал Иосиф. – И жизнь его не была обычной. Не станет обычной и его смерть.
– Почему ты голосовал за смерть, если мнение твое о нем так высоко?
Иосиф сел и потер лоб. Он уже тысячи раз задавал себе этот вопрос. Нам подали вина.
– Для Каиафы, нашего первосвященника, все всегда просто. Он легко отличает добро от зла. Там, где заурядный человек колеблется, он выносит решение. Именно поэтому он заслуживает роли предводителя. Для меня все всегда намного сложнее. Иисус меня интересовал, смущал мои мысли. Меня впечатляли его чудеса, хотя сам он их ненавидел. Каиафа негодовал на Иисуса, он упрекал его в богохульстве и, что самое страшное, в богохульстве, которое пользовалось поддержкой народа. Все, что говорил Иисус, не противоречит нашим книгам, но Каиафа видел в Иисусе опасность для Храма. И потому не обращал внимания на тонкости, когда яростно стремился к его осуждению.
– Значит, во время суда ты подчинился Каиафе?
– Нет, я подчинился Иисусу.
– Прости, я не понял.
– В момент голосования, когда я хотел пощадить его, Иисус повернулся ко мне, словно расслышал мои мысли. И глаза его мне ясно приказали: «Иосиф, не делай этого, голосуй за смерть, как и остальные». Я не хотел ему подчиняться, но в моей голове все громче звучало то, о чем кричали его глаза. Он не отпускал меня, словно я стал его добычей. И тогда я уступил призыву. Я проголосовал за смерть.
– Вам вовсе не требовалось единогласие?
– Нет, хватало большинства.
– Почему же ты присоединился к остальным?
– Так хотел Иисус.
Теперь Иосиф, как и Клавдия Прокула, моя супруга, высказывал мнение, что Иисус хотел умереть. Поклонение ведет к странным выводам. Поскольку они хотели продолжать восхищаться Иисусом и поскольку они не мирились с его бесславной смертью, Клавдия и Иосиф уверовали в то, что Иисус сам стремился к погибели. Их герой оставался героем, только если желал смерти и сам распоряжался ею. Какой смешной поворот мысли! Они не желали видеть мир таким, каков он есть! Дабы не потерять уважения к себе, Клавдия и Иосиф должны были непременно возвеличивать колдуна.
Я простился с Иосифом.
В воротах я обернулся к нему:
– Мне не хотелось бы быть на твоем месте, Иосиф. Иисус был странным существом, ясновидцем, но человеком славным, беззлобным и лояльным к Риму. Я сделал все, чтобы уберечь его от смерти, я считал, что он не заслуживает казни. Но я подчинился давлению толпы, когда она сделала свой выбор, и на глазах у всех умыл руки. Моя совесть чиста. Но ты, как мог ты, сидя в синедрионе, имея возможность проголосовать против, поскольку на тебя не было оказано давления, присоединиться к большинству, как ты мог осудить невиновного? Ты убил праведника!
Иосифа, похоже, моя речь не смутила. И он ответил мне:
– Будь Иисус человеком, я бы осудил праведника. Но Иисус не был человеком.
– Вот как? И кем же он был?
– Сыном Бога.
Я отказался от дальнейшей дискуссии и вернулся в Иерусалим. Видишь, дорогой мой брат, в какой переплет я попал? Я нахожусь на земле, где Сыны Бога не только расхаживают по улицам среди груд арбузов и дынь, но и дают осудить себя на смерть, чтобы они, эти Сыны Бога, умирали распятыми на кресте под лучами палящего солнца! Вне всяких сомнений, это лучшее средство добиться расположения Отца!..
В любом случае я вышел на новый след и задержусь в Иерусалиме, чтобы пуститься на поиски разлагающегося трупа, пока его исчезновение окончательно не замутило разум палестинцев, поскольку я кровно заинтересован в том, чтобы официально и при стечении народа предать его земле, где им займутся могильные черви. Пожелай мне удачи и оставайся здоровым.
Пилат своему дорогому Титу
Клавдия, супруга моя, сумела перенести всю утонченность Рима в самое сердце Палестины. Ей удается организовывать здесь усладительные трапезы, когда время течет столь же быстро, как и вино, когда от легких остроумных бесед кружится голова, поскольку они касаются самых разнообразных животрепещущих тем, – словом, она воссоздает здесь блестящие, насыщенные радостью ночи у Тибра под звездным небом. Мы чувствуем, что находимся в центре мира, а потому любим Рим, обожаем Рим, сожалеем о Риме. Обеды эти преображают наше отшельническое существование.
Вчера вечером, желая, несомненно, поднять настроение и воспользовавшись тем, что мы все остались во дворце, Клавдия устроила прием, как всегда вдохновенно и изящно. Каждый приглашённый считает себя почетным гостем. Каждое блюдо кажется новым. Каждый разговор создает впечатление, что беседуют умные люди. Намеки раздаются хозяйкой дома, как карты. Она умеет польстить каждому, заставляет каждого высказать то, что лежит у него на сердце, иногда хотя бы ради того, чтобы этот человек больше сюда не возвращался, одних подбадривает, других удивляет, иных восхищает. Она выбирает гостей, словно блюда: особые, разнообразные, пряные. Она дразнит вкусовые сосочки и умы быстрыми наскоками. Она не позволяет, чтобы пир вдруг замер, наскучил, блюда сменяют друг друга, как разговоры, а Клавдия возлежит на хозяйском месте у стола и незаметно управляет прислугой.
Какими грубыми кажутся мне теперь, мой дорогой брат, приемы в доме наших родителей… Помнишь? Одно блюдо, один разговор! Мы были настоящей деревенщиной! Пир кончался, как только съедали единственное угощение и иссякала единственная тема разговора. Начиналось тяжелое переваривание пищи, а в головах не оставалось ни единой мысли. Скучная жизнь требовала наесться до отвала, чтобы набраться сил, и разговаривать, чтобы решить свои проблемы. Благодаря Клавдии я, к счастью, стал свободнее и ежедневно возношу ей хвалу за то, что она вырвала меня из грязной колеи унылой пользы, дав вкусить тысячи удовольствий и научив утонченности.
Вчера вечером во дворце собрались самые умные или самые забавные гости: лысый поэт Mapцелл, о котором ты наверняка слышал, ибо он автор официальных од в честь Тиверия, а неофициально прославился своими эротическими двустишиями; греческий историк; критский торговец; банкир с Мальты; галльский судовладелец и двоюродный брат Клавдии, всем известный Фабиан, богач и развратник, «охотник за женщинами», хотя это прозвище звучит глупо, ведь женщины не бегают от него, как дичь. Фабиан так красив, что находиться с ним в одном помещении почти невозможно. От его красоты женщины чувствуют себя неуютно… Они подспудно видят в нем идеального любовника; а мужчины невольно считают соперником. Фабиан влачит шлейф побед, соперничества, интриг, ревности, отравляя отношения между присутствующими. Однако вчера вечером я нашел его изменившимся. Впервые его обаяние не действовало. Нет, красота его не увяла, но он выглядел иным, озабоченным. Позже поймешь почему…
Мы говорили о пасхальных праздниках. Поэт Марцелл утверждал, что все религии в Риме, Афинах, Карфагене или Иерусалиме выдумали мясники.
– Жертвоприношения! Повсюду жертвоприношения! Кому выгодно преступление? Мясникам! Кому разрешено работать в священные дни? Мясникам! Религиозная церемония везде на берегах нашего моря является заговором мясников. Мясники копаются в кишках и проливают кровь. Они слишком глупы, чтобы придумать богов, но, несомненно, были создателями ритуалов.
– Каких животных убивают евреи на Пасху? – спросил Фабиан.
– Ягнят, – ответил я.
– Нет, ягнят им мало. В этом году им понадобился человек.
Это произнес банкир с Мальты. Все с удивлением воззрились на него. У него было крайне неприятное лицо, отличие всех мальтийцев: смуглая кожа, заостренные черты, глазки водяной змеи. Продолжая есть, он пустился в хладнокровные разъяснения, что евреям понадобилось пожертвовать одним из своих, раввином-отступником, и что всем, кроме самого распятого, эта жертва была полезна, поскольку смерть козла отпущения успокаивает народ, и успокаивает надолго. Уж он-то это знал, ведь он путешественник!
Клавдия едва заметно побледнела, но, оставаясь идеальной хозяйкой, повернулась к своему кузену Фабиану:
– Фабиан, а что тебя привело в Иерусалим?
Фабиан не ответил, а, прищурившись, послал ей воздушный поцелуй. На мгновение он превратился в прежнего Фабиана, создававшего вокруг себя альковную атмосферу, напоминавшую о ласках, о послеполуденных часах любви… Такое времяпрепровождение угадывалось по прекрасно очерченному, чуть припухлому рту, по ленивой небрежности, а главное, по его коже, блестящей, плотной и упругой, коже, созданной для ласк и поцелуев.
Он никак не решался ответить. Клавдия настаивала, ибо чувствовала, что ее любопытство приятно брату.
– Быть может, сердечные дела?
– Ты же прекрасно знаешь, дорогая моя Клавдия, что я лишен сердца. Вернее, оно располагается у меня ниже пояса.
Все рассмеялись.
– В любом случае вы мне не поверите!
– Мы расположены верить всему, особенно невероятному, – сказала Клавдия.
– Это вам покажется глупостью…
Он играл в нерешительность. Но никто не обратился к нему, нарочно, чтобы вызвать на откровение.
– Ну ладно, будь по-вашему, – произнес Фабиан. – Я приехал сюда… из-за…
Он не успел закончить. Трое слуг влетели в зал, словно их силой втолкнули внутрь. Позади них появился разъяренный мужчина, высокий и широкоплечий. Взъерошенные волосы, тело, покрытое густой шерстью, еле прикрытое лохмотьями. Он угрожающе потрясал палкой.
– Пилат! Вели своим слугам относиться к философам с бо́льшим почтением!
Я подпрыгнул от радости. В дикаре я признал Кратериоса, моего дорогого Кратериоса, бывшего нашим воспитателем в Риме, когда нам с тобой, дорогой братец, было десять лет.
– Кратериос, ты в Иерусалиме!
Мы бросились друг к другу, вернее, друг на друга, поскольку объятия с Кратериосом требуют немалой силы. Слуги разинули рты от удивления. Их прокуратор, маньяк гигиены и истребитель малейшего волоска на теле, их безбородый прокуратор обнимался с громадной обезьяной-варваром, от хохота которого сотрясались колонны.
– Пора воспитывать своих слуг, Пилат. Научи этих червей узнавать мужчину по его мужскому достоинству, а не по долгам, сделанным у портного! Исчезните, мокрицы!
Не ожидая моего приказа, слуги буквально испарились.
Я был счастлив представить Кратериоса своим гостям. Когда я объяснил им, что он философ-циник, ученик Диогена, лица сотрапезников немного разгладились. Я сказал, что наш отец, не зная, кто такие философы-циники, но оценив низкую плату за услуги – только стол, – доверил Кратериосу на несколько месяцев наше воспитание, хотя вскоре выгнал его, поливая площадной бранью.
Кратериос заворчал от удовольствия, вспомнив былое.
– Я больше всего горжусь тем, что все родители, бравшие меня на службу, выгоняли меня. Это свидетельствует о том, что я преуспевал в воспитании детей, то есть превращал их в свободных людей.
– Ты голоден?
– Думаешь, я бы заявился сюда, не будь я голоден?
Клавдию забавляла грубость этого разъяренного Сократа: она угадывала доброту под шипами.
– Принесите ему еды, – потребовала она. – Ничего вареного. Сырые овощи и сырое мясо.
Филокайрос, афинский историк, не терпящий, как многие из его сограждан, наглых сократических причуд, остановил слуг движением руки и протянул Кратериосу чашу с объедками.
– Поскольку циники считают собак идеальными существами, вполне хватит костей, чтобы насытить его.
И бросил чашу к ногам Кратериоса.
Кратериос смерил историка взглядом.
Я ожидал взрыва негодования. Вместо этого философ спокойно подошел к историку и прошептал:
– Он прав.
Присел на корточки, обнюхал кости, покрутил задом в знак удовольствия. Потом выпрямился, порылся в лохмотьях и извлек свой детородный член.
– Как я сразу не сообразил?
И с невиданным спокойствием принялся поливать историка мочой.
Время словно застыло.
Все, онемев, слушали журчание нескончаемого потока, заливавшего тунику, живот и ноги окаменевшего гостя. Кратериос изливал мощную струю, только лицо светлело по мере того, как опорожнялся его мочевой пузырь.
Закончив, он стряхнул последние капли, спрятал член и повернулся спиной к историку.
– Ты обошелся со мной, как с собакой: я повел себя, как собака.
Потом улегся на соседнее ложе и пальцами схватил пищу с блюда, которое поставили перед ним перепуганные слуги.
Клавдия едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться, но сумела взять себя в руки. Она знаком показала мне, что уводит Филокайроса во внутренние покои. Бледный историк, похоже, лишился дара речи.
Я подумал о тебе, дорогой мой брат, о том, как мы поражались эксцентричным, но не бессмысленным манерам Кратериоса. Так ярко и грубо он давал нам уроки жизни.
Кратериос ел и рыгал, рассказывая о последнем путешествии.
– Этот глупец Сульпиций выгнал меня из Александрии, как прокаженного. У нас с первой встречи были нелады. Когда я увидел его на главной улице, накрашенного, как последняя блудница, возлежащего на позолоченных носилках, которые несли восемь рабов, я воскликнул: «Неподходящая клетка для такого зверя!» Он вызвал меня к себе во дворец. Я ожидал, что он бросит меня в темницу, но ему, по-видимому, уже рассказали обо мне, повеселили анекдотами о моих вызывающих выпадах против других тиранов, и он сменил гнев на милость, проявил любезность, принялся разыгрывать великого благородного свободолюбца, всепонимающего и всепрощающего. Он взял меня под ручку и, сложив губы сердечком – уточняю, фиолетовые губы, ибо он красит их фиолетовой краской, а потому рот его похож на два зубастых геморроя, – потащил осматривать свой новый дворец, хвастаясь бассейнами, мрамором, позолотой. Я следовал за ним, и мне даже удавалось молчать. А он говорил и восхищался за обоих. Что я сказал? За десятерых! И вдруг этот выскочка показал мне синие изразцы. А я как раз в этот момент начал прочищать глотку. Мерзавец воскликнул: «Не плюй на пол, здесь чистый пол!» Тогда я плюнул ему в морду и добавил: «Простите, это – единственное грязное место!» Глупец запретил мне появляться в Александрии.
Мы от души рассмеялись.
– Легко отделался, Кратериос, – сказал я. – Любого другого он казнил бы на месте.
– Ни один сильный мира сего никогда не отважится убить меня, ибо станет посмешищем. Собственную совесть нельзя убить. Но хватит говорить обо мне, полагаю, я прервал интересную дискуссию. На чем вы остановились?
Вернулась Клавдия, сообщила, что историк предпочел вернуться домой, и повернулась к красавцу Фабиану.
– Мой двоюродный брат Фабиан, который живет в спокойствии, пользуясь своей репутацией распутника, должен объяснить нам, почему предпринял путешествие в наши края. Итак, Фабиан, не заставляй нас долго ждать.
Фабиан огляделся, делая вид, что охвачен сомнениями, а на самом деле чтобы удостовериться во всеобщем внимании.
– Ну что ж, правда такова. Если я прибыл из Египта и сегодня путешествую по Иудее, а вскоре отправлюсь в Вавилон, то… только по воле оракулов!
– Оракулов?
Вокруг стола воцарилась напряженная тишина.
– Действительно, – продолжил Фабиан, – мне всегда были любопытны прорицатели, пифии, предсказатели, маги. Словом, я интересуюсь будущим и изучающими его науками.
– Идиотская мысль! – воскликнул Кратериос. – Вместо того чтобы волноваться по поводу того, что случится завтра, людям было бы полезнее спросить себя, чем они займутся сегодня.
– Ты, несомненно, прав, Кратериос, но люди сотворены именно так: когда они идут, то смотрят вперед. Они не смотрят под ноги. Короче говоря, я опросил самых разных прорицателей, и, к моему величайшему удивлению, их предсказания впервые совпали. Мир движется к новой эре. Мы на перепутье. Мир меняется.
Он оглядел присутствующих, пораженных его словами.
– В данный момент одна эпоха сменяет другую. Все астрологи подтверждают это, будь они александрийцами, халдеями или римлянами.
– Объясни поточнее.
– Появится новый царь. Молодой человек, грядущий властитель мира. И царство его распространится на всю землю.
– И где он явится своим подданным?
– Здесь. В этом все предсказания совпадают. Этот человек объявится в Азии. Некоторые оракулы называют Палестину, другие – Ассирию. Во всяком случае, он появится к востоку от нашего моря.
Гости удивленно переглянулись.
– Есть ли другие знаки? – спросил я.
– Да. Этот человек рожден под знаком Рыб.
Я видел, как по лицу Клавдии пробежали едва заметные судороги, словно под ее кожей ожили крохотные ящерицы. Глаза ее расширились и потемнели. Я чувствовал, что ее гложут тысячи мыслей. Я знаю, моя жена чувствительна и открыта для иррационального. Я видел, что Фабиан зародил в ней сильное волнение. И, опасаясь его дальнейших слов, поспешил закончить разговор:
– Есть лишь одна империя, Римская. И есть лишь один великий царь, Тиверий. Тиверий властвует над всеми.
Фабиан презрительно хихикнул:
– Прежде всего, Тиверий не родился под знаком Рыб. Кроме того, мы знаем, что он управляет миром только потому, что власть досталась ему в наследство, а маразм и разврат, воцарившиеся в Риме, не относятся к лучшим военным или политическим достоинствам. И последнее, Тиверий слишком стар.
– Стар царствовать?
– Да. Я собрал самые точные предсказания астрологов и сделал заключение, что человек, призванный изменить судьбы человечества, родился в момент нахождения Сатурна и Юпитера в созвездии Рыб. И я смог высчитать год рождения этого царя.
– И каков результат?
– Он родился в семьсот пятидесятом году.
– Как и я! – воскликнул я, надеясь позабавить гостей.
– Как ты, Пилат. И, как тебе, ему сегодня должно быть тридцать три года.
Внезапный звон заставил нас вздрогнуть: Клавдия уронила кубок. Она что-то пробормотала.
– Супруга моя испугалась, – сказал я в ее оправдание. – Она на мгновение подумала, что это могу быть я.
– Нет, Пилат, я подумала о чем-то более ужасном…
Но она не закончила фразы. Позвала слуг и велела промокнуть лужу вина на ковре.
Фабиан повернулся к гостям и внимательно вгляделся в их лица.
– Если этому человеку более тридцати лет, то, значит, он уже вершит свое дело. Вы слышали о ком-нибудь подобном?
Кратериос заговорил первым:
– Я знаю кучу глупцов, мечтающих управлять миром. У некоторых есть город, у других – область, но ни один из этих надутых гусей не может исполнить свою мечту. Мечту идиотскую, само собой разумеется.
Лысый поэт, критский торговец, мальтийский банкир и галльский судовладелец пребывали в раздумье. Все они встречали достойных, честолюбивых людей, но ни один не обладал способностью реализовать предсказание.
– А ты, Пилат? – спросил меня Фабиан. – Видел ли ты людей, способных завоевать мир?
Клавдия уставилась на меня, словно я знал ответ. Я пожал плечами.
– Иудея не лучшее место для поиска такого человека. Здесь от нас хотят избавиться зелоты, но они евреи, истинные евреи, и считают, что избраны Богом. Их не интересует завоевание мира, они презирают всех остальных и думают только о себе. Евреи – один из редких народов, кто не стремится к завоеваниям. Это – странное, замкнутое, самодостаточное племя. Здесь ты найдешь местных героев, но они не из тех, кто скроен по меркам властителей мира. К тому же боюсь, что разочарую тебя. Если передо мной предстанет новый Александр, я буду сражаться с ним. Я защищаю Рим.
– Рим не вечен.
– Как ты смеешь так говорить, Фабиан? Ты и в самом деле ведешь себя как избалованный ребенок.
– Все, что я делал в жизни, было тщетой и суетой, я соблазнял, наслаждался женщинами, тратил деньги, а теперь ощущаю невероятную усталость. Мне кажется, что жизнь моя обретет смысл, если я встречусь с этим человеком.
Он повернулся к своей сестре, побледневшей так, словно вся кровь излилась из ее вен:
– Кажется, мой рассказ тебя разволновал, Клавдия.
– Больше, чем ты думаешь, Фабиан. Больше, чем ты думаешь.
Критский торговец перевел разговор на недавний скандал с дельфийской пифией, молодой женщиной, считавшейся непревзойденной предсказательницей, пока не вскрылось, что ответы ей подсказывал военачальник Тримарк, согласно своим политическим интересам. Дискуссия разгорелась с новой силой. Я искоса следил за Клавдией, молчаливой и задумчивой, бледной, как луна в предрассветный час. Она впервые отказалась от роли хозяйки дома и равнодушно позволяла волнам разговора умирать у подножия ее ложа.
Когда гости разошлись, я подошел к ней, не скрывая беспокойства:
– Что происходит, Клавдия? Ты плохо себя чувствуешь?
– Ты слышал, что говорил Фабиан? Оракулы единодушны. Они говорят о том, кого мы знаем. Я была очень удивлена, что ты не обмолвился о нем ни словом.
– О ком?
Впервые я чувствовал, что раздражаю Клавдию. Она закусила губы, чтобы не оскорбить меня, и холодно оглядела с головы до ног:
– Пилат, оракулы говорят об Иисусе.
– Об Иисусе? Колдуне? Но он умер.
– Он в том возрасте, о котором вещают оракулы.
– Он умер!
– Он ведет за собою всех. Без оружия, без поддержки он создал свою армию верующих.
– Он умер!
– Его слова обращены не только к евреям. Они обращены к самаритянам, египтянам, сирийцам, ассирийцам, грекам, римлянам, ко всем.
– Он умер!
– Когда он говорит о царстве, он говорит о всеобщем царстве, где примут каждого, куда пригласят каждого.
– Он умер, Клавдия, услышь меня. Он умер!
Я проорал эти слова.
Голос мой пронесся от зала к залу, от колонны к колонне, и дворец поглотил мой гнев.
Клавдия подняла на меня глаза. Мои слова наконец достигли ее слуха. Губы ее задрожали.
– Мы убили его, Пилат. Отдаешь ли ты себе отчет в этом? Быть может, это был он, а мы его убили?
– Это был не он, поскольку мы его убили.
Клавдия задумалась. Горькие мысли, словно стрелы, вонзались ей в сердце. Она рухнула в мои объятия и долго рыдала.
Сейчас она лежит в нескольких локтях от меня, а я пишу тебе. Ее хрупкое сложение и яростная натура позволяют ей легко бросаться в крайности. Она страстно негодует, а потом крепко засыпает. Такие приливы и отливы мне противопоказаны. У меня темперамент умеренный, медлительный, не бросающий меня из одной крайности в другую. Я меньше возмущаюсь, но и отдыхаю меньше. Бездна неумеренного гнева или успокоительного сна недоступна мне. Я иду по узкой дощечке и ощущаю себя довольно уютно между двумя берегами. Иногда мне и хотелось бы оступиться, однако…
А пока сердечно целую тебя, мой дорогой брат. Вскоре сообщу тебе новости о Кратериосе, который решил немного погостить в Иерусалиме. Пока я не решу эту загадку с исчезнувшим трупом, у меня будет возможность встречаться с ним, а потом рассказывать тебе о его сумасбродных выходках. Береги здоровье.
Пилат своему дорогому Титу
Не хотел бы вновь пережить сегодняшние события. Думаю даже, что впервые в нашей переписке мне хотелось бы оставить эту страницу чистой, ибо мне неприятно вспоминать о случившемся. И все же чувствую, что, если опущу рассказ об этом дне, завтра вообще не стану тебе писать, не стану писать и послезавтра. Чернила на моем пере высохнут, голос мой умолкнет, а ты потеряешь брата. А потому постараюсь, преодолев неимоверное отвращение, в подробностях описать этот день, не прерывая нити повествования, ибо эта нить, натянутая между Иерусалимом и Римом, есть нить нашей дружбы.
На заре центурион Буррус попросил принять его. Я надеялся, что он сообщит мне о том, что найден труп колдуна. Я действительно приказал – говорил ли я тебе? – произвести ночью тщательный обыск в домах Иерусалима. Мои люди не должны были говорить, кого ищут – иначе слух о таинственном исчезновении разнесся бы по всему городу, – они должны были открывать любые двери, любые сундуки и хранилища, где можно было бы спрятать труп.
Буррус стоял передо мной навытяжку. На подбородке его синела щетина, волосы были покрыты пылью, а глаза покраснели от усталости. Он провел всю ночь в поисках и не успел отдохнуть и вымыться перед аудиенцией.
Он не нашел труп. Но он напал на след. Он случайно наткнулся в харчевне на стражей, охранявших могилу. Они пили вглухую и вряд ли привлекли бы внимание Бурруса, не будь перед каждым из них по тридцать сребреников. Это была огромная сумма, жалованье за несколько месяцев, и деньги насторожили Бурруса. Им заплатили. Почему? За какие дела? Или за бездействие? За какие-то слова? Или за молчание? Стражей следовало допросить.
Я вместе с Буррусом спустился в караульную. Мы зажгли факелы, потому что утро еще не разгорелось, потом ко мне привели двух евреев, а вернее, их подтащили ко мне, ибо они так напились, что даже не соображали, что находились перед прокуратором.
– Откуда у вас эти деньги?
– Кто ты?
– Друг.
– У тебя есть выпить?
– Кто дал вам эти деньги?
– …
– Зачем?
– …
– Вы мне ответите, клянусь Юпитером!
– У тебя правда нет выпивки?
Еще выпивки?! Они были наполнены вином, как амфоры. Из них нельзя было ничего вытянуть, кроме кислого пота.
Я велел дать им кувшин с вином. Они набросились на питье с жадностью верблюдов после долгого странствия по пустыне.
Я машинально подбрасывал в руке кошельки, как вдруг меня озарило. Тридцать сребреников! Это число о чем-то мне говорило… Ну да! Такова была оплата любого предательства, оговора, доноса. Наушничество вносило свой распорядок в жизнь Иерусалима. Несколько дней назад мои люди обнаружили такие же монеты на теле висельника. То был Иуда, казначей Иисуса, продавший Каиафе своего учителя за эти жалкие гроши.
Я приблизился к пьяным стражникам:
– Вам заплатил Каиафа? Хотите еще выпить? Каиафа, не так ли?
Оба молча кивнули. Я взял кошельки с деньгами и протянул им:
– Берите. Каиафа дает вам еще по тридцать сребреников, чтобы вы мне все рассказали.
Стражники качались от радости. Они даже не сообразили, что я возвращаю их деньги.
– Итак, говорите.
– Дело в том, что мы ничего не знаем.
– Вы издеваетесь надо мной?
– Нет, господин, мы ничего не видели. Мы спали. Утром нас разбудили женщины, а потом попросили открыть могилу. Когда они обнаружили, что склеп пуст, они принялись кричать, повторять, что свершилось чудо, что могила сама открылась и сама закрылась, а галилеянина забрал с собой ангел Гавриил. Они твердо верили в это. Мы проснулись и перепугались. И когда прибыл Каиафа – задолго до римлян, господин, – мы предпочли повторить слова женщин. Мы поклялись, что собственными глазами видели ангела Гавриила с галилеянином. Это было не так глупо, как если бы мы признались, что ничего не видели, поскольку прохрапели всю ночь, вместо того чтобы сторожить. Но мы, наверное, совершили промах, потому что Каиафа впал в такой гнев, что у него едва не лопнули жилы на шее. Он кричал, что ему известно то, о чем говорят, велел нам молчать и никому не упоминать про ангела Гавриила. Иначе нас побьют камнями. Мы дрожали от страха, ведь мы знаем, если первосвященник предрекает кару, он всегда держит свое слово. Потом он успокоился, заулыбался, даже дал нам денег и сказал, что говорить. А вернее, что говорить нельзя.
– Словом, Каиафа, сам того не подозревая, заплатил вам за то, чтобы вы говорили правду.
– Ну да.
– А правда в том, что вы ничего не видели?
– Ничего, хозяин.
Я отдал им их деньги. Эти тупицы ушли, распевая песни, уверенные, что теперь имеют по шестьдесят сребреников на брата…
Я удалился в зал совета, чтобы поразмыслить в одиночестве.
Еще с воскресенья меня беспокоило отсутствие одного человека. Каиафы. Почему первосвященник не явился ко мне немедленно? Если он тоже искал труп, если был более меня заинтересован в том, чтобы это исчезновение не внесло никакого религиозного хаоса, почему он не предложил мне объединить наши усилия и продолжать поиски вместе? Подобная сдержанность, необычная для Каиафы, озадачила меня. Он обязан мне назначением главой синедриона. Он осыпает меня подарками, чтобы сохранить мое доброе расположение к себе. Куда большими, чем его тесть Анна, предыдущий первосвященник, которого пришлось низложить. Он понимает свое положение и активно сотрудничает с Римом. В деле Иисуса, будучи искусным политиком, он боится и колдуна, и меня. Он опасается, что популярность Иисуса обеспокоит меня и заставит ужесточить свою власть. Во время процесса он ясно сказал, что желает обеспечить общественный порядок: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
Почему Каиафа затворился в Храме, не ища моей помощи и не предлагая своей, с момента, когда был вскрыт склеп?
Он проводил параллельное расследование. И действовал быстрее. Он обогнал меня у могилы, у Иосифа из Аримафеи… Почему он действовал в одиночку? Каиафа в столь трудный час отказывался от помощи единственного и давнего союзника! Что бы это значило?
Я подошел к окну и застыл, созерцая Иерусалим. Вдали виднелись белые ступени театра, и сердце мое заныло, пораженное отравленной стрелой тоски. Когда я смотрел на этот одеон, пустующий и нелюбимый евреями, несмотря на все мои старания, на талантливые труппы и прекрасные пьесы, то с болью думал о Риме и сожалел, что согласился покинуть родину. Прищурившись, я разглядел движение белой тоги по сцене и узнал Марцелла, нашего вчерашнего гостя. Он потрясал руками перед пустыми каменными скамьями. Наверное, декламировал одну из своих поэм, проверял силу слова, динамичность фразы, а быть может, пытался сочинить трагедию?
И тут меня осенило: Каиафа притворялся! Он разыграл поиски! Он прекрасно знал, где покоится труп, поскольку принял все предосторожности и сам скрыл его!
Почему я не подумал об этом раньше? Каиафа все предусмотрел. План был прост. Он ставит у могилы колдуна свою стражу, но подсыпает им в питье снотворное. Охрана засыпает. Появляются другие стражники, откатывают камень, забирают покойника, закрывают склеп. Две предосторожности лучше одной. Каиафа прячет труп, чтобы предотвратить появление посмертного культа. Но не все идет по плану. Близкие к Иисусу женщины открывают могилу, обнаруживают исчезновение трупа и начинают вещать об ангеле Гаврииле. Пристыженные охранники повторяют их россказни. Разъяренный Каиафа затыкает глотки всем, всем платит. Но слух запущен… Новость доходит до меня… Я приступаю к поискам. Об этом узнает Каиафа. Чтобы подозрение не пало на него, он делает вид, что тоже занят поисками. Его нападение на дом Иосифа Аримафейского – спектакль, предназначенный для меня, дымовая завеса.
Я с облегчением вздохнул. Дело вскоре закончится. Каиафа через некоторое время вернет труп. Быть может, для вящей убедительности сделает так, чтобы покойника обнаружили мои люди… И все быстро вернется на круги своя. Каиафа – отличный стратег, он постарается соблюсти необходимые сроки.
Я почти смеялся. Я был доволен, что моим союзником был Каиафа, хитрец, ловкач, делец, жаждущий мира, мира, необходимого в равной степени и ему, и мне. Я с облегчением налил себе вина, поднял кубок и, обращаясь к отсутствующему первосвященнику, с улыбкой пробормотал:
– Пью за твое здоровье, Каиафа. Сегодня утром лев благодарит лисицу.
И в это мгновение я услышал гул голосов за дверью. Створки их распахнулись от сильного удара.
Появился Каиафа, вслед за ним ворвались мои часовые с копьями наперевес.
Разъяренный первосвященник, увидев меня, застыл на месте. Он ткнул в меня перстом и в отчаянии прокричал:
– Иисус! Он объявился.
Я расхохотался. Я никогда не думал, что у евреев столь силен вкус к театральности.
– Конечно он объявился. Я ждал этого, Каиафа. Однако думал, что у тебя достанет деликатности позволить моим людям обнаружить место, где ты его спрятал.
Он посмотрел на меня так, словно я изъяснялся на птичьем языке. Он ничего не понимал.
– Пилат, ты не расслышал, что я сказал. Иисус объявился! Живой!
– Живой?
– Живой!
Я не узнавал сурового первосвященника, казавшегося сейчас бесконечно уязвимым. Его почти бесцветные глаза были выпучены. Он выглядел искренним, хуже того – удивленным и угнетенным. Каиафа не размахивал руками и не кривлялся, как обычно делают лжецы, пытаясь убедить всех в своей правдивости.
– Клянусь тебе, Пилат, неизреченным именем Божиим, что Иисус восстал из мертвых. Он говорит и живет. Иными словами, говорят, что он воскрес.
– Не важно, что говорят, ведь это только слух.
– Конечно.
– И кто его распространяет?
– Женщина.
– Женщина? Нам повезло.
– Да, повезло. Ей меньше веры.
Знай, дорогой мой брат, мы далеки от современного Рима, и, кроме Клавдии Прокулы, женщины здесь не имеют ни власти, ни голоса. Они нужны только ради их чрева, если оно плодоносит, а от чрева не требуют, чтобы оно мыслило, имело свое мнение, свои чувства. В Палестине с женщинами никто не считается, а их умственные способности ценят меньше, чем регулярность месячных.
– Никто в это не верит, – произнес Каиафа, – но слух обсуждается, он будоражит народ. Достаточно новых свидетельств, и поклонение возникнет само собой. Пилат, жизненно необходимо отыскать труп. Кто-то намеренно похитил его, чтобы люди поверили в воскресение Иисуса.
Каиафа был прав. Кто-то исполнял тщательно продуманный план, предназначенный для смущения умов и погружения нас в бездну иррациональности.
– Что за женщина утверждает, что видела его?! – воскликнул я. – Она, несомненно, его сообщница! И позволит нам добраться до зачинщика всей кутерьмы.
Каиафа невольно задрожал – судорога пробежала по его лицу от переносицы до кончика бороды. Он выглядел смущенным.
– Кто же она? – настаивал я.
Каиафа колебался, а потом отвернулся и нехотя ответил:
– Саломея.
Я застыл разинув рот. Мне показалось, что я ослышался.
– Саломея? Та самая?..
Каиафа нахмурился и едва слышно пролепетал:
– Да, та самая…
Помнишь ли, брат мой дорогой, о письме, написанном несколько лет назад, где я тебе рассказывал историю с отрезанной головой? Я часто намекал на то, что этот мрачный фарс сильно подействовал на характеры участвовавших в нем лиц.
Ирод Антипа, тетрарх, управляющий Галилеей, уникальное и ценнейшее для нас существо. Он одновременно является весьма религиозным евреем, великим защитником Моисея, и смиренным поклонником Тиверия, которого осыпает подарками и в честь которого назвал Тивериадой прекрасный новый город на берегу Геннисаретского озера. На берегах этого озера и на реке Иордан несколько лет назад надрывался пророк, вроде Иисуса, яростный отшельник, злобный и тираничный. Он собирал вокруг себя толпы, проводя странный ритуал погружения тела в воду, чтобы очистить человека от грехов.
Иоанн Смывающий грехи, как его называли, вначале вызывал у меня беспокойство, но, как и для Иисуса, не только евреи, избранный народ, были предметом его забот. Он обращался ко всем племенам, но не пытался объединить их против Рима. Миролюбец и ярый моралист, он не преследовал никаких политических целей.
К несчастью, его язык был скор на брань. Этот незапятнанный праведник гневно осуждал дурное поведение. Он тяжко оскорбил Ирода и Иродиаду, его новую царицу. Он осуждал тетрарха за то, что тот изгнал свою первую жену, чтобы соединиться с женой своего брата. Иродиада не позволила, чтобы ее так поносили. Эта тощая высокомерная еврейка с острыми ногтями, осыпанная драгоценностями, словно военными трофеями, красивая, хотя и излишне раскрашенная, эта Иродиада, злобная и мстительная, готова была убить всякого, кто встанет на ее пути. Он велела арестовать Иоанна Смывающего грехи и бросить его в темницу крепости Махера. Но Ирод отказывался казнить этого набожного человека, считая своего пленника пророком. Тогда Иродиада после долгого, изматывающего противостояния извлекла из тайников новое и опасное оружие: свою дочь Саломею. Саломея станцевала перед своим отчимом с такой сладострастной чувственностью и истомой, что Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Мать шепнула ей на ухо, чтобы она потребовала голову Иоанна. Ирод оказался в ловушке, велел обезглавить пророка и вручил Саломее его голову на серебряном блюде. С тех пор Ирод сильно изменился. Он злится на самого себя. Его снедает беспокойство, его грызут сомнения, он стал двуличен и агрессивен, поскольку боится наказания. Он заперся в своей крепости, ибо трепещет мести своего Бога. Естественно, что Иродиада пользуется его страхом, чтобы манипулировать стареющим тетрархом, постепенно забирая власть в свои руки. Я не знаю, куда заведут эту женщину ее амбиции, но опасаюсь фатального исхода. Ибо Иродиада любит власть ради власти, она пьянеет от нее, власть ее одурманивает. Пока это дает ей силы, но однажды власть задушит ее.
Каиафа предложил мне встретиться с Саломеей.
Пришлось пробиться сквозь плотную толпу, чтобы добраться до малого дворца Ирода. Возбужденные зеваки уже собрались, обсуждая тысячи глупостей. Моя охрана окриками и пинками с трудом пробивала себе дорогу среди евреев. Я опасался, что вот-вот вспыхнет бунт… И приказал воинам подождать меня в стороне. Мы с Каиафой продолжили путь вдвоем, без охраны, работая локтями, наступая на ноги, дергая за одежду.
Мы миновали врата с декоративными скульптурами в ненавистном мне кичливом восточно-римском стиле, предназначенном для обольщения Тиверия, если он однажды решит нанести визит Ироду. Далее мы позволили толпе самой нести нас вперед, в центр двора. Там, на возвышении, в окружении нескольких кормилиц, стояла девушка и смотрела на толпу застывшими глазищами пифии, зрачки их были расширены от разных снадобий.
– Это и есть царская дочь Саломея? – удивился я.
Каиафа кивнул. Я был разочарован:
– Она не так красива, как говорят.
– Вначале всем так кажется.
Саломее было лет шестнадцать. Она еще не была женщиной, она была предвестием женщины. Все в Саломее было миниатюрным – талия, бедра, ягодицы, грудь, но все выглядело достаточно округлым и чувственным. Подле нее каждый ощущал теплое дыхание первых мгновений весны… Видя ее такой невинной и соблазнительной, глядя на ее укутанное в шелка стройное тело, можно было подумать, что даже ее нагота будет лишь намеком на обнаженность…
Я не мог поверить, что эта девушка пользовалась репутацией роковой женщины. Несомненно, Саломея больше соответствовала вкусам евреев, чем вкусам римлян.
Сначала я подумал, что она молчит, но потом обнаружил, что она говорит едва слышным голосом. Мужчины и женщины должны были приблизиться вплотную, к самому возвышению, чтобы расслышать слова, слетавшие с ее почти неподвижных губ подобно дуновению ветра, подобно напевной мелодии.
Каиафа проворчал, что робость ее была наигранной. Саломея говорила тихо, чтобы к ней приближались вплотную. Оказавшись у ее ног и ощутив аромат ее тела, мужчины попадали в расставленные сети.
Я действительно вдруг почувствовал какое-то оцепенение, меня дурманил аромат мускуса и цветов, глаза мои не отрывались от тонких, грациозных лодыжек, закованных в тончайшие цепочки с колокольчиками… Я поднял голову, чтобы испить меда, стекающего с уст девушки, и слушал, а вернее, угадывал странный рассказ, который она бесконечно повторяла, говоря о себе в третьем лице, словно стала зачарованным зрителем собственной жизни.
– Саломея возвращалась во дворец, в большой и мрачный дворец под луной. Саломея возвращалась с кладбища, где оплакивала смерть учителя. Саломея была печальна, вечер был холодный, а земля – черной. Саломея сначала не увидела стоящего под аркой мужчину. Но его голос остановил ее: «Почему ты плачешь, Саломея?» Мужчина был высокий и худой, его лицо закрывал темный капюшон. Саломея никогда не отвечает незнакомцам. Но голос не отпускал Саломею. «Ты оплакиваешь Иисуса, я знаю это, и ты заблуждаешься». – «Что ты вмешиваешься? Я оплакиваю кого хочу!» Мужчина приблизился, и Саломея ощутила великое смущение. «Ты не должна оплакивать Иисуса. Если вчера он был мертв, то сегодня он воскрес». Мужчина неподвижно стоял рядом с Саломеей. Голос его напоминал Саломее кого-то, как и глаза. Но глубокая тень от высокого и мрачного дворца была непроницаемой. «Кто ты?» Тогда он откинул капюшон, и Саломея узнала его. Саломея упала на колени. «Саломея, встань. Я выбрал тебя, чтобы ты оказалась первой. Ты много грешила, Саломея, но я люблю тебя, и я тебя простил. Отправляйся и неси радостную весть людям. Иди!» Но Саломея плакала слишком сильно, чтобы сдвинуться с места, а когда вытерла слезы, его уже не было. Но Саломея приняла радостную весть: Иисус любит Саломею. Он вернулся. Он воскрес. И Саломея будет говорить и повторять радостную весть всем людям.
Мне казалось, что Саломея двигалась и говорила только ради меня одного. То, что издали казалось мне спектаклем, выглядело теперь откровением. Из глаз Саломеи текли слезы. Обнаженные руки девушки открывали мне свои объятия. Точеные ножки Саломеи выглядывали сквозь разрезы в шелковой ткани. Ее несовершенные, но уже возбуждающие формы колыхались под одеждами. А голос струился, словно сок персика, созревшего под летним солнцем.
Я бы выслушал ее рассказ и во второй, и в третий раз, но нас с Каиафой отнесло в сторону волной новых зрителей.
Вернувшись на улицу, мы немного прошлись, чтобы встряхнуться и размять конечности. Но мысленно не покинули двора, ибо попали под власть Саломеи.
– Она действительно очень хороша собой, – произнес я, чтобы нарушить затянувшееся неловкое молчание.
Каиафа сплюнул на землю.
– Это хуже, чем если бы она была просто красива.
Некоторое время мы шли молча. Саломея пленила нас. Мы даже забыли, зачем приходили ее слушать.
Через некоторое время мы остановились у фонтана. Тень платана и журчание воды внесли успокоение в наши смятенные души и немного просветлили головы.
– И что же она рассказала? – спросил я.
– Безумную повесть о том, что она якобы видела Иисуса живым. Вначале она его не узнала. И он сообщил ей радостную весть для нее: он ее любит.
– Кто этому поверит?
– Никто. Но весь народ явится в малый дворец, хотя никого это особо не интересует. Люди приходят, чтобы посмотреть на Саломею, послушать ее, но не вслушиваться в ее слова. Саломея безобидна, мужчины будут на нее пялиться, женщины – говорить всякие пакости. И ничего больше.
– Не думаешь ли ты, что она действует по чьему-то наущению?
– Нет. И это утешает меня. Быть может, за всеми этими событиями и не скрывается никакого плана. Быть может, даже нет прямой связи между похищенным телом и бреднями Саломеи. Эта девушка просто-напросто сумасшедшая. Безумица из дома Ирода. Такие есть в каждой семье и в каждой деревне. Слух о воскресении Иисуса не распространится.
Мы немного успокоились. Исполнение властных функций всегда связано с тревогами. Правителю надо упреждать катастрофы, а после нескольких лет нахождения у власти всегда ожидаешь худшего. Утром мы боялись, что ситуация ускользает из-под нашего контроля. Увидев Саломею, мы обрели спокойствие. Но оставалась главная задача – отыскать труп. Мы с Каиафой решили объединить усилия.
– Когда мы найдем мертвое тело Иисуса, – сказал я, – то выставим его у стен города, как делают греки, и мои легионеры будут его охранять. Там он будет гнить целую неделю, пока не восстановится порядок.
Мы уже расставались, когда Каиафа удержал меня за руку. На углу площади собиралась толпа.
Я увидел женщину на осле. Это была очень красивая зрелая женщина с тонкими губами, изящными скулами, точеным носиком. Таким лицом никогда не устанешь любоваться.
Каиафа прошептал:
– Мария из Магдалы.
Я с восхищением разглядывал ее. В ней ощущалось благородство: высокий ровный лоб, простая, но красивая прическа: тяжелые черные волосы были перекинуты через левое плечо и ниспадали ей на грудь. Она сидела на осле, но была воплощением царственности.
Каиафа оторвал меня от созерцания Марии. Он сообщил мне, что она блудница из северного квартала.
К ней стали сбегаться женщины, словно привлеченные исходившей от нее силой.
– Я видела его! Я видела его! Он воскрес.
Темноволосая женщина произносила эти слова жарким низким голосом, столь же чувственным, как и ее черные глаза и длинные трепещущие ресницы.
– Радуйтесь. Он воскрес. Где его мать? Я хочу говорить с ней.
Люди расступились.
Из бедного глинобитного домика вышла пожилая крестьянка. На ее лице отражались все тяготы жизни, проведенной в работе, усталость от тяжело прожитых лет. Глаза ее распухли от недавних слез. Эта старуха только что потеряла сына, обреченного на унизительную пытку, но находила силы, чтобы радостно принять тех, кто шел к ней.
Блудница пала перед ней ниц:
– Мария, твой сын жив! Я не сразу узнала его. Голос был мне знаком, глаза тоже. Но на нем был капюшон. Поскольку все, о чем говорил незнакомец, находило ответ в моем сердце, я приблизилась к нему. И тут же его узнала. Он сказал: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему». Твой сын жив, Мария! Он жив!
Старая женщина не шелохнулась. Она молча слушала Марию Магдалину. Она не испытывала облегчения, а казалась подавленной новым грузом, обрушившимся на ее плечи. Мне подумалось, что она сейчас упадет.
Потом из-под иссохших покрасневших век выкатились две слезы. Так уходила, изливалась ее печаль. Но из ее горла не вырвалось ни единого рыдания. Только свет в ее глазах изменился, жизнь вернулась к ним, и теперь они сверкали на старом морщинистом лице, преображая его, словно Марию ослепила прекрасная, великая любовь к сыну. Она сияла, как заря над морем.
Каиафа с силой сжал мою руку, и мне показалось, что он укусил меня.
– Мы пропали!
У меня не было сил ответить. Я расстался с ним и вернулся к себе во дворец. Что-то так взволновало меня на этой площади, что я не смог доверить ему и признаюсь только тебе: в этой старой еврейке я на мгновение узнал нашу мать.
И это воспоминание гложет меня. Я продолжу свой рассказ позже. Иудея кружит мне голову. Прими любовь своего брата и береги здоровье.
Назад: Пролог Исповедь приговоренного к смерти в вечер ареста
На главную: Предисловие