Глава 23
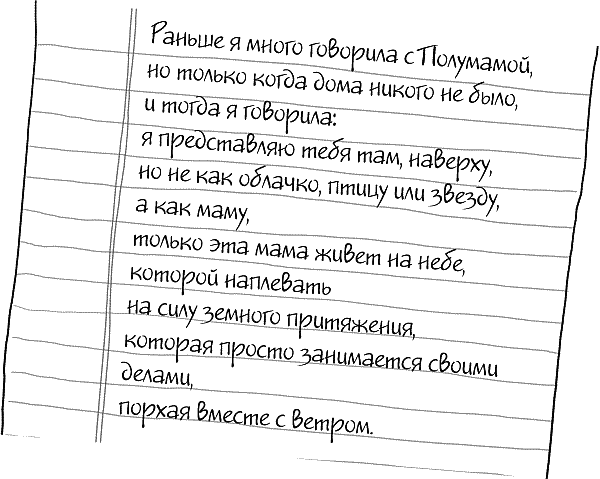
(Написано на обрывке газеты, найденном под крыльцом дома Уокеров)
Когда следующим утром я спускаюсь на кухню, бабуля жарит сосиски у плиты, плечи у нее поникли, словно нахмуренные брови. Дядя Биг сгорбился над своим кофе за столом. За их спинами утренний туман заслоняет вид из окна, и кажется, что дом парит внутри облака. Стоя в дверях, я наполняюсь тем испуганным пустым чувством, которое охватывает меня при виде заброшенных домов, у которых меж ступеней растут сорняки, со стен осыпается поблекшая краска, а окна разбиты и заколочены.
– Где Джо? – спрашивает Биг.
Я понимаю, почему всеобщее отчаяние так очевидно сегодня утром: Джо не пришел.
– В заключении, – отвечаю я.
Биг с ухмылкой поднимает взгляд:
– Что это он такое натворил?
И тут же на кухне воцаряется хорошее настроение. Надо же! Я думала, что Джо только мой спасательный круг.
– Взял из отцовского погреба бутылку вина стоимостью в четыре сотни долларов и распил ее с девочкой по имени Джон Леннон.
Бабуля с Бигом дружно охают и восклицают:
– Четыре сотни долларов?!
– Он и понятия не имел, – сообщаю я.
– Ленни, мне не нравится, что ты пьешь. – Бабуля взмахивает лопаткой; сосиски у нее за спиной скворчат и плюются маслом.
– Да я и не пью. Почти. Не переживай.
– Черт возьми, Ленни. Хорошее было вино? – Лицо дяди Бига выражает живейший интерес.
– Не знаю. Я раньше не пила вино. Наверное, хорошее. – Я наливаю себе кофе, жидкий, словно чай. Скучаю по смоле, которую варил Джо.
– Черт побери, – повторяет дядя, прихлебывает кофе и корчит недовольную гримасу. Похоже, он тоже предпочитает варево Джо. – Думаю, что больше и не будешь. С такими-то завышенными стандартами.
Интересно, придет ли Джо на первую летнюю репетицию (я решила пойти).
И вдруг – о, сюрприз! Он входит собственной персоной, с шоколадными круассанами, мертвыми жуками для дяди и улыбкой размером с Бога для меня.
– Привет! – говорю я.
– Они тебя выпустили, – радуется дядя. – Превосходно. Ты пришел на свидание с супругой или приговор отменили?
– Биг! – осаживает его бабуля. – Я бы попросила…
Джо смеется:
– Отменили. Мой отец – очень романтическая личность, это его лучшая и худшая черта. Поэтому, когда я объяснил ему, что чувствую…
Джо смотрит на меня, пунцовеет, и я, конечно, сама превращаюсь в помидор. Законом наверняка запрещено испытывать такие чувства, когда твоя сестра мертва.
Бабуля трясет головой:
– И кто бы мог подумать, что Ленни такой романтик!
– Вы шутите? – восклицает Джо. – Перечитать «Грозовой перевал» двадцать три раза! И вы еще сомневаетесь?
Я опускаю взгляд. Мне неловко, меня растрогали его слова. Джо так хорошо меня знает. Даже лучше, чем они.
– Туше, мсье Фонтейн, – говорит бабуля, пряча улыбку, и отворачивается к плите.
Джо подходит ко мне сзади и обнимает за талию. Я закрываю глаза и думаю о его теле, обнаженном под одеждой, о том, как он прижимается ко мне. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него:
– Ты написал такую прекрасную мелодию. Я хочу сыграть ее для тебя.
Не успеваю я договорить, как он меня целует. Я разворачиваюсь в его объятия, обхватываю руками за шею, и он притягивает меня за талию еще ближе. О боже, да мне плевать, правильно это или нет, плевать, нарушаю ли я все правила западного мира, – мне на все наплевать, потому что наши губы, разлучившись на секунду, соединяются снова, и все уже неважно, кроме этого восхитительного факта.
Как люди вообще живут, чувствуя такое?
Как завязывают шнурки?
Как водят машину?
Как работают на станках?
Как цивилизация продолжает существовать, когда на свете есть такие чувства?
Голос дяди Бига, на десять децибелов тише обычного, произносит, заикаясь:
– Хм, ребят. Может, вам лучше… кхм… ну, я не знаю…
Шестеренки в моей голове со скрипом останавливаются. Это что, дядя Биг стал заикаться? Может, и правда не стоит обжиматься посреди кухни на глазах дяди и бабушки? А, Ленни? Я с трудом отрываюсь от Джо; у меня словно перекрыло доступ к кислороду. Я смотрю на бабулю и Бига, которые стоят, неловко переминаясь и глуповато улыбаясь. Мы что, смутили короля и королеву страны чудаков?
Я опять гляжу на Джо. Он выглядит по-мультяшному ошарашенно, словно ему дали дубинкой по голове. Вся эта сцена кажется мне такой абсурдной, что я разражаюсь хохотом.
Джо смущенно улыбается бабушке с дядей и облокачивается о столешницу, предусмотрительно прикрыв низ живота футляром с трубой. Хорошо, что у меня нет члена. Кому захочется разгуливать с градусником похоти между ног!
– Ты ведь придешь на репетицию, правда? – спрашивает Джо.
Хлоп. Хлоп. Хлоп.
Да, если мы вообще туда доберемся.
Мы добираемся. Хотя, в моем случае, на место приходит лишь моя бренная оболочка. Удивительно, что мои пальцы находят ноты, пока я разбираю пьесы, которые мистер Джеймс выбрал для речного фестиваля. Рейчел мечет в меня убийственные взгляды и постоянно отворачивает пюпитр так, что мне ничего не видно, но я все равно растворяюсь в музыке. Мне кажется, что мы с Джо играем вдвоем, импровизируем, наслаждаемся чувством неизвестности: что же будет за этой нотой? А за следующей? Но в середине репетиции, играя пьесу, выдувая ноту, я чувствую ледяное дыхание ужаса: я думаю о Тоби, о том, как он смотрел на меня вчера вечером, уходя. О том, что он сказал в Убежище. Он должен знать, что теперь нам лучше держаться друг от друга подальше. Просто должен! Я пытаюсь запихнуть панику поглубже, но все равно до конца репетиции мучительно тревожусь и играю только то, что написано в партитуре, не импровизируя.
После репетиции мы с Джо планируем провести целый день вместе: его выпустили из заточения, а у меня выходной. Мы идем обратно ко мне, и ветер плещется вокруг, как кружащиеся листья.
– Я знаю, что нам надо сделать! – говорю я.
– Разве ты не собиралась сыграть мне?
– Собиралась, но мне не хочется играть твою музыку дома. Помнишь, как мы поспорили той ночью, что ты не сможешь пойти со мной в лес ветреным днем? Сегодня как раз такой день.
Мы сворачиваем с дороги и прорубаем себе дорогу сквозь кустарник, пока не выходим к тропе, которую я и искала. Солнце пятнами пробивается сквозь ветки, бросая на подлесок неверный свет. Из-за ветра деревья шумят, создавая целую симфонию: так бы звучал оркестр скрипучих дверей в филармонии. То, что нужно.
Немного погодя Джо говорит:
– По-моему, учитывая обстоятельства, я отлично держусь.
– Какие обстоятельства?
– Такие, что мы бредем через леса под музыку из самого жуткого фильма ужасов, и все древесные тролли в мире собрались над нами и хлопают входными дверями.
– Но сейчас же даже не ночь! Как вообще можно бояться?
– Да вот как-то можно. Хотя я и стараюсь не вести себя как мокрая курица. У меня очень низкий порог страха.
– Тебе понравится место, куда я тебя веду. Обещаю.
– Мне понравится это место, если там я смогу снять с тебя одежду. Обещаю. Ну или хотя бы часть одежды. Хотя бы один носок. – Он подходит ко мне, кидает трубу на землю и кружит меня.
– Ты такой настырный, – говорю я. – Знаешь, это просто невозможно терпеть!
– Ничего не могу поделать. Я наполовину француз, jоiе de vivre, все дела. Ну а если серьезно, то с нашего первого поцелуя прошло уже три дня, а я еще не видел тебя хоть частично раздетой, quel catastrophe, a? – Он пытается отвести волосы от моего лица, а потом целует, пока мое сердце не начинает бешеной лошадью рваться из груди. – Хотя воображение у меня отменное, – добавляет он.
– Quel dork. – Я тащу его вперед.
– Знаешь, я веду себя как придурок, только чтобы ты сказала quel dork, – отвечает он.
Тропа поднимается туда, где старые сосны выстреливают в небо словно ракеты и превращают лес в подобие собора. Ветер утих, и деревья стоят, окруженные неземным покоем и тишиной. Листья мерцают, словно крошечные кусочки света.
– Так что там с твоей мамой? – внезапно спрашивает Джо.
– А? Что? – Вот о чем о чем, а о маме я сейчас совершенно не думала.
– Когда я впервые зашел к вам, бабуля сказала, что закончит портрет, когда вернется твоя мама. Где она?
– Я не знаю. – Обычно я на этом и заканчиваю, но Джо пока не сбежал от чудачеств нашей семейки. – Я никогда не видела маму. Ну то есть видела, но она ушла, когда мне был всего год. У нее беспокойная натура. Семейная черта.
Он останавливается:
– И что, это все? Вы это так объясняете? Она же ушла и до сих пор не вернулась!
Да, звучит как полный бред, но мне бред семьи Уокеров всегда казался каким-то логичным.
– Бабуля говорит, что она вернется, – отвечаю я, и от мыслей о ее возвращении мне становится нехорошо. А что, если она вернется прямо сейчас? Бейли так старалась ее найти. Я хлопну дверью перед ее носом и закричу: Ты опоздала! Я думаю, что она может не вернуться никогда. И я не знаю, как верить во все это теперь, когда Бейли нет рядом. – Бабуля говорит, тетя Сильвия была такой же, – добавляю я, ощущая себя последним дебилом. – Она вернулась через двадцать лет.
– Ого! – Джо явно ошарашен. Никогда не видела, чтобы он так хмурился.
– Слушай, я не знала маму, поэтому не скучаю по ней… – говорю я, пытаясь убедить скорее себя, чем его. – Она отважная, свободная духом женщина, которая решила поскитаться по миру в одиночестве. Она такая загадочная. Это клево.
Клево? Я говорю как придурок. Но когда все успело поменяться? Ведь раньше я правда думала, что это клево, безумно клево. Она была нашим Магелланом, нашим Марко Поло, одной из бродячих женщин из семьи Уокер, чей мятежный дух влечет ее с места на место, от одной любви к другой, от одного непредсказуемого момента к другому.
Джо улыбается, глядя на меня с теплой улыбкой, и я забываю про все на свете.
– Это ты клевая, – говорит он. – Умеешь прощать. Не то что я, дурак хренов.
Умею прощать? Я беру Джо за руку, мысленно удивляясь его реакции, да и своей собственной. Я правда клевая и умею прощать? Или просто помешанная? И что это он сказал насчет «хренова себя»? Он имеет в виду того Джо, который больше никогда не разговаривал со скрипачкой? Если так, то с этим парнем я знакомиться не хочу. Мы продолжаем путь в тишине; парим оба в своих мыслях. Но когда мы проходим пару километров и оказываемся на месте, все мысли о хреновом Джо и о моей загадочной пропавшей маме исчезают. Я говорю ему:
– А теперь закрой глаза, я тебя поведу. – Я толкаю его вперед по тропе. – Все, можешь открывать.
Мы находимся в спальне. Настоящая спальня посреди леса.
– Ого. А спящая красавица где? – спрашивает Джо.
– А это я, – говорю я и в один прыжок приземляюсь на мягкую кровать. Я словно оказываюсь в облаке.
Джо следует моему примеру.
– Мы уже это обсуждали, ты слишком бодра, чтобы быть ею. – Он стоит на краешке кровати и оглядывается по сторонам. – Невероятно. Как это все тут оказалось?
– Недалеко отсюда на реке есть трактир. В шестидесятые там располагалась коммуна во главе с хозяином трактира, Сэмом, этаким старым хиппи. Он устроил тут импровизированную спальню, чтобы его гости могли предаваться любви в лесу. Во всяком случае, я так думаю. Сколько я сюда ни прихожу, никогда никого не встречала. Хотя нет, однажды я наткнулась на Сэма: он менял простыни. Когда идет дождь, он накрывает кровать брезентом. Я часто пишу за этим столом, читаю в этом кресле, лежу на этой кровати и мечтаю. Но парней я сюда раньше не водила.
Я лежу на спине. Джо с улыбкой садится рядом и гладит мне живот:
– И о чем же ты мечтаешь?
– Об этом, – отвечаю я, пока его пальцы ласкают меня под блузкой. Я дышу все чаще; мне хочется чувствовать его руки не только на животе.
– Джон Леннон, можно спросить тебя кое о чем?
– Ой-ой-ой. После таких слов обычно говорят что-нибудь жуткое.
– Ты девственница?
– Я так и знала. Жуткий вопрос, – бормочу я, охваченная ужасом. Отличный способ убить всю романтику. Я ежусь и выскальзываю из-под его руки. – Разве это не очевидно?
– Вообще-то, да.
Бррр. Мне хочется уползти под одеяло. Он пытается умилостивить меня:
– Нет, ну, то есть это очень круто, что так.
– Вот уж совсем не круто.
– Может, для тебя и нет, а для меня точно да. Особенно если…
– Что? – У меня внезапно чудовищно заурчало в желудке.
Отлично, теперь его черед смущаться.
– Просто, если когда-нибудь – не сейчас, а когда-нибудь, – ты больше не захочешь быть девственницей, я смогу стать твоим первым. Вот поэтому и круто… ну, мне.
Он смотрит на меня с такой очаровательной застенчивостью, но от его слов мне делается страшно, и я волнуюсь, я ошарашена, и мне хочется расплакаться, что я и делаю. На сей раз сама не зная, почему реву.
– Ой, Ленни, я сказал что-то неприятное? Не плачь, я совсем не хочу тебя заставлять! Целовать тебя, просто быть рядом – это уже прекрасно!
– Нет. – Теперь я плачу и смеюсь одновременно. – Я плачу, потому что… не знаю почему. Но это от счастья, а не от грусти.
Я дотрагиваюсь до его руки, и он ложится на бок лицом ко мне, и наши тела соприкасаются по всей длине. Он так пристально смотрит на меня, что я начинаю дрожать.
– Просто вглядываться в твои глаза… – шепчет он. – Я никогда не чувствовал ничего похожего.
Я думаю о Женевьеве. Он сказал, что был влюблен в нее. Значит ли это, что он…
– Я тоже, – говорю я, снова не в силах сдерживать слезы.
– Не плачь. – Голос его звучит невесомо, окутывает меня туманной дымкой. Он целует мне глаза, едва касается губами моих губ.
И смотрит на меня так откровенно, что у меня кружится голова, и я чувствую, что мне надо прилечь, хотя я и так уже лежу.
– Ленни, я знаю, что прошло совсем мало времени… Но я думаю… Ленни… Мне кажется, что я, может…
Ему не нужно договаривать – я тоже это чувствую. Никаких полутонов: словно все колокола в округе звонят разом. И зычные, гулкие, жадные, и крохотные колокольчики с их нежным счастливым перезвоном – все они заговорили одновременно. Я обвиваю его шею руками, притягиваю его к себе, и он целует меня таким глубоким поцелуем, что я лечу, плыву, парю…
Он бормочет мне в волосы:
– Забудь, что я сказал раньше. Большего, чем сейчас, я просто не выдержу. – Я смеюсь, и тут он вскакивает, хватает меня за запястья и поднимает мои руки над головой: – Да шучу я! Конечно, я хочу с тобой всего, но только когда ты сама будешь готова. Пообещай, что это буду я, ладно? – Он нависает надо мной, улыбаясь и хлопая ресницами, как деревенский дурачок.
– Обещаю, – говорю я.
– Отлично. Хорошо, что мы прояснили этот вопрос. Я тебя дефлорирую, Джон Леннон.
– Ох, боже ж ты мой, до чего неловкий разговор. Quel major dork!
Я пытаюсь закрыть лицо руками, но он не позволяет мне. Мы боремся, смеемся, и проходит очень-очень много минут, прежде чем я вспоминаю, что моя сестра умерла.

