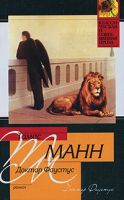Часть II
Вильгельму Гундерту, моему двоюродному брату в Японии, посвящается
КАМАЛА
Каждый шаг пути приносил Сиддхартхе новое открытие, ибо мир для него преобразило и сердце его было очаровано. Он видел, как восходит солнце над лесистыми склонами гор и как оно садится за пальмы далекого побережья. По ночам он видел, как выстраиваются на небе звезды и, словно лодка, плывет в синеве лунный серп. Он видел деревья, звезды, зверей, облака, радугу, скалы, травы, цветы, реку, ручей, искорки росы в утренней листве, далекие вершины в голубой и сизой дымке, поющих птиц, роящихся пчел, серебряные волны на рисовых полях под ветром. Все это, тысячекратно повторенное и пестрое, было всегда — всегда светили солнце и месяц, всегда шумели реки и жужжали пчелы, но тогда, раньше, все это было для Сиддхартха лишь колеблющейся, обманчивой пеленой перед глазами, которой должно было доверять, которую следовало пронзать мыслью и уничтожать, потому что она не выражала сущность потому что сущность лежала “по ту сторону” видимости. Теперь его освобожденный взгляд не устремлялся в потустороннее. Теперь он видел и радостно узнавал эту видимость, искал родное в этом мире, не искал сущности, не стремился к “той стороне”. Прекрасен был мир, вновь увиденный просто, без искусства, по-детски. Прекрасны были месяц и созвездье, прекрасны ручей и берег, лес и скала, коза и навозный жук, цветок и бабочка. Прекрасно, радостно было идти сквозь мир вот так, разбуженным ребенком, без тени недоверия растворяясь в окружающем. Иначе пекло голову солнце, иначе дарила прохладу лесная тень, иным стал вкус воды в ручье и колодце, иным — вкус тыквы и банана. Короткими стали дни, короткими — ночи, каждый час, промелькнув, исчезал, как парус в море, а под парусом — корабль, полный сокровищ и радости. Сиддхартха видел, как высоко в ветвях перелетает с дерева на дерево обезьянья стая, и слышал их дикую, жадную склоку. Сиддхартха видел, как баран преследует овцу и спаривается с ней. Он видел, как в озерных камышах охотится гонимая вечерним голодом щука, как разбегаются в страхе стайки молодых рыб, выпрыгивают из воды, — мелькают и вспыхивают чешуйки, силой и страстью дышат стремительные водяные вихри, вспененные неистовым охотником.
Все это было всегда, но он этого не видел, его не было здесь. Теперь он здесь был и принадлежал миру. В его глаза вошли свет и тень, в его сердце — звезда и месяц.
Дорогой вспоминал Сиддхартха и все то, что пережил он в саду Джетавана: учение, божественного Будду, прощание с Говиндой, разговор с Возвышенным. И свои собственные слова, сказанные им Возвышенному, вспомнил он снова, каждое слово вспомнил и подивился в душе самому себе: ведь он высказал тогда такие вещи, которых, собственно, еще и не знал тогда. Он сказал Готаме, что его, Будды, сокровище и тайна совсем не учение, а то невыразимое и не поддающееся изучению, что тот испытал некогда в час своего просветления, — но ведь это было именно то, к чему он теперь стремился, что он теперь только начинал испытывать. Видно, давно уже знал он, что его душа — атман, та же вечная сущность, что и брахман. Но никогда не мог он действительно найти эту душу, это свое истинное “я”, потому что ловил его сетями мыслей. Но если это истинное “я” — конечно же, не голоса плоти и не игра чувств, — то точно так же оно и не мысль, не разум, не заученная мудрость, не заученное искусство строить выводы и из уже осмысленного вытягивать новые мысли. Нет, мир мыслей все еще “по ту сторону”, они не ведут к цели, и если и убивают случайное “я” чувств, то вместо него вскармливают случайное “я” мыслей и учености. Мысль и чувство — равно прекрасные вещи, в обеих заключен последний смысл, к обеим стоит прислушиваться, с обеими играть, ни то ни другое не презирать и не переоценивать, внимать тайному голосу сокровенного, скрытого и в том и в другом. Он хотел идти лишь туда, куда позовет этот голос, хотел быть лишь там, где он звучит. Почему однажды в великий час опустился Готама на землю под деревом бодхи, где коснулось его просветление? Он услышал голос, голос в собственном сердце, приказавший ему искать отдыха под этим деревом, и он не предпочел умерщвление плоти, жертву, купание или молитву — не еду и не питье, не сон и не мечту, — он подчинился голосу. Так подчиняться — не внешнему приказу, но лишь голосу сердца, быть так к этому готовым — это хорошо, это необходимо, и нет более необходимого, и нет другого необходимого.
Ночью, когда он спал у реки в соломенной хижине перевозчика, приснился Сиддхартхе сон: в желтой рясе монаха перед ним стоял Говинда. Печально было лицо Говинды, печален был его вопрос: “Почему ты покинул меня?” — и Говинда обнял его, и обвил его шею руками, и прижал к своей груди, и поцеловал; и это был уже не Говинда, это была женщина” и из ее одежд выступала полная, набухшая грудь, и Сиддхартха приникал к ней и пил сладкое, жгучее молоко этой груди, в которой был вкус женщины и мужчины, солнца и леса, зверя и цветка, вкус всех плодов, вкус всех наслаждений. Оно пьянило и туманило…
Сиддхартха проснулся; сквозь дверь хижины лился прозрачный блеск реки, в лесу гулко и глухо разносился совиный крик…
Когда наступил день, Сиддхартха попросил перевозчика, который его приютил, переправить его на тот берег. Перевозчик отвязал свой бамбуковый плот, и они поплыли через реку. Красновато поблескивала в утренних лучах широкая вода.
— Красивая река, — сказал Сиддхартха.
— Да, — отозвался перевозчик, — очень красивая река. Я ее больше всего люблю. Я часто ее слушаю, часто смотрю в ее глаза и все время учусь у нее. У реки многому можно научиться.
— Благодарю тебя, мой благодетель, — сказал Сиддхартха, сойдя на другой берег. — Нет у меня подарка для тебя, дорогой, и денег нет, чтобы дать тебе. Я бродяга, сын брахмана и саман.
— Я это видел, — произнес перевозчик, — и денег от тебя не ждал, и подарков тоже. Ты принесешь мне подарок в другой раз.
— Ты уверен? — сказал Сиддхартха весело.
— Конечно. Этому я тоже научился у реки: все возвращается! И ты, саман, тоже вернешься. Ну, прощай! Пусть твоя дружба будет мне платой. Вспомни обо мне, когда будешь жертвовать богам.
Улыбаясь, они расстались, улыбаясь, радовался Сиддхартха дружбе и дружелюбию перевозчика.
“Он как Говинда, — подумалось ему. — Все, кого я встречаю на своем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя сами могли бы ожидать благодарности. Все покорны, все готовы стать друзьями, готовы подчиняться — и никто ни о чем не задумывается. Дети эти люди”.
В полдень он проходил через деревню. Перед глиняными хижинами кружились на дороге дети, играли с тыквенными семечками и ракушками, кричали и возились в пыли, но стремглав разбегались при появлении чужого самана. У края деревни дорогу перебегал ручей, и на берегу ручья, стоя на коленях, стирала одежду молодая женщина. На приветствие Сиддхартхи она повернула голову и с усмешкой взглянула на него снизу вверх, он увидел, как блеснули белки ее глаз. По обычаю странствующих, он произнес пожелание благополучия и спросил, далеко ли еще до большого города. Она встала и подошла к нему… юное лицо, красивые, влажно блестящие губы. Они обменялись шутливыми фразами, и она спросила, ел ли он уже и правда ли, что саманы ночуют одни в лесу и не могут иметь при себе женщин. При этом она наступила левой ногой на его правую ногу и сделала движение, которым женщина приглашает мужчину к любовной игре, называемой в учебниках “взбираться на дерево”. Сиддхартха чувствовал, как горячеет кровь, на него снова нахлынул тот сон, и, слегка наклонившись к женщине, он коснулся губами коричневого соска ее груди. Выпрямившись, он увидел улыбку на ее застывшем в ожидании лице и полуприкрытые, плывущие от желания глаза.
И Сиддхартха чувствовал желание, чувствовал, как оживает в нем пол, но, никогда не касавшийся женщины, он на мгновение заколебался, хотя руки его уже были готовы схватить ее. И в этот миг промедления, когда он жадно смотрел на нее, он услышал в душе голос, и этот голос сказал “нет”. И усмехающееся лицо молодой женщины потеряло все очарование, теперь он видел только влажный взгляд самки в течке. Он дружески потрепал ее по щеке, повернулся и, оставив разочарованную, легким шагом скрылся в бамбуковых зарослях.
К вечеру этого же дня он достиг большого города и обрадовался, ибо его тянуло к людям. Долго жил он в лесах; в соломенной хижине перевозчика, где он провел последнюю ночь, впервые за долгое время над его головой была крыша.
Вблизи города, у прекрасного, обнесенного оградой сада, путнику встретилась маленькая процессия слуг и служанок, нагруженных корзинами. Посредине в разукрашенных носилках, которые несли четыре носильщика, на красных подушках под пестрым балдахином сидела женщина, госпожа. Сиддхартха остановился у входа в сад и смотрел на это шествие, смотрел на слуг, на девушек, на корзины, смотрел на носилки, смотрел на даму в носилках. Под высокой башней черных волос он увидел очень милое, очень нежное, очень умное лицо, ярко-алый рот, напоминавший свежеразрезанный плод фиги, ухоженные и подведенные плавными дугами брови, темные глаза, умные и внимательные, бледную, высокую шею, вздымавшуюся из складок зеленых с золотом одежд, спокойно лежащие матовые руки, длинные и узкие, с широкими золотыми браслетами на локтях и запястьях. Сиддхартха увидел, как она прекрасна, и сердце его засмеялось. Когда носилки приблизились, он низко поклонился и, выпрямившись, взглянул в светлое, милое лицо, удержал на мгновение взгляд зорких глаз, обрамленных высокими арками бровей, глубоко вдохнул незнакомый ему аромат. Усмехнувшись, кивнула прекрасная женщина и в следующий миг уже исчезла в саду, и за ней — слуги.
“Вот и счастливое знамение, — думал Сиддхартха, — хорошо встречает меня этот город”. Ему хотелось сразу же войти в сад, но он задумался, и только тут дошло до его сознания то, как смотрели на него, проходя мимо, слуги и девушки: презрительно, недоверчиво, отчужденно.
“Я все еще саман, — думал он, — я все еще аскет и нищий. Я не должен оставаться таким, и не так должен войти в сад”. И он засмеялся.
У первого же встречного он спросил, чей это сад и как имя той женщины, и узнал, что это был сад Камалы, знаменитой куртизанки, и что кроме сада у же в городе собственный дом.
Тогда он вошел в город. Теперь у него была цель.
Преследуя свою цель, он окунулся в суету города. Он плыл в уличной толпе, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру Сиддхартха подружился с учеником брадобрея: сперва, остановившись у какой-то колонны, он наблюдал за его работой, потом снова встретил его среди молившихся в храме Вишну, потом рассказывал ему историю Вишну и Лакшми. Возле лодок у реки он провел ночь, и рано утром, еще до того как первые покупатели потянулись в лавки, он уже шел в город. И ученик брадобрея сбрил его бороду, и подстриг волосы, и причесал их, и смазал душистым маслом. Сиддхартха снова вернулся к реке и искупался.
Когда в послеобеденный час прекрасная Камала, покачиваясь в носилках, приближалась к своему саду, у входа стоял Сиддхартха. Он поклонился, и куртизанка ответила на его приветствие. Мигнув шедшему последним слуге, он попросил его доложить госпоже, что молодой брахман желает говорить с ней. Через некоторое время слуга возвратился и пригласил ожидавшего следовать за ним. Не произнося более ни слова, слуга привел его в павильон, где отдыхала, лежа на кушетке, Камала, и исчез, оставив их наедине.
— Не ты ли это вчера стоял там у входа и приветствовал меня? — спросила Камала.
— Да, вчера я впервые видел и приветствовал тебя.
— А не было ли у тебя вчера бороды, и длинных волос, и пыли в волосах?
— Хорошо ты смотрела, все увидела ты. Ты видела Сиддхартху, сына брахмана, который покинул родину, чтобы стать саманом, и три года был саманом. Но теперь я оставил тропу отшельников и пришел в этот город, и первой, кого я встретил, еще не войдя в город, была ты. Я пришел, чтобы сказать тебе это, о Камала! Ты — первая женщина, с которой говорит Сиддхартха не опуская глаз. Никогда больше не стану я опускать глаза при встрече с красивой женщиной.
Камала, усмехаясь, играла веером из павлиньих перьев. И спросила:
— Значит, только для того, чтобы сказать мне это, пришел ко мне Сиддхартха?
— Чтобы сказать тебе это и чтобы поблагодарить тебя за то, что ты так красива. И если это не будет тебе неприятно, Камала, я хотел бы попросить тебя быть моей подругой и учительницей, ибо я еще ничего не смыслю в искусстве, в котором ты достигла вершин.
Камала расхохоталась:
— Никогда еще не бывало со мной, друг, чтобы ко мне приходил отшельник из леса и хотел у меня учиться! Никогда еще не бывало, чтобы ко мне приходил саман с длинными волосами, в старой, рваной набедренной повязке! Много юношей приходит ко мне — и среди них сыновья брахманов, — но они приходят в красивых одеждах, они приходят в дорогих сандалиях, они приносят приятный аромат в волосах и деньги в кошельках. Так, саман, выглядят юноши, которые ко мне приходят.
Сказал Сиддхартха:
— Я уже начал учиться у тебя. Вчера был первый урок. Уже нет моей бороды, и волосы мои причесаны, и в волосах масло. Невелико то, чего мне еще не хватает, прекрасная: дорогая одежда, дорогая обувь, деньги в кошельке. Знай, потяжелее задачи задавал себе Сиддхартха, стремясь к тому, что подороже этих малостей, — и достигал цели. Как же не достигну я того, что решил вчера: стать твоим другом и научиться у тебя радостям любви? Я способный ученик, Камала, я изучил искусства потруднее тех, которым должна будешь научить меня ты. Но довольно. Итак, Сиддхартха не устраивает тебя — такой, как он есть: с маслом в волосах, но без одежды, без обуви, без денег?
Смеясь, воскликнула Камала:
— Нет, уважаемый, пока не устраивает. Он должен иметь одежду — красивую одежду, и обувь — красивую обувь, и много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Знаешь ты это теперь, саман из леса? Сумеешь запомнить?
— Я хорошо запомнил это, — воскликнул Сиддхартха. — Как мог я не запомнить то, что произнесли эти губы! Твой рот подобен свежеразрезанному плоду фиги, Камала. И мой рот ал и свеж, он подойдет к твоему — ты увидишь. Но скажи, прекрасная Камала, ты нисколько не боишься самана из леса, который пришел, чтобы учиться у тебя любви?
— Почему я должна бояться самана, какого-то глупого самана из леса, который прибежал от шакалов и еще не знает, что такое женщина?
— О, он силен, этот саман, и ничего не боится. Он может тебя принудить, красавица. Он может тебя обокрасть. Он может причинить тебе боль.
— Нет, саман, этого я не боюсь. Разве какой-нибудь саман или брахман боится, что придет кто-то, схватит его и украдет у него его ученость, и его святость, и его глубокомыслие? Нет, потому что все это принадлежит только ему и он отдает из этого лишь то, что хочет отдать, и тому, кому хочет отдать. Так — с ними, точно так же ж с Камалой, и с радостями любви. Красив и ал рот Камалы, но попробуй против воли Камалы поцеловать его, и ни капли сладости он не даст тебе, а ведь он может быть так сладок? Ты способный, Сиддхартха, так выучи еще это: любовь можно выпросить, купить, получить в подарок, найти на улице — но украсть любовь нельзя. Неудачный ты выдумал путь. Нет, было бы жаль, если бы такой милый мальчик, как ты, захотел так неверно начать.
Сиддхартха, усмехаясь, поклонился:
— Было бы жаль, Камала, ты права. Было бы ужасно жаль. Нет, ни капли сладости твоего рта не должно для меня пропасть и моего — для тебя! Итак, остановимся на том, что Сиддхартха придет снова, когда у него будет то, чего ему еще недостает: одежда, обувь, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не дашь ли ты мне еще один маленький совет?
— Совет? Почему не дам? Кто же откажет бедному необразованному саману, прибежавшему от шакалов из леса, в маленьком совете?
— Так посоветуй, милая Камала, куда мне пойти, чтобы как можно скорее найти те три вещи?
— Ну-у, это тебе всякий сказал бы. Тебе нужно делать то, чему ты научился, и получать за это деньги, и одежду, и обувь. Другого пути к деньгам у бедняка нет. Кстати, что ты умеешь?
— Я умею думать. Я умею ждать. Я умею поститься.
— И больше ничего?
— Ничего. Впрочем, я еще умею слагать стихи. Дашь ли ты мне за стихотворение один поцелуй?
— Пожалуй, если твое стихотворение мне понравится. Где же оно?
Сиддхартха задумался на мгновение и прочел такие стихи:
— В сад свой тенистый плыла на носилках Камала, У входа в тот сад черный стоял саман. Лотоса цвет несравненный увидев, Низко склонился саман, — усмехаясь, кивнула Камала. “Радостней, — юноша думал, — чем жертвовать всякому богу, Радостней жертвовать только прекрасной Камале”.
Громко захлопала Камала в ладоши, зазвенели золотые браслеты.
— Красивы твои стихи, черный саман, и я действительно ничего не потеряю, если дам тебе за них один поцелуй.
Она подозвала его взглядом, он приблизил лицо к ее лицу и прижался губами ко рту, похожему на свежеразрезанный плод фиги. Долго целовала его Камала, и с глубоким изумлением чувствовал Сиддхартха, как она его учит, как она мудра, как она овладевает им, отталкивает и привлекает его, и он угадывал за этим первым поцелуем длинный ряд хорошо освоенных, хорошо проверенных поцелуев, и каждый поцелуй отличен от другого, и все они его еще ждут. Он стоял глубоко дыша и напоминал ребенка, изумленного глубинами познания и горизонтами учения, которые неожиданно раскрылись перед ним.
— Очень красивы твои стихи, — воскликнула Камала, — если бы я была богата, я дала бы тебе за них золотой. Но тяжело тебе будет стихами заработать столько денег, сколько тебе потребуется. Потому что тебе потребуется много денег, если ты хочешь стать другом Камалы.
— Как ты умеешь целоваться, Камала! — пролепетал Сиддхартха.
— Да, я это умею, и поэтому у меня тоже нет недостатка в одеждах, сандалиях, браслетах и всяких красивых вещах. Но что же будет с тобой? Ты другого ничего не умеешь — только думать, поститься и слагать стихи?
— Я знаю еще. жертвенные гимны, — сказал Сиддхартха, — но я не хочу их больше петь. Я знаю заклинания, но я не хочу их больше произносить. Я читал письмена…
— Подожди, — перебила его Камала. — Ты умеешь читать? И писать?
— Конечно, это многие умеют.
— Ну, большинство этого не умеет. Я, например, тоже не умею. Но это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать… очень хорошо. И заклинания тебе еще смогут пригодиться.
В этот момент вбежала служанка и шепотом сообщила госпоже какую-то новость.
— Ко мне пришли! — воскликнула Камала. — Поторопись исчезнуть, Сиддхартха, никто не должен тебя здесь видеть, запомни это! Увидимся завтра.
Но она еще приказала девушке дать святому брахману белый плащ. Служанка увела слегка оторопевшего Сиддхартху, кружным путем привела его в садовый домик, принесла ему плащ, вывела в заросли и строго приказала сейчас же незаметно покинуть сад.
Сиддхартха не замедлил исполнить приказ; привычный к лесу, он бесшумно выбрался из парка и, перебравшись через ограду, удовлетворенный, направился к городу, неся под мышкой скатанный плащ. Встав у ворот постоялого двора, где останавливались проезжие, он молча попросил еды, молча принял протянутый кусок рисовой лепешки.
“Быть может, уже завтра, — подумал он, — мне ни у кого не придется просить еду”.
Гордость неожиданно заговорила в нем: он больше не был саманом, ему уже не пристало попрошайничать. Он скормил лепешку собаке и остался без еды.
“Проста эта жизнь, которую они ведут здесь, в мире, — думал Сиддхартха. — Нет в ней тягот. Тяжело, трудно и в конечном счете безнадежно было все, когда я был саманом. А теперь все легко — легко, как урок поцелуя, который дала мне Камала. Мне нужны одежда и деньги, больше ничего; это близкие цели, маленькие заботы, которые не лишают сна”.
Без затруднений узнал он, где находится дом Камалы, и на следующий день явился туда.
— Хорошие новости, — воскликнула она, увидев его. — Тебя ожидает Камасвами, он самый богатый купец в этом городе. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя на службу. Будь умницей, черный саман. Я устроила так, чтобы ему рассказали о тебе. Будь с ним приветлив, это очень могущественный человек. Но не будь слишком робок! Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен стать равным ему, иначе я не буду тобой довольна. Камасвами начинает стареть и дряхлеть. Понравься ему — и он многое тебе доверит.
Сиддхартха поблагодарил ее и засмеялся. Узнав, что ни вчера, ни сегодня он ничего не ел, она приказала принести хлеба и фруктов и, как хозяйка гостя, накормила его.
— А ты счастливчик, — сказала она при прощании, — двери открываются перед тобой одна за другой. Как это получается? Ты не колдун?
Сиддхартха сказал:
— Вчера я рассказывал тебе, что умею думать, ждать и поститься, и ты нашла, что в этом нет никакой пользы. Но польза есть. Большая польза, Камала, ты увидишь это. Ты увидишь, что глупые саманы в лесу узнают многое, научаются многому, что недоступно вам. Еще позавчера я был лохматым попрошайкой, вчера я уже целовал Камалу, а скоро я стану купцом и буду иметь деньги и все те вещи, которым ты придаешь цену.
— Допустим, — согласилась она. — Но что было бы с тобой, не будь меня? Где был бы ты сейчас, если бы тебе не помогла Камала?
— Милая Камала, — сказал Сиддхартха, выпрямившись и высоко подняв голову, — когда я пришел к тебе в твой сад, я сделал первый шаг. Я намерен был учиться любви у той прекрасной женщины, и в тот самый миг, как у меня появилось намерение, я уже знал, что достигну его. Я знал, что ты поможешь мне; по первому твоему взгляду — там, у ворот сада — я уже знал это.
— Но если бы я не захотела?
— Ты захотела. Представь, Камала: когда ты бросаешь в воду камень, он устремляется ко дну по кратчайшему пути. Так и Сиддхартха — когда у него есть цель, есть намерение. Сиддхартха не делает ничего, он ждет, он думает, он постится, но идет сквозь сутолоку мира, как камень сквозь воду, ничего не сделав, не шевельнувшись; его притягивает — он позволяет себе падать. Его цель притягивает его к себе, потому что он не допускает в свою душу ничего, что могло бы удлинить путь к цели. Вот то, чему Сиддхартха научился у саманов. Глупцы называют это колдовством и чудом и думают, что это творят демоны. Ничего не творят демоны, нет никаких демонов. Каждый может сотворить чудо, каждый может достичь своей цели, если он умеет думать. Если он умеет ждать. Если он умеет поститься.
Камала слушала. Ей нравился его голос, ей нравился взгляд его глаз.
— Возможно, все это так, как ты говоришь, друг, — негромко сказала она. — Но возможно и то, что Сиддхартха — красивый мужчина, что его взгляд нравится женщинам и поэтому счастье само спешит ему навстречу.
Сиддхартха поцелуем простился с ней.
— Пусть будет так, учительница. Пусть всегда мой взгляд нравится тебе, пусть всегда благодаря тебе счастье идет мне навстречу.
ЛЮДИ КАК ДЕТИ
Сиддхартха пошел к купцу Камасвами. Ему указали богатый дом, слуги провели его по дорогим коврам в залу, где он должен был ожидать хозяина, и ушли. Он ждал.
Камасвами вошел — гибкий, быстрый в движениях мужчина с сильной сединой в волосах, с очень умным и очень осторожным взглядом, с чувственным ртом. Дружелюбно приветствовали друг друга хозяин и гость.
— Мне рассказывали о тебе, — начал купец, — что ты брахман, ученый, но ищешь службы у купца. Ты впал в нужду, брахман, раз ищешь службы?
— Нет, — сказал Сиддхартха, — я не нуждаюсь и никогда не был в нужде. Знай: я пришел от саманов, среди которых прожил долгое время.
— Если ты пришел от саманов, то как же ты можешь не нуждаться? Ведь у саманов принято вообще ничего не иметь, да?
— И я ничего не имею, — сказал Сиддхартха, — если говорить о том, что подразумеваешь ты. Конечно, у меня ничего нет. Но я по своей воле выбрал это, — следовательно, не в нужде.
— Чем же ты собираешься прожить, если у тебя ничего нет?
— Я никогда не задумывался над этим, господин. Больше трех лет я провел ничего не имея и ни разу не думал о том, чем я буду жить.
— Значит, ты жил за счет других.
— По-видимому, это так. Купец тоже живет за счет имущества других.
— Неплохо сказано. Но то, что он берет у них, он берет все же не задаром, он дает им за это свои товары.
— Так, наверное, все это на деле и происходит. Каждый берет, каждый дает — такова жизнь.
— Э, позволь, если у тебя ничего нет — что же ты даешь?
— Каждый отдает то, что имеет. Воин отдает силу, купец — товары, учитель — учение, крестьянин — рис, рыбак — рыбу.
— Превосходно. Ну и что же это такое, что можешь отдать ты? Что это? Что ты выучил, что ты можешь?
— Я могу думать. Я могу ждать. Я могу поститься.
— Это все?
— Думаю, это все.
— И для чего это нужно? Например, пост — для чего он нужен?
— Он очень нужен, господин. Если человеку нечего есть, то поститься — самое мудрое, что он может сделать. Если бы, например, Сиддхартха не научился поститься, он вынужден был бы сегодня же пойти к кому-то на службу, к тебе ли, к другому ли, — голод заставил бы его. А так Сиддхартха может спокойно ждать, он не знает нетерпения, он не знает необходимости, долго может он выдерживать осаду голода — и может при этом смеяться. Для этого, господин, и нужен пост.
— Ты прав, саман. Подожди немного. Камасвами вышел и возвратился, неся свиток, который протянул своему гостю со словами:
— Можешь ты это прочесть?
Сиддхартха посмотрел в свиток — там был записан текст торгового договора — и начал читать вслух,
— Бесподобно, — сказал Камасвами. — И не напишешь ли ты мне что-нибудь на этом листке?
Он дал ему лист и грифель, и Сиддхартха написал и возвратил листок.
Камасвами прочел:
- “Писать — хорошо, думать — лучше. Мудрость — хороша, терпение — лучше”. Ты отменно пишешь, — похвалил купец. — Нам о многом еще надо будет поговорить. А пока я прошу тебя быть моим гостем и поселиться в этом доме.
Сиддхартха поблагодарил, принял предложение и остался жить в доме торговца. Ему дали одежду, и дали обувь, и слуга ежедневно готовил ему ванну. Дважды в день подавали обильную еду, но Сиддхартха принимал пищу лишь один раз в день, не ел мяса и не пил вина. Камасвами рассказывал ему о своей торговле, показывал товары и лавки, показывал счета. Много нового узнал Сиддхартха, он много слушал, мало говорил. И, помня слова Камалы, он никогда не позволял себе быть ниже купца, он заставил его обращаться с ним как с равным — и более чем равным. Камасвами вел свои дела с заботливостью, а часто и со страстью, Сиддхартха же смотрел на все это как на игру; он взял на себя труд точно изучить правила этой игры, но ее содержание не задевало его сердца.
Прожив недолгое время в доме Камасвами, он уже начал принимать участие в торговле своего хозяина. И ежедневно, в час, который был ему назначен, он посещал прекрасную Камалу — в красивой одежде, в дорогих сандалиях, а вскоре он уже приносил ей и подарки. И многому учили его алые умные губы, многому учила его нежная, гибкая рука. В любви он был ребенком, готовым слепо и ненасытно бросаться в наслаждение, как в бездонную пропасть, и она учила его с самого начала, с того, что наслаждение нельзя получить, не дав наслаждения, и что каждый жест, каждая ласка, каждое прикосновение, и взгляд, и положение тела имеют свои тайны, которые открываются знающему и дают ему счастье. Она учила, что любящие после праздника любви должны расставаться с чувством восхищения друг другом, быть побежденными в той же мере, что и победителями, — так, чтобы ни один из двоих не испытывал пресыщения и опустошенности, чтобы не возникало злого чувства совершившего насилие или подвергнувшегося насилию. Удивительные часы проводил он у этой прекрасной и умной художницы, был ее учеником, ее любовником, ее другом. Здесь, у Камалы, находил он смысл и цель своей теперешней жизни, не в торговле Камасвами.
Купец передал ему составление деловых писем и договоров и постепенно привык все важные вопросы обсуждать с ним. Купец вскоре понял, что в рисе и шерсти, в перевозках по морю и поставках Сиддхартха понимает мало, но у него счастливая рука и он превосходит его, купца, спокойствием и выдержкой, искусством терпеливо слушать и проницательностью.
— Этот брахман, — сказал он одному другу, — не настоящий купец и никогда им не станет: нет в его душе страсти к делам. Но он владеет тайной тех людей, к которым успех приходит сам, — то ли родился под счастливой звездой, то ли это волшебство, или научился у саманов. Всегда он будто только играет с делами, никогда они не задевают его за живое, никогда не захватывают целиком, он не боится неудач, его не огорчают потери.
И друг посоветовал торговцу:
— А ты дай ему треть доходов от тех дел, которые он для тебя ведет, но пусть он платит и такую же часть убытка, если будет убыток. Он и станет усерднее.
Камасвами последовал совету, но Сиддхартхе это не прибавило заботы. Получался у него доход — он брал его равнодушно, получался убыток — он смеялся и говорил:
— Смотри-ка, а вышло-то плохо! Воистину могло показаться, что дела ему безразличны. Поехал он как-то в одну деревню, чтобы закупить там большой урожай риса. Но когда он приехал, оказалось, что рис уже продан другому торговцу. И хотя делать там было уже нечего, Сиддхартха еще много дней оставался в этой деревне, угощал крестьян, дарил их детям медные монетки, гулял вместе со всеми на свадьбе и вернулся из поездки чрезвычайно довольный. Камасвами стал было ему выговаривать за то, что он не вернулся сразу, а только зря время и деньги растрачивал, но Сиддхартха отвечал:
— Брось ворчать, дорогой друг! Руганью еще никогда ничего не достигали. Если есть убытки, я беру их на себя. Этой поездкой я очень доволен. Я познакомился со многими людьми, подружился с одним брахманом, дети играли у меня на коленях, крестьяне показывали мне свои поля — и никто не принимал меня за торговца.
— Все это очень мило, — сердито закричал Камасвами, — но на самом деле ты все-таки торговец, как я понимаю! Или ты только для своего удовольствия ездил?
— Конечно, — засмеялся Сиддхартха, — конечно, я ездил для своего удовольствия, для чего же еще? Я повидал людей и места, я наслаждался дружелюбием и доверием, я нашел дружбу. Смотри же, дорогой мой: если бы я был Камасвами, я бы тут же — как только увидел, что прозевал покупку — в гневе и спешке возвратился назад, и тогда время и деньги были бы действительно потеряны. А так я прожил хорошие дни, учился, радовался, не нанес ни себе, ни другим вреда гневом и поспешностью. И если я когда-нибудь снова приеду туда — быть может, чтобы купить следующий урожай или по какому-то другому делу, — то расположенные ко мне люди дружески и тепло меня примут, и я похвалю себя за то, что в свое время не выказал торопливости и озлобления. Так что брось ворчать, друг, и не порти себе настроение! Если настанет день, когда ты подумаешь: убытки приносит мне этот Сиддхартха, — скажи одно слово, и Сиддхартха уйдет своей дорогой. А до тех пор давай уж каждый из нас будет доволен другим.
Напрасны были и попытки купца убедить Сиддхартху, что тот ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхартха ел свой собственный хлеб, больше того, оба они ели хлеб, принадлежавший другим, принадлежавший всем. Сиддхартху решительно не интересовали заботы Камасвами, а у Камасвами было много забот. Грозит неудача затеянному делу, пропадает партия товара, оказывается неплатежеспособным должник — никак не может Камасвами убедить своего помощника, что стоило бы озаботиться, а то и погневаться, стоило бы лоб поморщить, бессонницей помучиться. Когда Камасвами попрекнул его как-то, что, мол, всему, что он знает, он научился у него, тот ответил:
— Твои попытки переделать меня смешны! У тебя я научился определять, сколько стоит полная корзина рыбы и сколько процентов можно потребовать за ссуженные деньги. Вот твои науки. Думать я научился не у тебя, дорогой Камасвами, этому, пожалуй, тебе стоит у меня поучиться.
Он и в самом деле душу в торговлю не вкладывал. Дела были хорошим способом заработать деньги для Камалы, и он имел намного больше, чем ему было нужно. А в остальном внимание и любопытство Сиддхартхи было обращено только на людей, чьи труды, заботы, радости, страдания были ему раньше чужды, были от него далеки, как луна. И насколько легко удавалось ему со всеми говорить, со всеми уживаться, у всех учиться, настолько же глубоко он сознавал, что есть нечто, отделяющее его от них, и этим “нечто” было его прошлое. Он видел жизнь, которую вели люди, то ли детскую, то ли звериную, и он одновременно и любил, и презирал эту жизнь. Он видел, как они хлопочут, страдают и седеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совсем не стоили такой цены: из-за денег, из-за маленьких наслаждений, из-за маленьких почестей; он видел, как они бранят и обижают друг друга, видел, как они плачут от боли, над которой саман усмехнется, и страдают от лишений, которых саман не заметит.
Он был открыт всему, что несли в его жизнь эти люди. Он приветствовал торговца, предлагавшего ему купить полотна, приветствовал должника, пришедшего просить отсрочки, приветствовал нищего, который целый час рассказывал ему историю своей бедности и который не был вполовину так беден, как беден любой саман. С богатым заморским купцом он держал себя так же, как со слугой, который его брил, или уличным торговцем, которому он позволял надуть его на мелкую монетку, когда покупал бананы. Заходил Камасвами пожаловаться на затруднения или упрекнуть за что-нибудь — он безмятежно и с любопытством слушал его, удивлялся ему, старался его понять, в чем-то соглашался — ровно настолько, насколько это казалось ему необходимым — и тут же отворачивался к какому-нибудь посетителю, который желал его видеть. К нему приходили многие. Приходили, чтобы торговать с ним, приходили, чтобы обмануть его, приходили расспрашивать, приходили искать сочувствия, приходили просить совета. И он давал совет, он сострадал, он дарил, он позволял немного обманывать себя, и вся эта игра, и та страсть, с которой люди играли в эту игру, занимали его мысли так же сильно, как некогда боги и брахман.
Временами где-то глубоко в груди он слышал голос, тихий, как умирающее дыхание; голос тихо напоминал о чем-то, тихо жаловался, был едва уловим. В такую минуты в его сознании всплывала мысль: “А ведь занимаешься-то ты чепухой; нынешние занятия твои — это только игра, и хоть ты и весел, и временами испытываешь радость, но настоящая жизнь проходит мимо и не задевает тебя. Как рыночный жонглер, ты играешь со своими мячиками: с делами, с людьми, которые тебя окружают, — следишь за ними, забавляешься ими, но твое сердце, источник твоего бытия, не здесь. Источник где-то есть, журчит, журчит невидимый родник, но словно где-то вдали и уже не имея ничего общего с твоей жизнью”.
Иногда такие мысли пугали его, и он желал, чтоб и ему было дано вкладывать страсть и сердце в детские повседневные заботы, в самом деле жить, в самом деле работать, — действительно наслаждаться и жить, вместо того чтобы вот так, как зритель, стоять в стороне.
Но все так же посещал он прекрасную Камалу, учился искусству любви, предавался наслаждению, в котором более чем где-либо давать и брать означало одно, болтал с ней, давал ей советы, получал советы от нее. Она понимала его лучше, чем когда-то понимал Говинда, они были больше похожи.
Однажды он сказал ей:
— Ты — как я, ты иная, чем большинство людей. Ты — Камала и не стараешься быть кем-то еще, в твоей душе покой и убежище, куда ты можешь в любой час войти и укрыться в себе, так же как могу это я. Немногие имеют это убежище, хотя могли бы иметь все.
— Не все люди умны, — сказала Камала.
— Нет, — сказал Сиддхартха, — дело не в этом. Камасвами так же умен, как я, и все-таки нет в его душе никакого убежища. А у других есть, хотя по рассудку это малые дети. Большинство людей, Камала, как сорванные листья, которые качаются и кружатся в воздухе, взлетают и падают на землю. Но другие, немногие, — как звезды, они идут назначенным путем, никакой ветер не достигает их, их закон, их путь — в них самих. Среди всех ученых и саманов, которых я знал немало, был один такой, Совершенный, никогда мне не забыть его. Это тот Готама, Возвышенный, проповедник того учения. Тысяча учеников слушает каждый день его учение, следует каждый час его наставлениям, но все они — опавшая листва, в них самих нет ни учения, ни закона. Камала с усмешкой наблюдала за ним.
— Ты снова говоришь о нем, — сказала она, — снова в тебе мысли самана.
Сиддхартха промолчал, и они погрузились в игру любви, одну из тридцати или сорока разных любовных игр, известных Камале. Ее тело было гибко, как тело ягуара, как лук охотника, много наслаждений, много тайн открывалось тому, кто учился у нее любви. Долго играла она с Сиддхартхой, привлекала его, подчиняла, отталкивала, обнимала, радовалась его умелости — и он был побежден и, измученный, лежал рядом с ней.
Гетера склонилась над ним. Долго смотрела она в его лицо, в его отяжеленные усталостью глаза.
— Ты — лучший любовник, — задумчиво произнесла она, — какого я знала. Ты сильнее других, в тебе больше гибкости, больше желания. Хорошо ты изучил мое искусство, Сиддхартха. Я хочу, чтобы когда-нибудь, когда я буду старше, у меня был от тебя ребенок… А ты, милый, остался таким же саманом и так же не любишь меня, ты ведь никого не любишь, да?
— Может быть, и да, — устало сказал Сиддхартха. — Я как ты. Ты тоже не любишь, иначе ты не могла бы заниматься любовью как искусством. Люди нашей породы, наверное, вообще не могут любить. А люди-дети могут, это их тайна.
САНСАРА
Долго жил Сиддхартха удовольствиями, жил жизнью мира, не принадлежа ему. Чувства, убитые суровыми годами отшельничества, вновь пробуждались; он вкусил богатство, вкусил наслаждение, вкусил власть — и все же долгое время оставался в душе саманом, и Камала, мудрая Камала, почувствовала это. Искусство думать, ждать и поститься все еще составляло основу его жизни, люди мира, люди-дети все еще оставались чуждыми ему, так же как и он был чужд им.
А годы бежали; окруженный довольством, Сиддхартха едва замечал, как уходили годы. Он разбогател, у него давно уже был собственный дом, и прислуга, и сад за городом у реки. Люди любили его, приходили, когда нуждались в деньгах или совете, но никто не был ему близок, кроме Камалы.
То высокое, светлое чувство пробуждения, которое он испытал когда-то в пору расцвета своей юности, в дни после проповеди Готамы, после расставания с Говиндой, то напряженное ожидание, то гордое отъединение от учений и учителей, та живая готовность в собственном сердце услышать божественный голос — все эти предчувствия будущего постепенно превращались в прошлое, становились воспоминаниями; слабо журчал где-то вдали святой источник, который когда-то был близок, который струился когда-то в его душе. Но многое из того, чему он научился у саманов, у Готамы, у своего отца-брахмана, долгое время оставалось в нем живо, не исчезало. Оставалась умеренность, радость размышления, привычка к созерцанию, тайное знание своей сути — вечного “я”, не заключенного ни в теле, ни в сознании. Многое из этого еще оставалось в нем, но с течением лет постепенно куда-то отодвигалось, покрывалось пылью. Как гончарный круг, однажды запущенный, еще долго кружится и лишь постепенно утомляется и останавливается, так и в душе Сиддхартхи продолжал кружиться круг аскезы, круг мысли, круг рассудка, — кружился еще долго, все еще кружился, но уже медленно и шатко и вскоре должен был остановиться. Как сырость вползает в ствол умершего дерева, медленно пропитывает его и превращает в гниль, так мирское и суетное проникало в душу Сиддхартхи, медленно пропитывало ее, делало ее тяжелой и усталой, усыпляло ее. Зато оживлялись его чувства, они многое испытали, многое запомнили.
Сиддхартха научился вести торговлю, распоряжаться властью над людьми, наслаждаться женщиной; он научился носить красивую одежду, — приказывать слугам, купаться в ваннах с благоухающей водой. Он научился есть искусно и тонко приготовленную пищу (не исключая рыбы, мяса, птицы, кореньев и сладостей), научился пить вино, приносящее оцепенение и забвение. Он научился играть в кости и в шахматы, лениво смотреть на танцовщиц, уютно покачиваться в носилках, спать на мягкой постели. Но все еще чувствовал он свое отличие от других и свое превосходство над другими, все так же смотрел вокруг с легкой насмешкой, с тем чуть насмешливым презрением, которое саман всегда испытывает к людям из мира. Когда Камасвами бывал огорчен, когда он злился, когда начинал надоедать своими купеческими заботами, когда он чувствовал себя обиженным — всякий раз в глазах Сиддхартхи появлялась насмешка. И лишь постепенно и незаметно, в хороводе уходящих в прошлое сезонов жатвы и сезонов дождей, насмешка его становилась усталой, чувство превосходства притуплялось. И незаметно, с ростом своего богатства, впитывал Сиддхартха уже что-то от образа жизни этих людей-детей, что-то от их детскости, от их пугливости. И все же он завидовал им, и тем больше завидовал, чем больше становился на них похож. Он завидовал им, потому что ему многого не хватало, а у них это было; он завидовал их способности придавать значение своему существованию, преувеличенности их радостей и страхов, суетному, но сладкому счастью их вечной влюбленности. В самих себя, в женщин, в своих детей, в честь или деньги, в планы или надежды, — эти люди постоянно были влюблены. А он не научился у них этому, именно этому, этой детской радости и детской глупости, — не научился, он научился у них как раз неприятному, тому, что презирал сам. Все чаще случалось, что после бурно проведенного вечера он утром долго оставался в постели и чувствовал себя усталым и разбитым. Случалось, что он злился и терял терпение, когда Камасвами надоедал ему своими заботами. Случалось, что он начинал слишком уж громко смеяться, когда проигрывал в кости. Его лицо все еще было умнее и одухотвореннее прочих, но оно редко освещалось улыбкой и одну за другой приобретало те черты, которые так часто встречаются в лицах богатых людей: черты недовольства, болезненности, дурного расположения, вялого равнодушия. Медленно поражала его душевная болезнь богатых.
Будто кисеей, будто прозрачным туманом, обволакивала Сиддхартху усталость — постепенно, с каждым днем становясь плотнее, с каждым месяцем печальнее, с каждым годом тяжелее. Как новое платье со временем стареет, теряет со временем свои яркие краски, приобретает пятна, приобретает складки, треплется на сгибах и то здесь, то там начинает показывать вытертые, истончившиеся места — так и новая жизнь Сиддхартхи, начатая им после расставания с Говиндой, так же состарилась, так же утратила с годами краски и блеск, так же собрались на ней складки и пятна, а впереди, пока еще скрытые, ожидали и то здесь, то там уже омерзительно просвечивали разочарование и отвращение. Сиддхартха не замечал этого. Он заметил только, что тот светлый и уверенный голос его души, который в далекие, сверкающие годы пробудился в нем и время от времени направлял его, теперь умолк.
Им завладел этот мир, его наслаждения, его желания, его суета, а под конец и та низкая страсть, над которой он больше всего смеялся, считая ее глупейшей, — страсть, которую он всегда так презирал: алчность. Да, собственность, имущество, богатство наконец завладели им, уже не были больше предметами игры и развлечения, стали оковами, гирями. Странным и смешным путем попал Сиддхартха в эту последнюю, унизительнейшую зависимость: через игру в кости. Да, ибо с тех пор, как в сердце своем он уже перестал быть саманом, начал Сиддхартха со все возрастающим азартом и страстью увлекаться игрой на деньги и ценности, в которой раньше участвовал без интереса, усмехаясь, лишь отдавая дань обычаю этих людей-детей. Теперь он играл. Он был игрок страшный, немногие отваживались играть с ним — слишком высоки, слишком безрассудны были его ставки. Он играл, утоляя жажду сердца; проигрывая, выбрасывая огромные деньги, он испытывал какую-то злобную радость: нельзя было более откровенно и издевательски выказать свое презрение к богатству, к этому купеческому божеству. И он играл — ненавидел себя, издевался над собой, — и играл крупно и беспощадно, выигрывал состояние, выкидывал состояние, проигрывал деньги, отыгрывал назад, проигрывал снова. Этот страх, ужасный, липкий страх перед ходом на огромную ставку, — этот страх он любил, старался испытать его еще, еще усилить, еще сильнее пощекотать нервы страхом, ибо только в этом чувстве находил он что-то от счастья, от упоения, что-то возвышенное среди своего сытого, ленивого, растительного существования. И после каждого большого проигрыша он кидался за новым богатством, и усердно занимался торговлей, и сурово взыскивал с должников, потому что хотел снова играть, снова растрачивать, снова показывать свое презрение к богатству. Сиддхартха потерял безразличие к проигрышам, потерял снисходительность к бедным, потерял удовольствие дарить и ссужать деньги просящим. Он, проигрывавший по десять тысяч за один ход в кости и смеявшийся при этом, стал жестким, мелочным, скупым торговцем и иногда по ночам видел во сне деньги! И хотя временами он пробуждался от этих омерзительных колдовских чар, и нередко замечал в зеркале на стене спальни, что лицо его становится старым и отталкивающим, и хотя часто охватывали его стыд и отвращение, — он вновь устремлялся в оглушающую стихию чувственности и вина, чтобы снова вынырнуть в потоке суеты и гонки за наживой; кружась в этом бессмысленном круговороте, он уставал, старился, болел.
И однажды его посетило видение. В тот вечер он был у Камалы, в ее прекрасном загородном саду. Они сидели под деревьями и беседовали, и задумчива была Камала, и в словах ее слышалась усталость и таилась печаль. Она просила его рассказать о Готаме и не могла наслушаться, и он рассказывал ей, как чисты глаза Возвышенного, как добра его усмешка, спокойны и прекрасны губы, спокойна поступь. Долго рассказывал он Камале о возвышенном Будде, и, вздохнув, она сказала:
— Когда-нибудь, может быть скоро, и я последую за этим Буддой. Я подарю ему этот сад и тоже примкну к его учению.
Но потом она привлекла Сиддхартху и в игре любви, в порыве мучительной страсти притянула к себе с поцелуями и слезами, словно из этой чаши мимолетного и преходящего наслаждения ей оставалось выпить последние капли сладости. Никогда еще не ощущал Сидд-хартха с такой поразительной ясностью эту кровную близость чувственного наслаждения и смерти. Потом он лежал рядом с ней, и лицо Камалы было совсем близко, и в тенях под ее глазами и в углах ее рта он впервые так ясно читал написанную тонкими линиями чуть заметных морщин печальную надпись, напоминавшую о приходе осени, о приходе старости, так же как в своих черных волосах Сиддхартха замечал уже здесь и там седые волоски, строки той же печальной надписи, — в сорок с небольшим лет. Усталость была написана на красивом лице Камалы, усталость от долгого пути без радостной цели, — усталость, и близость увядания, и тайная, еще не высказанная, быть может даже еще не осознанная, тревога: страх веред старостью, страх перед осенью, страх перед неизбежностью смерти. Со вздохом простился он с ней, с тяжелой душой, полной скрытой тревоги.
Сиддхартха провел эту ночь в своем доме с танцовщицами, за вином; привычно демонстрировал превосходство над окружающими, которого уже не было, выпил много вина, поздно за полночь добрался до своей постели — усталый и одновременно возбужденный, близкий к слезам и отчаянию — и долго и безуспешно пытался заснуть. Сердце его переполнилось страданием, которого он, казалось, уже не мог больше выносить; отвращение переполнило его, пропитало его насквозь, так же как тепловатый, противный вкус вина, и приторная, надоедливая музыка, и слишком нежные улыбки танцовщиц, и слишком сладкий запах их волос и грудей. Но отвратительней всего был он сам, его тошнило от самого себя, от своих благоухающих волос, от пахнущего вином рта, от своей сонной усталости, от ощущения собственной кожи. Как человек, который слишком много съел или выпил, мучительной, изматывающей рвотой освобождает желудок и радуется наступившему облегчению, таков, мучимый бессонницей, мечтал в каком-то чудовищном приступе тошноты освободиться от этих удовольствий, этих привычек, от всей этой бессмысленной жизни, от самого себя. Лишь в свете утра, когда уже начала оживать улица перед его домом, он задремал — краткие мгновении полузабытья-полубодрствоваиия, но в эти мгновения он увидел сон.
У Камалы в золотой клетке жила редкая певчая птичка, ж теперь она снилась ему. Ему снилось, что эта птичка, всегда певшая по утрам смолкла и он заметил это, и подошел к клетке, и посмотрел, и увидел, что маленькая птичка мертва и лежит, окоченев, на дне клетки. Он вынул ее, потом какое-то мгновение взвешивал на ладони, а потом выкинул в окно, на улицу, и в тот же миг страшно испугался, и сердце его сжалось такой болью, как будто все, что есть на свете ценного и доброго, он вместе с этой мертвой птичкой отбросил от себя.
Сиддхартха очнулся от этого сна, охваченный чувством глубокой печали. Бездарно — так казалось ему — бездарно и бессмысленно проводил он свою жизнь; ничего живого, ничего что имело бы хоть какую-то цену, что стоило бы сохранить, не оставалось в его руках.
Одинокий и опустошенный, стоял он, как потерпевший кораблекрушение у чужих берегов… Хмуро ушел Сиддхартха в принадлежавший ему сад, закрыл калитку и сел под манговым деревом, ощущая в сердце смерть и в груди тоску; текли часы, он чувствовал, как что-то умирает в нем, увядает, идет к концу. Постепенно собрал он мысли и прошел еще раз в душе весь путь своей жизни с самых первых дней, в каких помнил себя. Вкусил ли он на своем веку счастье, испытал ли блаженство? О да, много раз. Какую радость в детские годы приносила заслуженная похвала брахманов, когда он, намного опережавший сверстников, отличался в чтении священных стихов, или в диспуте с учеными, или помогая при жертвоприношении. Тогда говорило его сердце: “Перед тобой лежит путь, к которому ты призван, тебя ждут боги”. И снова, уже юношей, испытывал он радость, когда открывшаяся в раздумьях, все выше взлетавшая цель выделяла его из толпы прочих ищущих и притягивала к себе, когда с болью постигал он смысл брахмана, когда каждое добытое знание рождало в нем лишь новую жажду, — тогда вновь, несмотря на жажду и боль, захлестывала его та же радость: “Дальше! Дальше! Ты призван!” Этому зову он следовал, когда оставил родину и избрал жизнь самана, и потом, когда ушел от саманов к тому Совершенному, и когда ушел и от него — в неизвестное. Как давно он не слышит этого зова, как давно уже не достигает никаких вершин, каким гладким и скучным стал его путь, сколько долгих лет прожил он без высокой цели, без жажды, без воодушевления, удовлетворяясь маленькими наслаждениями и все же никогда не чувствуя удовлетворения! Все эти годы, сам того не зная, он старался, стремился стать таким же, как эти многие, как эти дети, и жизнь его была куда мучительнее и беднее их жизни, потому что ни цели их, ни их заботы не стали его целями и заботами; мир этих Камасвами был для него всего лишь игрой, комедией, танцем, на который смотрят с подушек. Ему нравилась Камала, была дорога ему, но — так ли это теперь? Действительно ли он все еще нуждается в ней или она — в нем? Не играют ли и они в какую-то нескончаемую игру? И так ли уж обязательно для этого жить? Нет, для этого — необязательно! Игра называлась “сансара”, игра для детей, игра, в которую, быть может, забавно сыграть один, два, десять раз, но каждый раз снова и снова?..
И тут Сиддхартха понял, что игра уже окончена, он не сможет больше играть. Дрожь пробежала по его телу, он чувствовал: что-то умерло в его душе.
Весь день просидел он под манговым деревом, думал о своем отце, думал о Говинде, думал о Готаме. Для того ли он оставил их, чтобы сделаться Камасвами? Он все еще сидел там, когда спустилась ночь… и взглянул вверх, на звезды, и подумал: “Вот я сижу тут, под моим манговым деревом, в моем саду”. Он чуть усмехнулся: что же, необходимо это, правильно это, разве не дурацкая это игра, что вот он — владелец мангового дерева, владелец сада?
С этим тоже было покончено, это тоже умерло в нем. Он поднялся, попрощался с манговым деревом, попрощался с садом. Так как весь день он ничего не ел, то почувствовал сильный голод и подумал о своем городском доме, о накрытом обеденном столе, о своей спальне и постели. Устало усмехнувшись, он покачал головой и простился со всем этим.
В тот же ночной час Сиддхартха покинул город, чтобы больше уже не возвращаться. Камасвами долго разыскивал его, полагая, что он попал в руки разбойников, — Камала его не разыскивала. Она не удивилась, узнав об исчезновении Сиддхартхи. Разве не ждала она этого каждый день? Разве не был он саманом, странником, бездомным? Она особенно сильно почувствовала это в их последнюю встречу и сквозь боль утраты радовалась, что так крепко прижимала его к своему сердцу в тот последний раз, что еще один раз ощутила себя до конца преданной ему, проникнутой им.
Когда ей принесли первое известие об исчезновении Сиддхартхи, она подошла к окну, там в золотой клетке жила у нее в плену редкая певчая птичка. Она открыла дверцу клетки, достала птичку и выпустила ее. Долго смотрела она вслед летящей птице. С этого дня она больше не принимала посетителей и двери ее дома были закрыты. А через некоторое время она поняла, что со дня их последней встречи с Сиддхартхой она беременна.
НА РЕКЕ
Сиддхартха шел по лесу, удаляясь от города. Он знал: назад он уже не вернется; та жизнь, которую он столько лет вел, прошла, кончена, выпита до дна, вычерпана до мутного осадка. Умерла певчая птичка из утреннего сна, умерла птичка в сердце его. Глубоко погрузился он в сансару, со всех сторон впитывая тошноту и тлен, как впитывает воду губка, пока не пропитается насквозь. И он был полон пресыщения, полон страдания, полон смерти, и ничего не было в мире, что привлекло бы его, обрадовало, смогло утешить.
И он страстно желал утратить опостылевшее сознание, обрести покой, обрести смерть. Пусть же сверкнет молния и поразит его! Пусть придет тигр и сожрет его! Пусть вино, пусть яд принесет ему опьянение, забвение и сон, от которого уже не пробудиться! Есть ли на свете украшение, которого он на себя не надевал, грех или глупость, которых он не совершил, порок, которым он не запятнал свою совесть?
Так разве это еще возможно — жить? Разве это возможно — снова и снова вдыхать воздух, воздух выдыхать, чувствовать голод, снова есть, снова спать, снова лежать рядом с женщиной? Разве этот круговорот для него не исчерпан, не завершен?
Сиддхартха подошел к большой реке. Река текла в лесу, это была та самая река, через которую когда-то, когда он был молод и шел из города Готамы, его перевез перевозчик. Остановившись у этой реки, он в нерешительности стоял на берегу. Он ослабел от усталости и голода, да и к чему было идти дальше? Куда, к какой цели? Не было больше никакой цели, ничего не было, кроме глубокого, мучительного желания стряхнуть с себя весь этот кошмарный сон, выплеснуть прочь перестоявшее вино, положить конец этой неудавшейся, позорной жизни.
На берегу, наклонясь к воде, росла кокосовая пальма, к ее стволу прислонился плечом Сиддхартха, обнял ствол рукой и смотрел вниз, в зеленую воду, которая бежала и бежала под ним; он смотрел вниз и чувствовал, как его наполняет желание ослабить пальцы и погрузиться в эти воды. В водяных бликах мерцала какая-то зловещая пустота, и страшная пустота его души была созвучна ей. Да, путь его подходил к концу. Ничего больше не оставалось, кроме как стереть неудачный рисунок, уничтожить эту жизнь, швырнуть ее под ноги издевательски хохочущим богам. Вот то великое, что он свершит: он умрет, он разрушит ненавистную форму! Пусть сожрут его рыбы, эту собаку с именем Сиддхартха, этого сумасшедшего, это развращенное, прогнившее тело, эту ослабевшую, истасканную душу! Пусть сожрут его рыбы и крокодилы, пусть демоны растерзают его!
Мучительно, не отрываясь, вглядывался он в воду, вглядывался в искаженное отражение своего лица и — плюнул на него. В глубокой усталости он ослабил руку, обхватившую дерево, и чуть повернулся вокруг него, чтобы упасть отвесно и исчезнуть наконец. Закрыв глаза, он заскользил навстречу смерти.
И тогда сквозь смертельную усталость, из отдаленных уголков его измученной души, из далекого прошлого донесся какой-то отзвук. Это было слово, один только слог, и без единой мысли, слабым голосом, едва слышно он произнес его, — старое слово, которым начинались и заканчивались молитвы брахманов, священное слово “Ом”, означавшее то же, что и “совершенное” или “завершение”… И в тот миг, когда звук “Ом” коснулся слуха Сиддхартхи, его задремавший дух вдруг очнулся и увидел всю нелепость происходящего.
Сиддхартха глубоко испугался. Вот, значит, как обстоит с ним, он настолько заблудился, настолько потерян и покинут всяким знанием, что мог искать смерти. До таких размеров могло в нем вырасти это глупое, детское желание: уничтожить собственное тело, чтобы обрести покой! То, чего не сделали все мучения этого последнего времени, все приступы отрезвления и приступы отчаяния, сделал один-единственный миг, когда Ом проник в его душу: он увидел себя в истинном свете своего страдания и своего заблуждения.
— Ом! — повторял он чуть слышно. — Ом!
И вновь он знал о брахмане, о неуничтожимости жизни, снова знал все то божественное, что было забыто им. Но это длилось лишь один миг, как молния. Разбитый усталостью, бормоча Ом, опустился Сиддхартха на землю, положил голову на корни дерева и погрузился в тяжелый сон.
Глубок был его сон и свободен от сновидений, уже давно не знал он такого сна. Когда через много часов он пробудился, ему показалось, что прошло десять лет. Слышался легкий шум воды, он не знал, где он и кто его сюда перенес. Открыв глаза, он с удивлением увидел деревья и небо над собой и вспомнил, где он находится и как попал сюда. Ему, однако, понадобилось на это немало времени, прошедшее было словно отделено от него какой-то пеленой: оно было бесконечно далеко, бесконечно давно и бесконечно неважно. В первый миг прояснения вся прошлая жизнь показалась ему давней-давней попыткой воплотить его теперешнее “я” — как бы преждевременным рождением; теперь он знал только, что свою прошлую жизнь он оставил, что в припадке отвращения и боли он хотел даже оборвать эту жизнь, но, очнувшись со священным словом “Ом” на губах, увидел себя на берегу реки, под кокосовым деревом, и заснул, и вот проснулся, и глазами новорожденного вновь смотрит в мир. Тихо произнес он слово “Ом”, с которым заснул, и ему показалось, что весь его долгий сон был одним сплошным углубленным произнесением слова “Ом”, мышлением слова “Ом”, проникновением и полным погружением в Ом, в Безымянное, в Завершенное.
Как, однако, удивительно он спал! Никогда еще не бывало, чтобы сон так освежил, обновил, омолодил его! Может быть, он действительно умер, канул в небытие и возродился в новом существе? Но нет, он знал себя, знал свою руку, свои ноги, знал место, где лежит, знал это “я” в своей груди, этого Сиддхартху, упрямого и непохожего, но этот Сиддхартха был все же иным, был обновленным, был удивительно выспавшимся, удивительно бодрым, радостным и любопытным.
Сиддхартха приподнялся и увидел, что напротив него сидит, задумавшись, неизвестный ему человек, какой-то монах в желтом одеянии, с бритой головой. Он стал рассматривать незнакомца и после недолгого рассматривания узнал в этом бритоголовом, безбородом монахе Говинду, друга своей юности, Говинду, примкнувшего к учению возвышенного Будды. Говинда тоже постарел, но лицо его все еще сохраняло прежние черты, говорившие об усердии, верности, беспокойстве, пугливости. Говинда, почувствовав взгляд, открыл глаза и посмотрел на него, и Сиддхартха понял, что Говинда его не узнал. Говинда обрадовался его пробуждению, — видимо, он долго сидел тут и ждал, когда Сиддхартха проснется, хотя и не узнал его.
— Я спал, — сказал Сиддхартха. — Как ты здесь оказался?
— Ты спал, — ответил Говинда. — Это нехорошо — спать в таких местах, где много змей и где проходят звериные тропы. Я, о господин, — ученик возвышенного Готамы, Будды, Шакья-Муии, и проходил вместе с несколькими нашими этой дорогой. Я увидев что ты лежишь и спишь в таком месте, где спать опасно. Тогда я попытался разбудить тебя, о господин, но, увидев, что сон твой очень глубок, я отстал от братьев и остался посидеть рядом с тобой. А потом, кажется, я и сам заснул — я, собиравшийся охранять твой сон. Плохо я исполнил свое дело, усталость одолела меня. Но теперь, когда ты уже проснулся, позволь мне идти, чтобы я смог догнать моих братьев.
— Благодарю тебя, саман, за то, что ты хранил мой сон, — сказал Сиддхартха. — Дружелюбны вы, ученики Возвышенного. Иди же теперь.
— Я ухожу, господин. Пусть господину всегда сопутствует удача.
— Благодарю тебя, саман.
— Прощай, — сказал Говинда и сложил руки в прощальный жест приветствия.
— Прощай, Говинда, — сказал Сиддхартха. Монах застыл:
— Позволь, господин, откуда ты знаешь мое имя?
Сиддхартха усмехнулся:
— Я знаю твое воля, Говинда. И помню хижину твоего отца. И школу брахманов, и жертвоприношения, и наш уход к саманам, и тот час, когда в саду Джетавана ты примкнул к Возвышеиному.
— Ты — Сиддхартха! — вскричал Говинда. — Я узнаю тебя теперь и уже не понимаю, как я мог не узнать тебя сразу. Здравствуй, Сиддхартха! Велика моя радость вновь видеть тебя.
— И я рад, что мы снова увиделись. Ты хранил мой сон, еще раз спасибо тебе за это, хотя я и не нуждался в охране. Куда идешь, о друг?
— Да никуда в особенности не иду. Мы, монахи, все время в дороге, пока не настанет время дождей, — все время кочуем с места на место, живем по обычаю, проповедуем учение, принимаем подаяния, идем дальше. И так все время. А ты, Сиддхартха, куда идешь ты?
Сказал Сиддхартха:
— Со мной, друг, дело обстоит так же, как с тобой. Я никуда не иду, я просто в пути. Я странствую.
Говинда сказал:
— Ты говоришь, ты странствуешь, и я верю тебе. Но прости, о Сиддхартха, выглядишь ты не как странник. На тебе одежда богатого, на тебе сандалии знатного, и твои волосы, пахнущие благовониями, — это не волосы странника, это не волосы самана.
— Да, дорогой, хорошо ты смотрел, все заметил твой острый глаз. Но я и не говорил, что я саман. Я говорил: “Я странствую”. И это так, я странствую.
— Ты странствуешь, — сказал Говинда. — Но немногие странствуют в такой одежде, немногие — в такой обуви, немногие — с такими волосами. Никогда я — а я странствую уже много лет — не встречал еще такого странника.
— О, я верю тебе, мой Говинда. Но вот сегодня ты встретил именно такого странника, в такой обуви, в таком одеянии. Вспомни, милый: преходящ мир явлений, преходящ. В высшей степени преходящи наши одеяния, и вид наших волос, и сами наши волосы, и наши тела. Я ношу одежду богатого, это ты верно заметил, Я ношу ее, потому что я был богатым, и я ношу прическу, какие носят миряне и игроки, потому что я был одним из них.
— А теперь, Сиддхартха, кто ты такой?
— Я не знаю этого. Я не знаю этого так же, как и ты. Я в пути. Вчера я был богачом, сегодня я уже не богач, а кем я стану завтра, я не знаю.
— Ты потерял свое богатство?
— Я потерял его или оно — меня, но мои руки свободны от него. Быстро крутится колесо превращений, Говинда. Где брахман Сиддхартха? Где саман Сиддхартха? Где богач Сиддхартха? Быстро сменяется преходящее, Говинда, ты это знаешь.
Говинда долго с сомнением в глазах смотрел на друга своей юности. Потом еще раз приветствовал его — так, как приветствуют старших, — и пошел своей дорогой.
С улыбкой смотрел Сиддхартха ему вслед, он все еще любил его, этого верного, этого пугливого. Да и как мог он в такую минуту, в этот высокий миг пробуждения после своего удивительного сна, — как мог он, пронизанный словом “Ом”, кого-то или что-то не любить! Благословение, сошедшее на него во сне и в слове “Ом”, в том и состояло, что он все полюбил, был исполнен радостной любви ко всему, что он видел. И именно оттого — казалось ему теперь, — оттого был он раньше так сильно болен, что он никого и ничто не мог полюбить.
С улыбкой смотрел Сиддхартха вслед исчезавшему монаху.
Сон очень укрепил его, но сильно мучил голод: уже два дня он ничего не ел, а давно ушло то время, когда он мог не замечать голода. С горечью, но и с улыбкой подумал он о том времени. Тогда — он помнил — он хвастался —
и от великого знания я снова должен был уйти. Я ушел, чтобы учиться у Камалы радостям любви и у Камасвами — торговле; я копил деньги и тратил деньги, я учился любить свой желудок, учился ласкать свои чувства. Немало лет потребовалось мне, чтобы утратить силу духа, чтобы вновь разучиться думать, чтобы забыть о единстве мира. Разве не похоже это на то, как будто во мне медленно, извилистым путем, делая большие крюки, мужчина превращался в ребенка, мыслитель — в человека-дитя. И все же очень хорошим был этот путь, и все-таки не умерла звонкая птичка в моей груди. Но что это был за путь?
Сколько глупостей, сколько пороков, сколько заблуждении, сколько мерзостей, разочарований, тоски — и все только для того, чтобы снова стать ребенком и иметь возможность начать все с начала! Но это было правильно — так говорит мне мое сердце, и глаза мои улыбаются прошлому. Я должен был пережить отчаяние, я должен был опуститься до глупейшей из всех мыслей, до мысли о самоубийстве, чтобы получить прощение, чтобы вновь услышать „Ом», чтобы вновь крепко спать и радостно пробуждаться. Я должен был стать глупцом, чтобы вновь найти в себе атман. Я должен был грешить, чтобы снова начать жить. Куда еще приведет меня мой путь? Глуп он, этот путь, он идет петлями, он, может быть, идет по кругу. Пусть он кружит как хочет, я готов идти”.
С удивлением ощущал он, как бурлит в груди радость.
“Откуда, — спрашивал он свое сердце, — откуда эта веселость? Может быть, из долгого, доброго сна, который так освежил меня? Или из слова „Ом», которое я произнес? Или просто я рад, что побег мой свершился, что наконец я снова свободен и, как ребенок, стою под небом? О, как прекрасно это бегство, это освобождение! Как чист и прекрасен здесь воздух, как хорошо дышать! Там, откуда я убежал, — там все отдавало маслом, пряностями, вином, избытком, ленью. Как ненавидел я этот мир богачей, мир кутил и игроков! Как ненавидел я самого себя, так долго оставаясь в этом ужасном мире! Как я себя ненавидел! Как я себя ограбил, отравил, измучил, каким старым и злым я сам себя сделал! Нет, никогда больше не стану я делать того, что когда-то делал так охотно: воображать, будто Сиддхартха мудр! Но что я хорошо сделал, что мне нравится и что я должен похвалить — это то, что покончено наконец с ненавистью к самому себе, с глупой и пустой прошлой жизнью. Я хвалю тебя, Сиддхартха: после стольких лет слепоты ты снова прозрел, ты что-то сделал, ты услышал в своей груди поющую птичку и последовал за ней!”
Так хвалил он себя, и радовался себе, и временами с интересом прислушивался к своему желудку, урчавшему от голода. Он чувствовал, что в последнее время, за эти последние дни, в избытке отведал горечи и страдания — хлебнул до отчаяния, до смерти. Хорошо, что это было. Долго еще мог он оставаться у Камасвами, наживать деньги, проматывать деньги, отращивать брюхо и убивать душу; долго еще мог он прожить в этой уютной, устланной коврами тюрьме, если бы не настал тот миг безысходного, безграничного отчаяния, тот последний миг, когда, склонившись над бегущим потоком, он был готов уничтожить себя. Но он смог почувствовать это отчаяние, это глубочайшее отвращение к себе — это еще было доступно ему, — значит, не высох святой источник, не умер тайный голос, и жива еще поющая птичка в его душе! Вот что вселяло в него радость, вот почему он смеялся, вот отчего так светилось его обрамленное сединами лицо.
“Это хорошо, — думал он, — испытать на себе все, о чем нужно знать. Что мирские соблазны к добру не ведут, я выучил еще ребенком. Знал я это давно, но понял лишь теперь. И вот сейчас я действительно знаю это, знаю не только рассудком, но своими глазами, своим сердцем, своим желудком. Хорошо же, что я это знаю!”
Долго размышлял он о своем превращении, слушал, как поет от радости птичка в его груди. Разве не умерла в нем эта птичка? Разве не чувствовал он, как она гибнет? Нет, что-то другое умерло в нем, что-то такое, что давно ждало смерти. Не его ли это собственное “я” — маленькое, робкое и гордое “я”, с которым он столько лет боролся, которое всякий раз его побеждало и убитое, появлялось вновь, отнимая радость, вселяя страх? Не оно ли сегодня нашло наконец свою смерть — здесь, в лесу, у этой чудной реки? И не благодаря ли этой смерти он так по-детски счастлив теперь, так полон доверия и радости, так свободен от страха?
И теперь догадался Сиддхартха, почему и брахманом, и отшельником он тщетно боролся с этим “я”: слишком много было знаний, слишком много священных стихов, жертвенных правил, самобичеваний, слишком много деловитости и тщеславия — вот что мешало ему. Полон высокомерия он был: всегда умнейший, всегда усерднейший, всегда на шаг впереди других, всегда жрец или мудрец. В этом высокомерии, в этой духовности скрывалось его “я”, здесь прочно коренилось оно и росло, в то время как он думал, что постами и истязаниями убивает его. Он должен был идти в мир, гоняться за наслаждениями и властью, за женщинами и деньгами, должен был сделаться торговцем, игроком, пьяницей и ростовщиком, чтобы умерли в нем жрец и саман. Но мало того, он еще должен был прожить эти безобразные годы, узнать отвращение, узнать бессмысленность постылой, загубленной жизни, испить эту чашу до конца, до горького отчаяния, до того мгновения, когда сластолюбец Сиддхартха и ростовщик Сиддхартха тоже умрут. И они умерли. От глубокого сна пробудился новый Сиддхартха. Он тоже состарится, он тоже когда-то должен будет умереть, ибо изменчив Сиддхартха, как изменчиво все сущее, но в этот день он был юн, он был ребенком, новым Сидхартхой, и радость переполняла его.
Об этом думал он, и прислушивался, усмехаясь, к своему желудку, и благодарно слушал, как жужжит пчела. Светло смотрел он на бегущую реку, никогда еще не любил он так воду, никогда еще шорох и игра бегущей воды не казались ему так прекрасны, не проникали так глубоко в его душу. Ему казалось, что река хочет сказать ему что-то особенное, что-то такое, о чем он еще не знает, что его еще только ждет. В этой реке хотел утонуть Сиддхартха, но старый, усталый, отчаявшийся Сиддхартха утонул сегодня в нем самом. А новый Сиддхартха чувствовал глубокую любовь к этой бегущей воде и решил про себя, что не так скоро вновь расстанется с ней.
ПЕРЕВОЗЧИК
“Я останусь на этой реке, — думал Сиддхартха, — это та самая река, которую я когда-то перешел на своем пути к людям-детям, меня перевез тогда один славный перевозчик — я пойду к нему. Из его хижины начался когда-то мой путь в новую жизнь, которая теперь изношена и кончена, пусть же и этот мой новый путь, и теперешняя моя жизнь начнутся там!”
С нежностью смотрел он на бегущую воду, всматривался в прозрачную зеленую глубь, в кристальные линии ее таинственного рисунка. Он видел, как светлые жемчужины поднимаются из глубины, как легкие порывы ветра пробегают по сверкающей водной глади, как отражается в ней голубизна неба. Тысячью глаз смотрела в него река: зелеными, белыми, хрустальными, небесно-голубыми. Как любил он эту воду, как она восхищала его, как он был ей благодарен! Он слышал в своем сердце оживший, вновь проснувшийся голос, и голос говорил ему: “Люби эту воду! Оставайся возле нее! Учись у нее!” О да, он хотел у нее учиться, хотел слушать ее; ему казалось, что тот, кто поймет эту воду, поймет ее тайну, тот сможет понять и многое другое, многие тайны, все тайны.
Но из таинств реки ему открылось пока лишь одно, лишь то, что почувствовала его душа. Он видел: эта вода течет и течет, все время течет она, то все время остается здесь, всегда и во все времена одна и та же — и все же каждый миг новая! О, если бы охватить это, понять это! Но ни понять, ни охватить этого он не мог и чувствовал только, как шевелятся в душе смутные догадки, всплывают далекие воспоминания, звучат божественные голоса.
Телесная, плотская мука голода стала невыносимой; Сиддхартха поднялся и побрел вдоль берега реки навстречу потоку, прислушиваясь к течению, прислушиваясь к голодному урчанию в своем животе. Он достиг переправы, и лодка была у берега, как будто ждала его, и в лодке стоял тот же перевозчик, который когда-то перевез через реку молодого самана. Он тоже сильно постарел, но Сиддхартха узнал его.
— Перевезешь меня через реку? — спросил Сиддхартха.
Перевозчик, подивившись тому, что такой знатный господин путешествует в одиночку и пешком, посадил его в лодку и сел за весла.
— Прекрасную жизнь ты себе избрал, — сказал странный гость. — Прекрасно, должно быть, проводить каждый день у этой воды и плавать по ней.
Гребец, усмехнувшись, кивнул:
— Это прекрасно, господин, это — так, как ты говоришь. Но разве не всякая жизнь и не всякая работа прекрасны?
— Может быть. Но твоей жизни я завидую. И твоей работе.
— Моя работа, господин, тебе скоро бы разонравилась. Она не для людей в красивых одеждах.
Сиддхартха рассмеялся:
— Из-за моей одежды меня сегодня уже разглядывали — и недоверчиво разглядывали… Перевозчик, не возьмешь ли ты у меня эту одежду? Она в тягость мне. Да к тому же и денег, чтобы заплатить тебе за переправу, у меня нет.
— Господин шутит, — засмеялся перевозчик.
— Я не шучу, друг. Вглядись, однажды ты уже перевозил меня в твоей лодке — бесплатно перевозил. Так сделай это и сегодня и прими в уплату мое платье.
— А господин пойдет дальше путешествовать без одежды?
— Ах, я с радостью закончил бы это путешествие. Я был бы рад, если бы ты, перевозчик, дал мне старую накидку и оставил у себя помощником, вернее, учеником, потому что сначала я должен научиться править лодкой.
Долго, изучающе смотрел перевозчик на чужака.
— Теперь я узнал тебя, — сказал он наконец. — Ты ночевал когда-то в моей хижине. Это было давно, наверное больше двадцати лет назад. Я перевез тебя через реку, и мы хорошо расстались. Ты ведь был саман? Не могу уже вспомнить твоего имени.
— Мое имя Сиддхартха. И я был саман, когда мы встретились с тобой.
— Что ж, добро пожаловать, Сиддхартха. Меня зовут Васудева. Я думаю, ты и сегодня будешь моим гостем, переночуешь в моей хижине, расскажешь мне, откуда ты пришел и почему твоя богатая одежда так тяжела тебе.
Они были уже на середине реки, и Васудева, борясь с течением, сильнее налег на весла, взгляд его был устремлен на корму лодки, размеренно работали сильные руки. Сиддхартха не отрываясь смотрел на него и вспоминал, как когда-то, в последний день его отшельнической жизни, прекрасное чувство любви к этому человеку наполнило его сердце. С благодарностью принял он приглашение Васудевы. Когда они достигли берега, Сиддхартха помог Васудеве привязать лодку к колышку, и перевозчик пригласил его войти в хижину, и дал хлеба и плодов манго, и налил воды, и Сиддхартха разделил с Васудевой трапезу и ел с наслаждением.
Потом, когда солнце уже склонялось к закату, они сидели на берегу на поваленном стволе и Сиддхартха рассказывал перевозчику свою историю, всю свою жизнь, как она предстала перед его глазами в тот час отчаяния. До глубокой ночи затянулся его рассказ.
Васудева слушал с большим вниманием. Он, казалось впитывал в себя рассказ Сиддхартхи: происхождение, и детство, и все годы учения, и годы исканий, и все радости, и всю тоску. Среди многих достоинств перевозчика это было одним из самых больших: он умел слушать. Он не произносил ни слова, но говоривший чувствовал, как спокойно, открыто, доброжелательно принимает Васудева его слова, как ни одного не пропускает, ни одного не ждет с нетерпением, не хвалит про себя и не осуждает — только слушает. Сиддхартха понял, какое это счастье — рассказать о себе все такому слушателю, перелить в его сердце свою жизнь, свои поиски, свои страдания.
Но конец рассказа Сиддхартхи (когда он говорил о дереве у реки, о постыдной своей слабости, о священном слове “Ом” и о том, как, очнувшись от своего забытья, он всей душой полюбил эту реку) перевозчик слушал с удвоенным вниманием, целиком обратившись в слух, закрыв глаза.
Сиддхартха умолк, и наступила долгая тишина, и потом в тишине зазвучал голос Васудевы.
— Да, так я и думал, — сказал он. — С тобой говорила река. Она и твой друг тоже, она разговаривает с тобой. Это хорошо. Это очень хорошо. Оставайся со мной, Сиддхартха, оставайся, мой друг. У меня была жена, ее постель была рядом с моей, но уже много лет как она умерла, много лет как я живу один. Живи теперь ты со мной, места и еды хватит нам обоим.
— Я благодарю тебя, — сказал Сиддхартха. — Я благодарю тебя и остаюсь. И еще за то благодарю тебя, Васудева, что ты так замечательно слушал меня! Редко встречаются люди, умеющие слушать, и никогда не встречал я человека, который умел бы слушать так, как ты. Этому я тоже буду учиться у тебя.
— Ты будешь этому учиться, — сказал Васудева, — но не у меня. Слушать меня научила река, у нее будешь учиться и ты. Она все знает, эта река, всему можно у нее научиться. Смотри, вот ты уже научился у нее, что это хорошо — идти вниз, спускаться, искать глубины. Богатый и знатный Сиддхартха станет простым гребцом, ученый Сиддхартха станет перевозчиком, — это подсказала тебе река. И остальному ты научишься у нее.
После долгой паузы Сиддхартха спросил:
— Чему же “остальному”, Васудева? Васудева встал.
— Уже поздно, — сказал он, — пора нам спать. Я не могу рассказать тебе этого, друг. Ты научишься этому, а может, ты это и так знаешь. Видишь ли, я ведь не ученый, я не умею говорить и думать тоже не умею. Я могу только слушать и чтить святое — больше ничему не научился. Если бы я мог все рассказать и научить, так я был бы, наверное, мудрец, а я просто перевозчик, и мое дело — перевозить людей через реку. Многих я перевез, тысячи, и для них всех была моя река только препятствием на пути. Они спешили за деньгами, ехали по делам, на свадьбы, к святым местам, а на пути была река, и тут же был перевозчик, чтобы им быстро переправиться через препятствие. Но несколько из тысяч — немного, четверо или пятеро, для которых река перестала быть препятствием, прислушались к ней, и она стала для них священной, как стала она священной для меня. И пойдем-ка отдыхать, Сиддхартха.
Сиддхартха остался с перевозчиком, и учился управлять лодкой, и, когда не было работы на переправе, работал с Васудевой на рисовом поле, запасал хворост, собирал плоды. Он учился строгать весло, чинить лодку, плести корзины и радовался своему учению, и дни и месяцы пролетали незаметно. Но больше, чем Васудева, давала ему река. У нее он учился беспрестанно. И прежде всего он учился у нее слушать — слушать с тихим сердцем, со спокойной, открытой душой, без страсти, без желания, без суждений и мнений.
Легко было ему жить рядом с Васудевой. Изредка обменивались они словами — немногими и хорошо обдуманными словами. Васудева не слишком любил говорить, редко удавалось Сиддхартхе склонить его к беседе.
— А ты, — спросил он его однажды, — ты тоже узнал от реки эту тайну: что нет никакой цели?
На лице Васудевы появилась светлая усмешка.
— Да, Сиддхартха, — сказал он. — Ты ведь вот что думаешь: что вода везде одинаковая, у истока и в устье, у водопада, возле переправы, на быстрине, в море, в горах, — везде одинаковая и что у нее есть только настоящее — ни тени прошлого, ни тени будущего?
— Да, — сказал Сиддхартха, — и, когда я это понял, я оглянулся на мою жизнь и увидел, что она тоже река, что ребенка Сиддхартху от взрослого Сиддхартхи, от старика Сиддхартхи отделяет лишь тень — и ничего реального. И предыдущие рождения Сиддхартхи не были прошлым, и его смерть, и возвращение к брахме — это не будущее. Ничего не было, ничего не будет, все есть, и сущность всякой вещи — в ее настоящем.
Сиддхартха говорил восторженно, это прозрение глубоко обрадовало его. Разве не прошли времена страдания, времена самоистязания и боязни самого себя, разве не исчезло, не преодолено все тяжелое, все враждебное в мире — если преодолено время, если можно считать, что время исчезло? Он все говорил и говорил, а Васудева только лучезарно усмехался ему и одобрительно кивал головой. Потом вместо ответа он потрепал Сиддхартху по плечу и вернулся к своей работе.
И еще как-то раз, когда был сезон дождей и река набухла и грозно ворчала, Сиддхартха сказал:
— Не правда ли, о друг, у этой реки много голосов — очень много голосов? Прислушайся, разве нет здесь голоса короля, и воина, и быка, и ночной птицы, и роженицы, и умирающего, и еще тысячи других голосов?
— Это так, — кивнул Васудева, — в ее голосе — голоса всех созданий.
— И если, — продолжал Сиддхартха, — тебе удастся услышать одновременно все ее десять тысяч голосов — знаешь, что ты услышишь?
Радость осветила улыбкой лицо Васудевы, он наклонился к Сиддхартхе и прошептал ему на ухо священное слово “Ом”. Это было то, что услышал Сиддхартха в голосе реки: “Ом”.
И со дня на день становилась его улыбка все больше похожа на улыбку перевозчика, была почти так же лучиста, почти так же пронизана радостью, так же светилась тысячью мелких морщинок, была такой же детской и такой же старческой. Многие проезжающие, когда они видели перевозчиков вместе, принимали их за братьев. Часто по вечерам они сидели вдвоем на берегу на поваленном дереве, молчали и слушали реку, и не шум воды звучал в ушах обоих, а голос жизни, голос бытия, голос вечного становления. И временами случалось, что оба, слушая реку, думали об одном и том же — о позавчерашнем разговоре, о проезжем, чье лицо, чья судьба их заинтересовала, о смерти, о своем детстве — и, когда река говорила им что-то хорошее, оба одновременно взглядывали друг на друга, безмолвно задавая один и тот же вопрос, безмолвно радуясь одинаковым ответам.
От этой переправы, от обоих перевозчиков словно исходило что-то — многие проезжающие это замечали, чувствовали. Случалось, что проезжий долго смотрел в лицо перевозчика и начинал рассказывать свою жизнь: рассказывал о страданиях, признавался в преступлениях, искал сочувствия, просил совета. Случалось иногда, что проезжий просил разрешения задержаться у них на вечер — посидеть у реки. Случалось, что приходили и любопытные, которым рассказали, что на этой переправе живут двое мудрецов, или волшебников, или святых. Любопытные задавали много вопросов, но ответов не получали и вместо волшебников и мудрецов видели двух морщинистых дружелюбных старичков, немых, немного чудаковатых и вообще, кажется, слегка тронувшихся. И удивлялись любопытные легковерию людей, распространявших такие пустые слухи, и бранили любопытные глупость людскую.
Шли годы, ни один из двоих не считал ушедших лет. И однажды на переправе появились монахи, последователи Готамы, Будды, которые попросили переправить их через реку, и перевозчики узнали, что монахи очень спешат к своему великому учителю, ибо распространилась весть, что Возвышенный смертельно болен и вскоре последней смертью окончится его последний земной путь и он умрет, чтобы обрести спасение. Потом появилась еще группа монахов, потом еще одна, и все они, не только монахи, но и большинство проезжих и странников, говорили лишь о Готаме и о его близкой смерти. И как для военного похода или на коронацию какого-нибудь короля отовсюду, со всех сторон стекаются люди, сбиваясь, как птицы, в стаи, так, влекомые каким-то волшебством, стекались они туда, где великий Будда ждал прихода смерти, где свершалось чудо, где величайший Совершенный эпохи обретал бессмертие.
Часто в это время думал Сиддхартха об умиравшем мудреце, о великом учителе, чей голос, пробуждавший сотни тысяч и указывавший путь народам, довелось слышать и ему, чей святой лик он когда-то благоговейно лицезрел.
Он думал о нем с любовью, думал о его пути к совершенству и с усмешкой вспоминал слова, которые он, совсем тогда юный, сказал Возвышенному. Тогда эти слова казались ему гордыми и старчески мудрыми, — он усмехался, вспоминая их. Уже давно знал он, что ничто не отделяет его от Готамы, хотя и не может он принять его учение. Никакое учение не может принять подлинно ищущий — тот, кто действительно хочет найти. А тот, кто нашел, — тот может выбрать любое учение, любой путь, любую цель: его уже ничто не отделяет от тысячи других, которые живут в вечном, дышат божественным.
Так много паломников спешили к умирающему Будде что в конце концов решилась отправиться к нему и Камала, когда-то прекраснейшая из куртизанок. Давно уже оставила она свою прежнюю жизнь, подарила сад монахам Готамы, примкнула к его учению, давно принадлежала она к друзьям и покровителям странствующих.
Она узнала о близкой смерти Готамы и вместе со своим сыном Сиддхартхой пешком, в простой одежде отправилась в путь. Они шли вдоль реки, но ребенок скоро устал, стал проситься обратно домой, требовал отдыхать, просил есть, упрямился и хныкал. Камале приходилось делать из-за него частые остановки. Он привык ею командовать, она должна была его кормить, утешать, уговаривать. Он не понимал, почему он должен вместе с матерью совершать это утомительное траурное паломничество неизвестно куда, к какому-то чужому человеку, который был святой и лежал при смерти. Пусть умирает — какое ему до этого дело?
Паломники были недалеко от переправы Васудевы, когда маленький Сиддхартха снова заставил мать сделать остановку: он устал. Камала тоже утомилась и, пока мальчик карабкался на банановое дерево, прилегла на землю, прикрыла глаза и задремала. Вдруг она жалобно вскрикнула. Мальчик испуганно посмотрел на мать, увидел, как побледнело от ужаса ее лицо, увидел, как выскользнула из ее одежд маленькая черная змейка.
Изо всех сил бежали они по дороге и были уже рядом с переправой, когда Камала рухнула на землю и не смогла подняться. Ребенок обнимал и целовал мать и жалобно кричал, и она тоже, как могла, кричала и звала на помощь, и наконец крики их достигли ушей Васудевы, стоявшего у переправы, и поспешил на голоса, взял женщину на руки, понес к лодке — мальчик бежал рядом, — и вскоре они были уже в хижине, где в это время Сиддхартха разводил огонь, сидя у очага. Он поднял глаза и сперва увидел только лицо мальчика, удивительно похожего на него, — лицо, напоминавшее о прошлом. Потом он увидел Камалу. Она лежала без сознания на руках перевозчика, но он сразу узнал ее. Он понял, что мальчик, так похожий на него, его собственный сын, и сердце сжалось в его груди.
Ранку от укуса промыли, но она вскоре почернела. Тело Камалы отекло; они влили ей в рот целебное питье, и сознание вернулось к ней. Она лежала в хижине на постели Сиддхартхи, и над ней, склонившись, стоял сам Сиддхартха — тот, кто когда-то так любил ее. Это казалось ей сном. Улыбаясь, смотрела она в лицо друга… Постепенно вспоминая то, что произошло с ней, она вспомнила укус и испуганно позвала мальчика.
— Он рядом с тобой, не беспокойся, — сказал Сиддхартха.
Камала смотрела в его глаза. Она говорила с трудом, яд действовал.
— Ты постарел, милый, — сказала она, — и поседел. Но ты похож на того молодого самана, который когда-то без одежды, с запыленными ногами пришел ко мне в сад. Ты похож на него много больше, чем тогда, когда ты оставил меня с Камасвами. Ты похож на него глазами, Сиддхартха. Ах, и я тоже стала старой, старой… ты еще узнаешь меня. Сиддхартха улыбнулся ей:
— Я узнал тебя сразу, Камала, любимая. Камала взглядом указала на мальчика:
— А его ты тоже узнаешь? Это твой сын. Глаза ее стали безумными и закрылись, ребенок плакал. Сиддхартха посадил его к себе на колени, не утешал, гладил его волосы. Это детское лицо напомнило ему молитву брахманов, которую он выучил, когда сам еще был маленьким ребенком. Медленно, нараспев он начал читать, — из прошлого, из детства приходили к нему слова молитвы. И под ее напев мальчик затих, несколько раз еще всхлипнул и заснул. Сиддхартха уложил его на постель Васудевы. Васудева стоял у очага и варил рис. Сиддхартха взглянул на него, и Васудева, усмехаясь, ответил взглядом.
— Она умрет, — тихо сказал Сиддхартха. Васудева кивнул, отсветы огня пробежали по его доброму лицу.
Камала еще раз пришла в сознание. Боль изменила ее лицо, глаза Сиддхартхи читали муку в изгибе ее губ, на ее побелевших щеках. Он читал эти знаки безмолвно, внимательно, сосредоточенно, погрузившись в ее страдание Камала чувствовала, ловила его взгляд. Глядя в его лицо, она произнесла:
— Теперь я вижу: твои глаза тоже изменились. Они стали совсем другими… С чего же я взяла, что ты — Сиддхартха… Это ты и это не ты.
Сиддхартха молчал, мягко глядя в ее глаза.
— Ты достиг этого? — спросила она. — Ты нашел мир и покой?
Он улыбнулся и положил ладонь на ее руку,
— Я это вижу, — сказала она. — Я это вижу. И я тоже найду мир…
— Ты нашла его, — прошептал Сиддхартха Камала не отрываясь смотрела в его глаза, все думала о том, что собиралась идти к Готаме, чтобы увидеть лицо Совершенного и дышать его покоем, и вот вместо Готамы она нашла Сиддхартху. И это было хорошо, так же хорошо, как если бы она увидела того. Она хотела сказать ему это, но язык больше не слушался… Она молча смотрела на него, и он видел, как в ее глазах угасала жизнь. И когда эти глаза наполнились последней болью и последняя дрожь пробежала по ее телу, его пальцы прикрыли ей веки.
Долго сидел он, глядя в ее уснувшее лицо. Долго смотрел на ее рот: старость, усталость; высохшие губы — и вспоминал, что когда-то, в годы своей весны, он сравнивал этот рот со свежеразломленным плодом. Долго сидел он, вглядываясь в бледное лицо, в скорбные морщины, впитывал в себя черты ее лица, и видел свое лицо таким же запрокинутым, таким же белым, таким же безжизненным, и одновременно видел их лица юными, с алыми губами, с горящими глазами, и его насквозь пронизывало ощущение одновременности существования, ощущение вечности. В этот час он глубоко, глубже, чем когда-либо, почувствовал неуничтожимость каждой жизни, вечность каждого мгновения.
Когда он поднялся, его уже ждал приготовленный Васудевой рис, но есть Сиддхартха не стал. В сарае, где они держали коз, старики постелили себе соломы, и Васудева лег спать. А Сиддхартха вышел и всю ночь просидел перед хижиной, слушая реку, вглядываясь в прошлое, окутанный картинами разных времен своей жизни и взволнованный ими. Иногда он поднимался, подходил к двери хижины и прислушивался, спит ли мальчик.
Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел из сарая и подошел к другу.
— Ты не спал, — сказал он.
— Нет, Васудева. Я сидел здесь, я слушал реку. Она много сказала мне, она наполнила мою душу исцеляющими мыслями, мыслями о единстве.
— Ты страдал, Сиддхартха, но я вижу, что печаль не вошла в твое сердце.
— Нет, милый, как же могу я быть печален? Я был богат и счастлив, я стал еще богаче и счастливее. Мне подарили моего сына.
— Да будет твой сын и мне в радость. Но теперь, Сиддхартха, пойдем работать, многое надо сделать. Камала умерла на той же постели, на которой когда-то умерла моя жена. И мы сложим ей погребальный костер на том же холме, где я похоронил мою жену.
Они сложили костер, пока мальчик еще спал.
СЫН
В страхе, в слезах смотрел мальчик, как хоронили его мать. Угрюмо дичась, слушал он Сиддхартху, который называл его своим сыном и говорил, что теперь он будет жить вместе с ними в хижине Васудевы. Мальчик целыми днями сидел у могилы матери, был бледен, не ел; и взгляд, и сердце его ожесточилось, он боролся, он восставал против судьбы.
Сиддхартха оберегал мальчика, не мешал ему: понимал его тоску. Сиддхартха понимал, что сын не знает его и не может любить его как отца. Постепенно понял он и то, что этот одиннадцатилетний малыш — ребенок изнеженный, маменькин сынок, выросший в привычках богатства, привыкший к изысканной пище, к мягкой постели, привыкший командовать слугами. Сиддхартха понимал, что тоскующий и капризный ребенок не сразу и не охотно согласится на жизнь чуждую и бедную. Он не принуждал его, щадил его, выискивал для него лучшие куски. Он надеялся постепенно, дружелюбием и терпением, завоевать его сердце.
Богатым и счастливым назвал он себя, когда в его жизни появился этот мальчик, но время проходило, а ребенок оставался угрюмым и чужим, в сердце его гнездились гордость и упрямство, он не хотел делать никакой работы, не оказывал старикам никакого почтения, обирал фруктовые деревья Васудевы, и Сиддхартха начинал понимать, что не радость и счастье пришли к нему вместе с сыном, а мука и забота. Но он любил его, и эти муки и заботы любви были ему милее, чем радость и счастье — без ребенка.
С появлением в хижине маленького Сиддхартхи старики разделили свою работу. Васудева опять стал один работать на переправе, а Сиддхартха, чтобы быть рядом с сыном, — в хижине и в поле.
Долгое время, долгие месяцы ждал Сиддхартха, чтo сын поймет его, примет его любовь и, быть может, ответит на нее. Долгие месяцы ждал Васудева, смотрел, ждал, молчал. Однажды, когда Сиддхартха-младший в очередной раз измучил своего отца упрямством и капризами и разбил обе их миски для риса, Васудева отвел вечером своего друга в сторону и заговорил с ним.
— Прости меня, — сказал он, — с дружбой в сердце говорю я тебе. Я вижу, что ты мучишься, я вижу, что у тебя горе. Твой сын, милый, приносит тебе заботы, и мне он тоже приносит заботы. К другой жизни, к другому гнезду привыкла маленькая птичка. Ты бежал от богатства и города пресытившись и в отвращении, а он был вынужден оставить и то и другое против своей воли. Я спрашивал реку, о друг, много раз я спрашивал ее. Но река смеется, река насмехается, она высмеивает и меня и тебя, она хохочет над нашей глупостью. Воду влечет к воде, молодость — к молодости; твой сын не там, где он может расти. Спроси и ты реку, послушай ее!
Печально смотрел Сиддхартха в это дружеское лицо — в лучиках его бесчисленных морщинок светилась неумирающая усмешка.
— Разве я могу с ним расстаться? — тихо, пристыженно сказал он. — Дай мне только время, милый! Ты видишь, я борюсь за него, за его сердце, я завоюю его любовью, лаской, терпением. И с ним тоже должна когда-то заговорить река, и он тоже призван.
Усмешка Васудевы стала еще светлее и мягче.
— О да, и он тоже призван, и в нем тоже вечная жизнь. Но ведь мы знаем, ты и я, к чему он призван, какие ждут его пути, какие дела, какие страдания. Велики они будут: твердое, гордое у него сердце — такие много страдают, много ошибаются, творят много несправедливостей, совершают много грехов. Скажи мне, мой милый, ты не слишком сурово воспитываешь сына? Ты не мучишь его? Не бьешь, не наказываешь?
— Нет, Васудева, я ничего этого не делаю.
— Я знал это. Ты не принуждаешь его, не бьешь, не приказываешь ему, потому что ты знаешь, что мягкость сильнее твердости, вода сильнее скалы, любовь сильнее страха. Очень хорошо, я хвалю тебя. Но не ошибаешься ли ты, думая, что не мучишь, не наказываешь его? Не связываешь ли ты его по рукам и ногам своей любовью? Не казнишь ли его каждодневно мукой стыда, которая еще тяжелее от твоей доброты и твоего терпения? Не принуждаешь ли ты его, высокомерного и своевольного ребенка, жить в хижине с двумя стариками, которые едят одни бананы и для которых рис — уже лакомство, чьи мысли не могут быть его мыслями, чьи сердца состарились и остыли и бьются совсем иначе, чем его? Разве не чувствует он во всем этом принуждения, разве он не наказан? Сиддхартха сидел не поднимая глаз.
— Что же, по-твоему, я должен сделать? — тихо спросил он.
И Васудева сказал:
— Отведи его в город, отведи его в дом матери. Там еще будут слуги — отдай его им. А если там никого уже нет, то отведи его к какому-нибудь учителю — не ради учения, а для того, чтобы он был с другими детьми, и с девочками, и в мире, которому он принадлежит. Ты никогда не думал об этом?
— Ты читаешь в моем сердце, — сказал Сиддхартха печально. — Часто я думал об этом. Но скажи, как же я его — ведь у него и так далеко не кроткое сердце, — как я отпущу его в этот мир? Ведь он станет гордецом, ведь он забудет себя в погоне за наслаждением и властью, ведь он повторит все ошибки своего отца и, может быть, совсем, навсегда погибнет, погрузится в сансару?
Усмешкой осветилось лицо перевозчика, мягко потрепал он Сиддхартху по руке и сказал:
— Спроси об этом реку, друг! Послушай, как она смеется над этим! Неужели ты действительно думаешь, что ты совершал свои глупости для того, чтобы их не совершал твой сын? И разве можешь ты защитить твоего сына от сансары? Чем же? Учением? Молитвой? Наставлениями? Милый, разве ты совсем забыл ту историю, ту поучительную историю, о сыне брахмана Сиддхартхе, которую ты здесь, на этом самом месте, когда-то рассказал мне? Кто уберег самана Сиддхартху от сансары, от греха, от алчности, от глупости? Разве святость его отца, наставления учителей, его собственные знания, его искания защитили его? Какой отец, какой учитель смог уберечь его от того, чтобы самому прожить свою жизнь, самому в этой жизни запачкаться, самому принять бремя вины, самому пить горькое питье и самому отыскать свой путь? Неужели ты веришь, милый, что этот путь можно за кого-то пройти? Может быть, за твоего сыночка, потому что ты его любишь, потому что с радостью уберег бы его от страдания, от боли, от разочарований? Но если бы ты и десять раз умер за него, ты не смог бы принять на себя даже крохотной части его судьбы.
Еще никогда Васудева не произносил так много слов сразу. Сиддхартха дружески поблагодарил его, ушел, озабоченный, в хижину, долго не мог заснуть. Васудева не сказал ничего такого, чего бы сам он не знал, о чем не думал. Он все знал, но ничего не мог поделать; сильнее знания была его любовь к ребенку, сильнее — его нежность, сильнее — страх потерять мальчика. Разве когда-нибудь из-за чего-нибудь он страдал так, как сейчас? Когда, кого он так любил — так слепо, так мучительно, так безответно и все же так счастливо?
Сиддхартха не мог последовать совету друга, он не мог отдать сына. Он позволял ребенку командовать им, он позволял презирать себя. Он молчал и ждал, возобновляя ежедневно молчаливую борьбу дружелюбием, ведя беззвучную борьбу терпением. И Васудева молчал и ждал — дружелюбно, терпеливо, все понимая. В терпении они оба были мастера.
Однажды, когда лицо мальчика как-то особенно напомнило ему Камалу, Сиддхартха вдруг вспомнил слова, которые она когда-то, годы назад, в дни юности, сказала ему. “Ты не способен любить”, - сказала она, и он согласился с ней, и сравнил себя со звездой, а других — с опавшими листьями, но все же почувствовал в ее словах справедливый упрек. И в самом деле, никогда из-за другого человека не мог он потерять голову и волю, забыть себя, творить глупости — никогда он этого не мог, и в этом, казалось ему тогда, было то огромное различие, которое отделяло его от остальных, от людей-детей. Но теперь, с тех пор как его сын здесь, теперь и он, Сиддхартха, тоже человек-дитя, совершенно такой, как они: страдает из-за человека, любит человека, растворился в этой любви, от любви стал глупцом. Теперь и он — поздно, раз в жизни — узнал эту сильнейшую и редчайшую страсть, мучится ею, тяжело мучится, — и все-таки был счастлив, и будто обновлен, и чем-то богаче стал.
Конечно, он понимал, что эта слепая любовь к сыну — эта страсть, это страдание — всего лишь сансара, темный источник, мутная вода. И в то же время он чувствовал, что любовь эта не напрасна, что она необходима и пришла из глубин его существа. И это наслаждение придется ему искупить, и эту боль узнать, и эти глупости совершить.
А сын позволял ему совершать эти глупости, позволял уговаривать его, позволял ежедневно унижаться перед ним, потакать его капризам. Этот отец не внушал ему ни восторга, ни страха. Он был добрый человек, этот отец, — добрый, добродушный, мягкий человек, может быть, очень святой человек, может быть, просто святой, но все это были не те качества, которыми можно было завоевать душу мальчика. Скучно ему было у этого отца, надоел он ему, надоело сидеть в его проклятой хижине, как в клетке, а то, что на всякую выходку он отвечал улыбкой, на грубость — дружелюбием, на злобу — добротой, было самой ненавистной хитростью старого мошенника. Мальчик скорее согласился бы, чтобы он угрожал ему, бил его.
И пришел день, когда юный Сиддхартха взбунтовался и открыто восстал против отца.
Отец дал ему работу, попросил сходить за хворостом, но мальчик не пошел из хижины. В приступе упрямства и ярости он топал ногами, сжимал кулаки и выкрикивал в лицо отцу слова ненависти и презрения.
— Сам иди за своим хворостом! — кричал он, и изо рта его летела слюна. — Я тебе не слуга. Я знаю, почему ты меня не бьешь — ты просто не смеешь! Я знаю, ты хочешь твоей святостью и добротой меня все время наказывать и стыдить. Ты хочешь, чтобы я стал как ты, таким же святым, таким кротким и мудрым! А я тебе назло, — слышишь? — я лучше стану грабителем и убийцей и пойду к демонам, чем буду таким, как ты! Я ненавижу тебя, ты не мой отец, пусть ты был хоть десять раз любовник моей матери!
Гнев и тоска вскипали в нем, выливаясь в яростные, злые слова, и он швырял их в отца. Потом мальчик убежал и вернулся лишь поздно ночью.
На следующее утро он исчез. Исчезла и маленькая, сплетенная из двухцветного лыка корзинка, в которой они хранили медные и серебряные монеты, полученные в уплату за перевоз. Исчезла и лодка. Сиддхартха разглядел ее на противоположном берегу: мальчик убежал.
— Я должен пойти за ним, — сказал Сиддхартха; вчерашние страшные слова сына звучали в его ушах, он дрожал от горя. — Ребенок не может один идти через лес, он погибнет. Мы должны построить плот, Васудева, чтобы перебраться через реку.
— Мы построим плот, — сказал Васудева, — чтобы привести назад нашу лодку, которую увел мальчик. А тебе, друг, не надо идти за ним — пусть бежит, он уже не дитя, он сумеет позаботиться о себе. Он ищет путь в город, и он прав, не забывай этого. Он сделал то, что ты должен был сделать сам. Он заботится о себе, он идет своей дорогой. Ах, Сиддхартха, я вижу, ты страдаешь, но ты страдаешь от боли, над которой можно и смеяться, и ты сам скоро будешь над ней смеяться.
Сиддхартха не отвечал. В руках его уже был топор, и он уже начал строить бамбуковый плот; Васудева помог ему связать стволы лианами. Переплыв реку — их далеко снесло по течению, — они вытащили плот на противоположный берег.
— Зачем ты взял топор? — спросил Сиддхартха.
И Васудева сказал:
— Может, весла от нашей лодки потерялись.
Но Сиддхартха знал, о чем думает его друг. Перевозчик предвидел, что мальчик выбросил или сломал весла, — чтобы отомстить и помешать преследованию. И действительно, весел не было. Васудева кивнул на дно лодки и с усмешкой посмотрел на друга, будто говоря:
“Разве ты не видишь, что хочет тебе сказать твой сын? Разве ты не видишь: он не хочет, чтобы за ним гнались”. Однако вслух он этого не сказал, а принялся мастерить новые весла” Сиддхартха простился с ним и поспешил на поиски беглеца. Васудева не удерживал его.
Уже довольно долго бежал Сиддхартха по лесу, когда ему пришла в голову мысль, что поиски его бесполезны. “Либо, — думал он, — мальчик ушел далеко вперед и сейчас уже добрался до города, либо, если он еще идет, он спрячется от меня, от погони”. Размышляя дальше, он понял, что, собственно, за сына он не беспокоится, зная в глубине души, что мальчик не погибнет и опасность ему в лесу не грозит, и все же он бежал без отдыха — уже не для того, чтобы спасти сына, но с единственным желанием: может быть, еще один раз его увидеть. Так добежал он до городских окраин.
Выбравшись вблизи города на широкую дорогу, он остановился у входа в прекрасный сад, некогда принадлежавший Камале. Здесь он когда-то в первый раз увидел ее — в паланкине. Прошлое всколыхнулось в его душе, он снова видел себя, стоящего на этом самом месте, молодого, бородатого, нагого самана, с волосами, покрытыми пылью. Долго стоял Сиддхартха и смотрел сквозь открытые ворота в сад, где под кронами прекрасных деревьев гуляли монахи в желтых одеждах.
Долго стоял он, задумавшись, всматриваясь в картины прошлого, листая историю своей жизни. Долго стоял он так, глядя вслед монахам, видел вместо них юного Сиддхартху, видел юную Камалу, неторопливо идущую под высокими кронами деревьев. Он отчетливо помнил, как приняла его тогда Камала, помнил ее первый поцелуй, помнил, как гордо и презрительно оглядывался он на свое прошлое, как гордо и жадно начинал свою мирскую жизнь. Он видел Камасвами, видел слуг, танцовщиц, игроков, музыкантов, видел певчую птичку Камалы в клетке, переживал все снова, снова дышал сансарой, снова был усталым и старым, и чувствовал тошноту, и чувствовал желание уничтожить себя, и вновь слышал священное слово “Ом”.
Долго стоял Сиддхартха у ворот сада и понял наконец, что глупо было желание, которое привело его к этому городу: он не мог помочь сыну, он не должен был цепляться за него.
Глубоко в сердце, как рану, ощущал он любовь к ушедшему сыну и в то же время чувствовал, что рана эта нанесена ему не затем, чтобы он копался в ней, — она должна была пролиться кровью и засиять, осветив его жизнь.
То, что рана в этот час еще не кровоточила и не сияла, печалило его. Жадное, болезненное стремление, которое привело его сюда и заставляло гнаться за ушедшим, исчезло, вместо него была пустота. Печально опустился он на землю, чувствовал, как умирает что-то в сердце его, чувствовал сосущую пустоту, не видел впереди радости, не видел цели. Он погрузился в себя и ждал. Этому научился он на реке, только этому: быть терпеливым, ждать, слушать. И он сидел на корточках в придорожной пыли и слушал усталые и печальные биения своего сердца — ждал зова.
Много часов просидел он так, прислушиваясь, уже не видел картин прошлого, погрузился в пустоту, куда-то плыл, не ведая пути. И когда в его ране вновь проснулась боль, он произнес беззвучно слово “Ом”, он наполнил себя словом “Ом”. Монахи из сада видели его, он сидел уже много часов, на его седые волосы легла пыль. Один из монахов подошел к нему и положил перед ним два банана, но старик ничего не видел.
Он очнулся от оцепенения, когда чья-то рука тронула его плечо. Он сразу узнал это мягкое, кроткое прикосновение, очнулся, поднялся и кивнул Васудеве, который пришел за ним. Он посмотрел в дружелюбное лицо Васудевы, увидел мелкие, будто наполненные усмешкой морщинки, увидел веселые глаза — и тоже усмехнулся. Теперь он увидел и лежавшие перед ним бананы, поднял их, отдал один перевозчику, съел другой сам. Потом он молча шел с Васудевой по лесу, шел домой, на переправу. Ни один из них не вспоминал о происшедшем, ни один не говорил о мальчике и его бегстве, ни один не говорил о реке. В хижине Сидд-хартха лег на свою постель, и когда через некоторое время Васудева подошел к нему предложить чашку кокосового молока, он нашел его уже спящим.
ОМ
Долго не заживала рана. Часто приходилось Сиддхартхе перевозить путешествующих, с которыми ехали сын или дочь, и он не мог смотреть на них без зависти и каждый раз думал:
“Как много их, как много тысяч тех, кому дано это лучшее счастье, почему же мне — нет? Даже у злых людей, даже у воров и грабителей есть дети, и они их любят и любимы ими, только я один”. Так просто, так наивно он теперь мыслил, так похож он стал на человека-дитя.
Иначе, чем раньше” смотрел он теперь на людей — не так умно, не так гордо, зато теплее, зато с большим любопытством и участием. Перевозя обычных путешествующих, людей-детей — торговцев, воинов, женщин, — он чувствовал, что они уже не чужды ему, как прежде; он понимал их, он понимал и разделял не их мысли и взгляды, нет — только стремления и желания, и жизнь, которую они вели, он чувствовал, как они. Хотя он был близок к совершенству и страдал последней раной, но ему казалось, что эти люди-дети — его братья. Их суетность, жадность, мелочность уже не смешили его, стали понятны, стали достойны любви, стали для него даже достойны уважения. Слепая любовь матери к своему ребенку, глупая слепая гордость ученого отца единственным сыночком, слепая, животная потребность молодой тщеславной женщины в украшениях и восхищенных взглядах мужчин — все эти страсти, все эти детские увлечения, все эти простые, глупые, но чудовищно сильные, живучие, неизбывные инстинкты и желания уже не были для Сиддхартхи детской игрой: он видел, как люди этим живут, видел, какие чудеса совершают ради этого — путешествуют, ведут войны, и бесконечно много переносят, и бесконечно страдают, — и он был способен любить их за это. В каждой их страсти, в каждом поступке он видел жизнь, живое, неразрушимое, брахман. Достойны любви, достойны восхищения были эти люди с их слепой верностью, слепой силой и слепым упорством. Ничто не было им чуждо, и ученый, и мыслитель ничем не превосходили их, если не считать одной-единственной мелочи, одной-единственной ничтожной малости: сознания, осознанной мысли о единстве. И не раз Сиддхартха сомневался: а надо ли так высоко ценить это знание, эту мысль? Может быть, это тоже детская игра людей-мыслителей, людей-мыслителей-детей? Во всем прочем миряне были равны мудрецам и часто далеко их превосходили, так же как животные в их неуклонном и безошибочном исполнении необходимого могут зачастую казаться выше людей
Медленно раскрывалась, медленно зрела в голове Сиддхартхи мысль, что все долгие его искания были устремлены к одной-единственной цели: узнать, что же это, собственно, такое — что есть мудрость? Это была просто готовность души, способность, тайное искусство в каждый миг среди потока жизни мыслить в единстве, умение чувствовать единство, дышать им. Медленно расцветали в его душе редкостные цветы — гармония, знание вечного совершенства мира, усмешка, единство, — и ближе становилось ему старое, детское лицо Васудевы.
Но рана еще горела, страстно и горько вспоминал Сиддхартха убежавшего сына, лелеял в сердце любовь и нежность, отдавался приступам боли, совершал все глупости любви. Нелегко угасал этот огонь.
И однажды, когда жестоко горела рана, гонимый тоской Сиддхартха переправился через реку, выбрался на берег и хотел идти в город искать своего сына. Река текла спокойно и тихо — было сухое время года, — но голос ее звучал необычно: она смеялась! Река отчетливо, светло и ясно смеялась, река высмеивала старого перевозчика. Сиддхартха застыл на месте. Он наклонился к воде, чтобы лучше слышать, и в зеркале спокойного потока увидел свое отражение. Это отражение что-то напомнило ему — что-то забытое, и, сосредоточившись, он вспомнил, узнал: лицо в воде было похоже на другое, и он его когда-то знал и любил, и даже побаивался его. Оно было похоже на лицо его отца, брахмана. И он вспомнил, как в далекие времена, мальчишкой, он заставил отца отпустить его к отшельникам, и вспомнил, как прощался с ним и как потом ушел, чтобы уже не возвращаться никогда. Разве и его отец не страдал из-за него так же, как теперь страдает он из-за своего сына? Разве не умер давно его отец одиноким, так и не увидев больше сына? И его самого разве не ждет та же судьба? Что же это за комедия, что за странная, глупая насмешка — это повторение, этот бег по предначертанному кругу?
Река смеялась. Да, это так: все, что не до конца выстрадано, все, что не искуплено, — возвращается, и те же мучения повторяются вновь и вновь. Сиддхартха снова сел в лодку и поплыл назад к хижине, вспоминая своего отца, вспоминая сына, презираемый рекой, в разладе с самим собой, готовый к отчаянию и в не меньшей мере готовый громко рассмеяться над собой и над всем светом. Нет, еще не расцвела его рана, еще бунтует его сердце против судьбы, еще не засияло его страдание светом веселья и победы. Но надежда была, и, возвратившись в хижину, он почувствовал неодолимую потребность открыться Васудеве, рассказать ему все — ему, Умеющему Слушать.
Васудева сидел в хижине, плел корзину. Он больше не работал на переправе: у него стали слабеть глаза. И не только глаза, но и руки, и пальцы его ослабели, но все так же неизменно излучало его приветливое лицо свет радости и доброты.
Сиддхартха подсел к старцу. Медленно начал он свой рассказ. Он рассказывал теперь то, о чем раньше не говорил: как шел тогда в город, и о жгучей своей ране, и о своей зависти при виде счастливых отцов, и о том, как он, понимая глупость своих желаний, тщетно боролся с ними. Он рассказывал все, даже самое больное, — все можно было говорить, все открывать, обо всем он мог рассказать.
Он обнажил свою рану. Он рассказал о только что оставленном побеге, о том, как поплыл через реку, собираясь идти в город, как смеялась над ним река.
Сиддхартха говорил, говорил долго — и внимательно, со спокойным лицом слушал его Васудева. Сиддхартха чувствовал это внимание Васудевы сильнее, чем когда бы то ни было раньше, он чувствовал, как утихают его боли, его страхи, как умирает тайная его надежда и вновь из небытия возвращается к нему. Показывать этому человеку свои раны — это было все равно что обмывать их в реке: они остывали и боль их растворялась в воде. И пока Сиддхартха говорил, пока признавался и исповедовался, он все больше и больше чувствовал, что уже не Васудева, не просто человек слушает его, что этот недвижно внимающий впитывает в себя его исповедь, как дерево впитывает дождь, что этот неподвижный — это сама река, сам бог, что он — это сама вечность. И по мере того как Сиддхартха переставал думать о себе и о своей ране, прозрение изменившейся сущности Васудевы все больше захватывало его, и чем глубже он понимал, чем сильнее чувствовал эту перемену, тем менее удивительной становилась она, тем больше замечал он, что все здесь правильно и естественно: Васудева уже давно стал таким, просто Сиддхартха не понимал этого, как не понимал и того, что и он сам уже отличается от него. Он чувствовал, смотрит на старого Васудеву, как народ своих богов, и что это не может длиться долго; в душе он уже прощался с Васудевой — и продолжал говорить.
Когда он рассказал все, Васудева поднял на него взгляд своих дружелюбных ослабевших глаз, он ничего не говорил, но в его взгляде светились любовь, и радость, и понимание, и мудрость. Он взял Сиддхартху за руку, повел его к их месту на берегу, сел рядом с ним, усмехнулся реке.
— Ты слышал, как она смеялась, — сказал он. — Но ты слышал не все. Прислушайся, и ты услышишь больше.
Они слушали. Мягко звучал многоголосый напев реки. Сиддхартха неотрывно смотрел на воду, и в бегущей воде возникали картины: появился его отец, одинокий, тоскующий по сыну, появился он сам, одинокий и скованный теми же цепями тоски с далеким сыном, появился его сын — и он, мальчик, с жадностью устремившийся по огненному пути своих юных желаний, тоже был одинок, — каждый стремился к своей цели, каждый был поглощен ею, каждый страдал. Река пела голосом страданий, непрерывно пела и непрерывно текла к своей цели, и жалобно звучал ее голос.
“Слышишь?” — молчаливо спросил взгляд Васудевы. Сиддхартха кивнул.
— Слушай лучше! — прошептал Васудева. Сиддхартха постарался вслушаться. Призрак отца, его собственное изображение и образ сына слились вместе, появилось и исчезло лицо Камалы, и лицо Говинды, и лица других, они переходили друг в друга, текли с рекой, стремились вместе с ней к той же цели — неотступно, страстно, мучительно, — и в голосе реки звучало упрямство, и жгучая тоска, и неизбывное желание. Река стремилась к цели, Сиддхартха видел, как она спешит, эта река, вмещавшая его, и его близких, и всех людей, которых он когда-либо видел; каждая волна, каждая капля мучительно спешили к цели, ко многим целям: к водопаду, к озеру, к быстрине, к морю — и все цели достигались, и за каждой вставала новая, и из воды выбивался туман, и поднимался к небу, превращался в дождь и снова низвергался на землю, становился источником, становился ручьем, становился рекой, снова стремился, снова тек. Но и упрямый голос изменился. Он еще звучал страстно и ищуще, но к нему присоединились другие голоса, голоса радости и муки, голоса добрые и злые, веселые и печальные — сотни голосов, тысячи голосов.
Сиддхартха слушал. Он теперь весь превратился в слух; погрузившись в звуки, впитывая их опустошенной душой, он чувствовал, что поистине только теперь научился слушать. Не раз он уже слышал это множество голосов реки — сегодня они звучали по-новому. Он уже не мог отличить радостные голоса от плачущих, детские от мужских — так они все были слиты; жалобы страждущих и смех знающих, крики гнева и предсмертные стоны — все слилось воедино, все растворилось одно в другом и переплелось, тысячекратно отразившись. И все вместе — все голоса и цели, все стремления и муки, все наслаждения, все доброе и злое — все это вместе творило мир, составляло поток бытия, музыку жизни. И когда Сиддхартха вслушивался в голос реки, в эту тысячеголосую песнь, не отвлекаясь на отзвук страдания или смеха, когда не приковывал свою душу к какому-то одному голосу и не погружался в него всем своим существом, а слушал все голоса, слушал целое, воспринимал единство, — тогда оказывалось, что великая песня тысячи голосов состоит из одного-единственного слова и слово это — “Ом”, совершенство.
— Слышишь? — снова спросил взгляд Васудевы.
Светлой была усмешка Васудевы, она плыла и светилась над морщинками его старческого лика, как надо всеми голосами реки плыло слово “Ом”. Светлой была его усмешка, когда он смотрел на друга, и вот, та же светлая усмешка заблистала на лице Сиддхартхи. Из раны его пробился цветок, из мрака боли брызнули лучи света, его “я” растворилось в единстве.
В этот час Сиддхартха прекратил ссору с судьбой и перестал страдать. На его лице высветилась ясность знания, которому уже не противостоит воля, и это знание совершенства было едино с рекой бытия, с потоком жизни, было полно сострадания, полно сорадости, отдано этому потоку и причастно единству.
Васудева поднялся, взглянул в глаза Сиддхартхи и, увидев сияющий в них свет знания, особенным, бережным и мягким движением коснулся рукой плеча Сиддхартхи и сказал:
— Я ждал этого часа, милый. Он настал, и я ухожу. Долго ждал я этого часа, долго был я перевозчиком Васудевой. Теперь довольно. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхартха!
Низко поклонился Сиддхартха. Они прощались навсегда.
— Я это знал, — тихо произнес Сиддхартха. — уходишь в лес?
Я ухожу в лес, я ухожу в единство — спокойно сказал Васудева.
Медленно пошел он прочь, Сиддхар смотрел ему вслед. Он смотрел ему вслед радостно и серьезно, запечатлевая в душе его неспешную походку, его сияющую главу, его облитую светом фигуру.
ГОВИНДА
Вместе с другими монахами Говинда отдыхал в парке, который куртизанка Камала подарила ученикам Готамы. И в парке он услышал разговор о каком-то старом перевозчике, который жил у реки на расстоянии дня пути и которого многие считали мудрецом. Когда Говинда снова отправился в путь, он выбрал дорогу к переправе, желая увидеть этого перевозчика, ибо хотя всю жизнь он жил по правилам и молодые монахи чтили его за возраст и умеренную жизнь, но в душе его не утихало беспокойство и не прекращались поиски.
Он пришел к реке, попросил старца перевезти его и, когда на другом берегу они вылезли из лодки, сказал старику:
— Много добра делаешь ты нам, монахам и паломникам, многих из нас ты перевозил. Не принадлежишь ли и ты, перевозчик, к тем, кто ищет истинный путь?
И сказал Сиддхартха, усмехаясь старческими глазами:
— Ты называешь себя ищущим, хотя ты в немалых годах носишь одежду монаха Готамы?
— Хоть я и стар, — сказал Говинда но исканий не прекратил. Никогда не прекращу я искать — таково мое предназначение. Да и ты, как мне кажется, знал поиски. Не скажешь ли ты мне что-нибудь, почтенный?
Отвечал Сиддхартха:
— Что же могу я тебе, достойнейший, сказать? Быть может, то, что ты чересчур много ищешь? Что от поисков ты не переходишь к находкам?
— То есть как? — спросил Говинда.
— Когда кто-нибудь ищет, — сказал Сиддхартха, — нередко случается, что глаз его начинает видеть лишь ту вещь, которую он ищет; он ничего не находит, он ничего не замечает, потому что думает только об искомом, потому что у него есть цель, потому что он этой целью поглощен. Искать — значит иметь цель. Находить же — значит быть свободным, быть открытым, не иметь цели. Ты, достойнейший, быть может, в самом деле искатель, потому что, стремясь к своей цели, не замечаешь многого, что у тебя прямо перед глазами.
— Все-таки я еще не совсем понимаю, — пожаловался Говинда, — что ты имеешь в виду?
Сказал Сиддхартха:
— Однажды, о достойнейший, много лет назад ты уже был на этой реке и нашел у реки спящего и сел рядом с ним, чтобы охранять его сон. Но вот узнать спящего, о Говинда, ты не узнал.
Пораженный, словно загипнотизированный, смотрел монах в глаза перевозчику.
— Ты — Сиддхартха? — спросил он испуганным голосом. — И в этот раз я тебя не узнал! Сердечно приветствую тебя, Сиддхартха, сердечно радуюсь, что еще раз вижу тебя! Ты очень изменился, друг… Так, значит, ты теперь стал перевозчиком?
Сиддхартха светло засмеялся:
— Перевозчиком, да. Многие, Говинда, очень меняются и сменяют много одежд, я один из них, милый. Добро пожаловать, Говинда, оставайся переночевать в моей хижине.
Говинда остался на ночь и спал на постели, где когда-то спал Васудева. Много вопросов задавал он другу своей юности, много пришлось рассказывать Сиддхартхе о своей жизни.
Когда на следующее утро настало время отправляться в путь, Говинда — не без колебания — сказал:
— Прежде чем я продолжу мой путь Сиддхартха, позволь мне задать еще один вопрос. У тебя есть учение? Есть у тебя какая-то вера или знание, которому ты следуешь, которое помогает тебе жить и идти правильным, путем?
Сказал Сиддхартха:
— Ты знаешь, милый, что еще в молодости, когда мы жили в лесу с отшельниками, я перестал доверять учениям и учителям и повернулся к ним спиной. Я не переменился с тех пор. Но у меня было за это время много учителей. Одна прекрасная куртизанка долгое время была моей учительницей, и богатый купец был моим учителем, и игроки в кости. И однажды один странствующий ученик Будды был моим учителем, он сидел рядом со мной, когда я заснул в лесу, совершая паломничество. И у него я тоже учился, и ему я тоже благодарен — очень благодарен. Но больше всего я учился здесь, вот у этой реки, и у моего предшественника перевозчика Васудевы. Он был очень простой человек, Васудева, он не был мыслителем, но он знал необходимое так же хорошо, как Готама, он был Совершенный, он был СВЯТОЙ.
Говинда сказал:
— Все еще, о Сиддхартха, любишь ты, как мне кажется, насмешки. Я верю тебе и знаю, что никому из учителей ты не следуешь. Но нет ли у тебя самого если не учения, то хотя бы каких-то мыслей, каких-то найденных тобой правил, которые — твои собственные и которые помогают тебе жить? Если бы ты мог сказать мне о них что-нибудь, ты согрел бы мне сердце.
Сказал Сиддхартха:
— У меня бывали мысли, и правила тоже — временами. Нередко в продолжение часа — или дня — я чувствовал в себе знание так, как чувствуют жизнь в сердце. Много было мыслей, но мне нелегко было бы передать их тебе… Смотри же, мой Говинда, вот одна из тех мыслей, вот что я нашел: мудрость нельзя передать. Мудрость, которую мудрец пытается кому-то сообщить, всегда звучит как глупость.
— Ты шутишь? — спросил Говинда.
— Я не шучу. Я высказываю то, что я нашел. Знание можно передать, мудрость — нельзя. Ее можно найти, можно ее нажить, можно от нее жить, можно творить с ней чудеса, но высказать ее и научить ей — нельзя. Вот то, что я часто подозревал еще юношей, в чем меня убеждали потом учителя. Я нашел одну мысль, Говинда, которая тебе опять покажется шуткой или глупостью, но это моя лучшая мысль. Вот она: для любой истины противоположное ей так же истинно! Словами, истину можно высказать и выразить в слова, только если она односторонняя. Односторонне все, что может быть выражено в мыслях и высказано в словах, все однобоко, все половинчато, все лишено целостности, округлости, единства. Когда возвышенный Готама произносил учение о мире, ему приходилось делить мир на сансару и нирвану, на видимость и истину, на страдание и спасение. Иначе нельзя, другого пути нет для того, кто хочет учить. Но сам мир, сущее вокруг нас и внутри нас, никогда не бывает односторонним. Никогда никакой человек и никакое деяние не погружены целиком в сансару или целиком в нирвану, никогда человек не бывает безупречно святым или беспросветно грешным. Да, нам кажется — из-за того, что мы верим видимости — нам кажется, что время являет собой нечто действительное. Время не действительно, Говинда, я много раз убеждался в этом. И если время не действительно, то пропасть, как будто лежащая между миром и вечностью, между страданием и блаженством, между добром и злом, тоже лишь видимость.
— Как это? — испуганно спросил Говинда.
— Слушай хорошо, милый, слушай хорошо! Грешник, как я и ты, — это грешник, но когда-то он снова станет брахмой, он когда-то достигнет нирваны, станет Буддой, — так смотри же: это “когда-то” лишь видимость, лишь подобие истины! Грешник — не на пути к превращению в Будду, он не находится в стадии какого-то развития, хотя наша мысль и не умеет представить себе дело иначе. Нет, в грешнике сейчас, уже сегодня, живет грядущий Будда, его будущее уже все здесь, ты должен в нем, в себе, в каждом чтить возникающего, возможного, спрятанного Будду. Мир, друг Говинда, не следует считать несовершенным или медленно идущим по пути к совершенству, нет, — он совершенен в каждый миг, все грехи уже несут в себе искупление, все маленькие дети уже заключают в себе стариков, все новорожденные — смерть, все умирающие — вечную жизнь. Ни одному человеку не разглядеть в другом, как далеко тот ушел на своем пути, в грабителе и игроке ждет Будда, в брахмане ждет грабитель. В глубоком созерцании есть возможность снять время, увидеть все прошлое, существующее и становящееся как одновременное, и все оказывается хорошо, все — совершенно, все — брахман. Поэтому то, что есть, мне видится хорошим, мне видится смерть как жизнь, грех как святость, ум как глупость; все должно быть таким, все нуждается лишь в моем согласии, в моей готовности, в моем любящем понимании, чтобы стать для меня хорошим, чтобы только помогать мне, чтобы никогда не причинять мне вреда. На своем теле, на своей душе я испытал, как мне был необходим грех, как нужны были и чувственное наслаждение, и суетность, и стремление к деньгам, и нужно было отчаяние позора, чтобы преодолеть сопротивление души и научиться любить мир, чтобы не сравнивать его больше с каким-то мне желательным, мной нарисованным миром, неким выдуманным мной типом совершенства, а видеть его таким, какой он есть, и любить его, и с радостью ему принадлежать… Вот, о Говинда, кое-какие мысли, к которым я пришел.
Сиддхартха наклонился, поднял камешек, взвесил его в руке.
— Вот камень, — сказал он, подбрасывая его на ладони, — а через какое-то определенное время он, быть может, станет землей, а из земли — растением, или зверем, или человеком. И вот раньше я говорил: “Этот камень — это просто камень, он не имеет цены, он принадлежит к миру Майи, но так как не исключено, что в круговороте превращений он может стать и человеком, и духом, то я и ему тоже придаю цену”. Так, наверное, думал я раньше. Но сегодня я думаю: этот камень есть камень, и в то же время — зверь, и в то же время — бог, и в то же время — Будда, я почитаю и люблю его не потому, что когда-то он может стать тем или этим, но потому, что он уже есть все — с давних пор, всегда, и именно то, что он камень, что сейчас, сегодня он явился мне камнем, — именно за это я люблю его и вижу ценность и смысл в каждой его прожилке и ямке, в его желтизне и черноте, в твердости, в звуке, который он издает, когда я постучу по нему, в сухости или влажности его поверхности. Есть камни, которые на ощупь как масло или мыло, и иные — как листья, иные — как песок, и каждый неповторим, и каждый произносит по-своему Ом, и каждый есть брахман, но в то же время и в той же мере есть камень, маслянистый или мылкий, и именно это нравится мне, кажется мне удивительным и достойным преклонения… Но довольно об этом. Слова скрывают тайный смысл; каждый раз, как его одевают в слова, он становится немного иным, немного искаженным, немного глуповатым… да, и это тоже очень хорошо, и очень мне нравится, это тоже мне очень понятно: слова, в которых один человек находит жемчужины мудрости, для другого звучат глупостью.
Молча внимал Говинда.
— Для чего ты мне говорил про камень? после паузы неуверенно спросил он.
— Это было без умысла. Или, возможно, я хотел сказать, что этот вот камень, и эту реку, и все эти вещи, которые мы видим и у которых можем учиться, я люблю. Я могу любить камень, Говинда, и дерево, и кусок коры. Они вещественны — их можно любить. А слова я любить не могу. Поэтому учения не для меня, в них нет ни твердости, ни красок, ни граней, ни запаха, ни вкуса — в них нет ничего, кроме слов. Быть может, именно это мешает тебе обрести мир, быть может, именно обилие слов. Ибо и спасение, и добродетель, и сансара, и нирвана — это просто слова, Говинда. Нет такой вещи “нирвана” — есть только слово “нирвана”.
Сказал Говинда:
— Нирвана — это не только слово, друг. Это — мысль.
Сиддхартха продолжал:
— Мысль, — может быть, мысль. Я должен тебе признаться, милый: я не слишком различаю мысли и слова. Откровенно говоря, я и мысли ставлю не очень высоко. Я вещи ставлю выше. Вот, к примеру, здесь, на этой переправе, один человек был моим предшественником и учителем, святой человек, который долгие годы просто верил в реку и ни во что больше. Он заметил, что голос реки разговаривает с ним, он учился у реки, и она воспитывала и учила его; река казалась ему богом, и он долгие годы не догадывался, что каждый ветерок, каждое облако, каждая птица, каждый жук точно так же божествен, так же много знает, так же может учить, как почитаемая им река. Но когда этот святой уходил в леса, он уже знал все, знал больше, чем ты и я — без учителя, без книг, — только благодаря тому, что он верил в реку.
Говинда сказал:
— Но то, что ты называешь “вещами”, является ли это чем-то действительным, чем-то существенным? Не есть ли все это лишь обман Майи, лишь образ и видимость? Твой камень, твое дерево, твоя река — действительны ли они?
— И это, — сказал Сиддхартха, — не слишком меня тревожит. Пусть вещи будут видимостью или пусть не будут, ведь и я тогда тоже окажусь видимостью, значит, они всегда остаются равны мне. Это именно то, что заставляет меня любить и почитать их: они равны мне. Поэтому я могу их любить. Ну вот и учение, над которым ты станешь смеяться: ЛЮБОВЬ. Любовь, о Говинда, кажется мне важнее всего на свете. Видеть мир насквозь, объяснять его, презирать его, — может быть, достойно великого мыслителя. Для меня же единственный смысл в том, чтобы уметь любить этот мир, не презирать его, не ненавидеть его и себя, но уметь смотреть на мир, и на себя, и на все существа с любовью, и восхищением, и почтением.
— Это я понимаю, — сказал Говинда. — Но именно это он, Возвышенный, определял как обман. Он завещал дружелюбие, сострадание, терпимость — но не любовь, он запрещал нам сковывать наши сердца любовью к земному.
— Я знаю это, — сказал Сиддхартха, на губах его играла усмешка. — Я знаю это, Говинда. И смотри-ка, вот мы уже в дебрях мнений, спорим о словах. Ведь я не могу отрицать, мои слова о любви противоречат, явно противоречат словам Готамы. Вот почему я так не доверяю словам, ведь я знаю: противоречие это кажущееся. Я знаю, что мы с Готамой едины. Да и как же мог он не знать любви — Он, до конца познавший бренность и ничтожность человеческого и, несмотря на это, так любивший людей, что употребил всю свою долгую, трудную жизнь только на то, чтобы помогать им, учить их! И у него, у твоего великого учителя, вещи важнее слов, его дела и жизнь важнее его речей, движения его руки важнее его мнений. Не в речах, не в мыслях вижу я его величие — лишь в делах, в жизни.
Долго молчали два старых человека. Потом, склонясь в прощальном приветствии, Говинда сказал:
— Я благодарю тебя, Сиддхартха, за то, что ты поведал мне кое-что из твоих мыслей. Мысли эти отчасти необычны, не все они стали мне сразу понятны. Но как бы то ни было, я благодарю тебя, и я желаю тебе спокойных дней.
(А про себя, тайком он подумал: “Удивительный человек этот Сиддхартха, странные мысли он высказывает, глупым кажется его учение. Иначе звучит чистое учение Возвышенного — яснее, проще, понятнее, ничего странного, чудного или смешного в нем нет. Но совсем иначе, чем мысли Сиддхартхи, действуют на меня его руки и ноги, его глаза, его лоб, его дыхание, его усмешка, и приветствие, и походка. Никогда — с тех пор, как наш возвышенный Готама вошел в нирвану — никогда больше не встречал я такого человека, который бы внушил мне чувство: это-святой! А а вот он, этот Сиддхартха — такой.
Пусть учение его странно, пусть слова звучат чудно, но его взгляд и его рука, его кожа и его волосы — все в нем излучает какую-то чистоту, излучает покой, излучает ясность, и мягкость, и святость, какой ни у одного человека со времени последней смерти нашего возвышенного Учителя я не видел”.)
И в то время, когда Говинда думал так, в то время, как шла борьба в его сердце, поклонился он еще раз Сиддхартхе, движимый любовью. Низко склонился он перед сидящим.
— Сиддхартха, — сказал он, — мы стали стариками. Едва ли один из нас еще увидит другого в этом обличье. Я вижу, мой дорогой, ты нашел мир. Я признаюсь: я не нашел его. Скажи мне, высокочтимый, еще несколько слов, дай мне унести что-нибудь, что я мог бы охватить, что я смог бы понять! Дай же что-нибудь мне в дорогу. Она часто трудна, моя дорога, и часто темна, Сиддхартха.
Сиддхартха молчал и смотрел на него все с той же спокойной усмешкой на губах. Неотрывно смотрел Говинда в его лицо, смотрел со страхом, с ожиданием; мука и вечное искание были в его взгляде — и вечное ненахождение.
Сиддхартха видел, понимал и усмехался.
— Наклонись ко мне! — прошептал он. — Наклонись ко мне! Так, еще ближе! Совсем близко! Коснись губами моего лба, Говинда!
И когда Говинда, удивленный, но увлекаемый любовью и предчувствием, послушался, наклонился к нему и коснулся его лба губами, с ним случилось что-то удивительное.
Его мысли еще плутали среди странных слов Сиддхартхи, он все еще пытался — тщетно и недовольно — сбросить оковы времени и представить себе нирвану и сансару как одно, в нем еще боролось некоторое даже презрение к словам друга с огромной любовью и почтением, — в это самое время вот что случилось с ним.
Он не видел больше лица своего друга Сиддхартхи, вместо него он видел другие лица, много, длинный ряд, целую реку из сотен, тысяч лиц, они приближались и исчезали, но, казалось, все время все вместе были здесь, они беспрерывно менялись и обновлялись и в то же время все были похожи на Сиддхартху. Он видел рыбью морду с раскрытым в страшном приступе удушья ртом — умирающего карпа с выпученными глазами… он видел лицо новорожденного ребенка, красное, все в складках, сморщенное, перед криком… видел лицо убийцы, видел, как тот вонзает в человеческое тело, — и в ту же самую секунду видел этого преступника в цепях, стоящим на коленях, и его голову тяжелым ударом меча отрубал палач… он видел нагие тела мужчин и женщин, сплетенные, стиснутые в неистовых оргиях любви… он видел распростертые трупы, неподвижные, холодные, пустые… он видел птичьи головы и звериные морды — кабанов, быков, крокодилов… он видел богов, видел Кришну, видел Агни, — он видел эти лица, эти обличья в тысячах сочетаний, они помогали друг другу, любили, ненавидели, уничтожали и вновь рождали друг друга — и в каждом было движение к смерти, страстное, мучительное признание бренности существования, но ничто не умирало, а лишь испытывало превращения, вновь и вновь рождалось, обретало все новые лица, — и между ними не было промежутка, и все эти лица и фигуры покоились, текли, создавали себя, расплывались и переходили друг в друга, и надо всем постоянно плыло что-то тонкое, бестелесное, но постоянно присутствовавшее, будто стекло или тонкий лед, будто прозрачная кожа, или чаша, или купол, или маска, сотканная из воды, и эта маска усмехалась, и эта маска была усмехающимся лицом Сиддхартхи, которого он, Говинда, в этот самый миг касался губами. И тогда увидел Говинда, что эта усмешка маски, эта усмешка единства над потоком обличий, эта усмешка одновременности над тысячью рождений и смертей, эта усмешка Сиддхартхи была точно такой же, была в точности та же тихая, непроницаемая — быть может, добродушная, быть может, насмешливая, — мудрая, лучащаяся тысячью морщинок усмешка Готамы, Будды, — усмешка, которую он сотни раз благоговейно созерцал. Говинда знал: так улыбаются Совершенные.
Уже не ощущая времени, не зная, секунду или столетие длилось это видение, не зная, Сиддхартха ли это, Готама ли, он ли это сам, будто пораженный божьей стрелой, ощущая в душе сладкую рану, очарованный, и опустошенный, и обтекаемый временем стоял Говинда наклонившись над светлым лицом Сиддхартхи, которого только что касался губами, которое только что было сценой всех образов и всех превращений, сценой бытия… Тысячеликая бездна сомкнулась, и не было перемены в лице Сиддхартхи. Он усмехался — спокойно, светло и мягко, быть может очень добродушно, быть может очень насмешливо, точно так же, как раньше.
Низко поклонился Говинда; слезы, он не чувствовал, бежали по его старому лицу, огнем горело в его сердце чувство глубокой любви и самого смиренного почтения. Низко, до самой земли, поклонился он неподвижно сидевшему человеку, чья усмешка напомнила ему все, что он когда-то любил, все, что имело в его жизни цену и было для него свято.
Герман Гессе, 1919-1921
Назад: Часть I
На главную: Предисловие