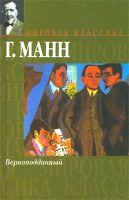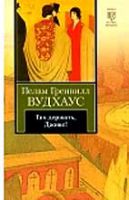Прощание
Представилось только что у камина.
Вот собираю я вокруг своего сурового солдатского одра, вынесенного плачущими усатыми гренадерами в библиотеку, близких всяческих своих. Ну, там, жен бывших, детей, в углу рыдают коллеги, компаньоны, поддерживая друг друга, в черном поголовно, стоят скульптурной группой «Граждане Кале». Мычат дальние родственники, ну, это из-за медикаментозной терапии, долго рассказывать. Дворня теребит подолы рубах, насупились под окнами, говорят негромко, басят, вздыхают. Соседи шумно крестятся в смежной с оранжереей столовой, звякают тяжелым столовым серебром, подкрепляются. Моцартов «Реквием».
Я лежу, облаченный не в простой серый сюртук, а в полную парадную форму. Выпуклые алмазы на звездах лежат на муаре лент, мерцающем при свечах. Седые кудри падают на расшитый золотой пальмовой нитью тугой воротник.
Наследники первой очереди додушивают, толпясь за фонтанчиком, самую вредную врачиху. За багровыми портьерами только визги и возня. Иногда лицо чье-то появится и руки, скребущие по паркету, потом за ноги обратно за портьеры втаскивают.
И тут я поднимаюсь на одре, сгребая рукой полу настеленной шинели, в глазах встает торжествующее небо цвета маренго с парящими орлами. Орудийный гром! Свист взметаемых клинков!
– Дети мои! – говорю торжественно. – Дети мои!
Ну, все скучиваются вкруг, ловят каждое слово. Отец Евстафий рукавом фонарь прикрыл, чтобы успеть вовремя сигнал из окна подать световой на колокольню. На бирже играет.
– Милаи мои, если со мной что-то случится, то вы помните, пожалуйста, – шепчу взапинку, – что если со мной что произойдет, любимые, если не станет меня, то вы все, суки, в тюрьме сгниете, поняли?! По этапу пойдете, в трюмы! На Сахалин! Если только мне что-то померещится – все! сами вскрывайтесь! А?! Что?! Молчать! Смирна! На одного линейного дистанция! Трубка семь! Шагом, далее спешно рысью, арш! Впрочем, Настасья, останься…
Назад: С ветки на шведку
На главную: Предисловие