Георгий Гуревич, Георгий Ясный. Человек–ракета
1
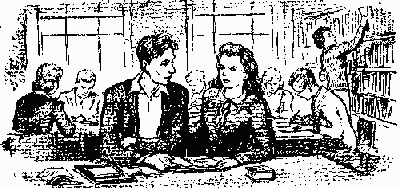
Смеялись все! Студенты и студентки, смешливые и серьезные, даже физрук дядя Надя (Игнатий Федорович) посмеивался, для виду хмуря брови. Коля Казаков — ему бы следовало молчать: сам упустил! — грохотал раскатистым басом. Федя Федоренков сидел на полу, повизгивая от восторга; девушки плакали от смеха, повалившись друг другу на плечи. Одна Валя вежливо отвернулась к стене, но спина ее вздрагивала, и непрошеные смешки со стоном прорывались сквозь зубы.
Суббота всегда была тяжелым днем для Игоря. Накануне безмятежного воскресенья с шелестом любимых книг, с концертом или выставкой нужно было, вскочив поутру, бежать сломя голову… куда? В зал пыток.
Зал пыток Игоря, а для других просто физкультурный зал института, помещается на верхнем этаже, в стеклянном фонаре. По углам его прячутся страшные орудия с воинственным названием «снаряды»: турники, брусья, кольца. За ними живут страшные «звери» — необъезженные «кобылы» и «козлы», и среди них похаживает главный «укротитель» — дядя Надя, сурово поглядывая на Игоря.
И вырос же для чего–то Игорь наславу, стоит на самом виду, впереди всех мужчин, самый длинный, самый худой, с бледными руками, в коротенькой майке и широченных трусах.
Пытки начинаются не сразу. Сначала Игорь ходит вокруг зала, думая, сколько минут займет это хождение, затем под счет: раз, два, три, четыре, крутит поясницей и старательно балансирует на одной ноге, похожий на аиста (это называется «вольные движения»). Но неотвратимое наступает. Дядя Надя отсылает девушек под командой Вали Костровой на шведскую стенку, а сам с мужчинами направляется к брусьям.
Игорь с тоской смотрит на часы. Всё вместе — одевание и построение, пробежка и проминка — отдалило казнь только на четырнадцать минут. Ах, если бы у Игоря была температура, необязательно высокая — 38, или 37,7… Или хотя бы 37,4! Может быть, просто сослаться на простуду? Игорь робко глядит на дядю Надю. Но на лице старого спортсмена ни капли сочувствия — одна только брезгливость. Он, соперник самого Николая Васильева, личный друг Мельникова, тренер братьев Знаменских, вообще не считает Игоря за человека. На старости лет возиться с таким…
— Надеждин, к снаряду! Упражнение номер пять. Казаков, страхуйте!
Игорь берется за палки брусьев. На лице его — свирепая решимость, челюсти сжаты.
— Прыжок! — командует дядя Надя. — Выходите на прямые руки!
Игорь прыгает, взмахивает правой ногой, но руки подламываются, и, обдирая локти, он съезжает вниз. Товарищи смеются. Все они ждали выхода Игоря, как аттракциона, и заранее приготовились смеяться, хотя ничего забавного еще не случилось.
— Ну–ну, — говорит дядя Надя, — Смелее! Покажите им!
Игорь закусывает губы и со злостью берется за брусья. Страшным усилием воли ему удается вытащить тело наверх.
— Еще! — поощряет дядя Надя. — Замах!
Игорь покачивает ногами и чуть не срывается. Спасибо, Коля, поймав его за коленку, кладет правую ногу на брус.
— Вперед! — настаивает безжалостный инструктор. — Голову вниз! Разверните плечи! Кувырок! Ну! Смелее!
И вдруг руки у Игоря скользнули с брусьев, за ними плечи, голова, туловище.
Смеялись все! Повиснув вниз головой, Игорь видел только разинутые рты. Дядя Надя посмеивался, для виду хмуря брови. Коля Казаков, несмотря на то что сам упустил, грохоча басом, тащил и не мог вытащить застрявшее туловище товарища. Лицо Игоря наливалось кровью, он царапал пол руками, дрыгал ногами и не мог ничем помочь Коле. Федя Федоренков неистово повизгивал от восторга. Четверо товарищей с криком «Эй, ухнем!» тянули Игоря за ноги вверх. Девушки плакали на плечах друг у друга, а она, Валя, вежливо отвернулась к стенке, но спина ее вздрагивала, и сквозь зубы со стоном прорывались смешки.
Только сам Игорь не видел ничего смешного: «ну сорвался, ну застрял… Чему радоваться?! Тоже, взрослые люди!»
2
— «What is it? Что это? It is a classroom. Это классная комната. А это что? Это стол. Кто он? Он студент. Кто она? Она студентка. Учебник лежит на столе. Студент сидит за столом. Она учит свой английский урок. Он учит свой английский урок».
Лаконичные фразы из английского учебника казались Игорю преисполненными глубокой премудрости. Именно так и обстояло дело. Он был студентом. Он сидел за столом в кабинете английского языка. Рядом с ним сидела Валя. Она была студентка. Только напрасно учебник пренебрежительно отзывался о ней с неопределенным артиклем «а» — некая, какая–нибудь. Валя была не какая–нибудь, Валя была самой лучшей студенткой в институте и, по всей вероятности, лучшей девушкой в мире. И не один Игорь держался такого мнения.
Но можно привести о Вале и более объективные данные. Валя пробегала сто метров за тринадцать и одну десятую секунды и проплывала их вольным стилем за одну минуту тридцать четыре секунды. Она была капитаном первой волейбольной команды института, а в обществе «Медик» играла во второй. Кроме того, Вале было девятнадцать лет. У нее были удивительные пушистые волосы, которые казались золотистыми. Если посмотреть на свет, большие чистые светлоголубые глаза и скульптурная фигура настоящей спортсменки. А то, что Валя хорошо училась, знали все. У нее были пятерки по анатомии, биологии, физике, только по–английски четыре, и поэтому Валя сидела рядом с Игорем — бесспорным и круглым отличником, склонившись над одной книжкой, и пушистые волосы ее касались его щеки.
— «What are you going to do this Sunday? Что вы собираетесь делать в воскресенье?» — читает Валя.
— «In the Sunday I will be busy with sport. В воскресенье я буду заниматься спортом», — продолжает Игорь.
— Игорь, а почему бы тебе не заняться спортом?
Игорь насторожился.
— Почему обязательно спортом? Мало ли есть других занятий! Музыка, например, шахматы, книги…
— У–у! — Валя наморщила носик. — Ты, наверное дни и ночи зубришь. От этого ты и знаешь все, да?
Игорь в душе расцвел от похвалы, но счел нужным обидеться.
— Почему же «зубришь»? Я бываю в театрах, на выставках. Сейчас, например, чудесная выставка пейзажистов. Там есть один пейзаж. Ты бы посмотрела… Мглистый зимний день, оранжевое солнце, накатанная лыжня — и зайчики, зайчики от нее… Хочешь, пойдем со мной завтра, прямо с утра?
— Что ты, как можно завтра! Завтра же кросс! — напомнила Валя.
— А сегодня вечером? — настаивал Игорь. — У меня билеты в МХАТ на «Три сестры».
Валя замялась.
— Знаешь, Игорь, мне очень хочется пойти, но я не могу. Мама в доме отдыха. Я с отцом одна — главная хозяйка. Надо ужин приготовить, постирать отцу. Вы ведь ничего не умеете сами! — добавила она с гордой улыбкой человека, понимающего свое превосходство.
— Да… Конечно… Ужин, стирка… — уныло возразил Игорь. — Если бы хотела, нашла бы время.
Разговор принял опасный оборот. И Валя поспешила переменить тему.
— Но тебе надо быть на кроссе, — напомнила она.
Игорь нахмурился.
— Я не пойду на кросс, — сказал он. — Тебе нравится смеяться надо мной!
Валя вспомнила урок физкультуры и прикусила неуместную улыбку.
— Ну, Игорь, я же не нарочно… И потом, ты сам виноват. Почему ты не хочешь работать над собой? Вот начни завтра. Это же очень просто — лыжи. Встал и пошел. При твоем росте ты мог бы быть отличным лыжником. Или вратарем. Например… Или стайером.
— «Вратарем. Стайером»! — поморщился Игорь. — Миллионы людей понятия не имеют о стадионах, и все–таки они здоровы и счастливы и девушки их любят. Ты, скажем, могла бы полюбить не спортсмена?
— Во всяком случае, — задумчиво отвечала Валя, — он не должен быть односторонним человеком. Я хотела бы, чтобы это был и спортсмен и вообще сильный человек. Верный друг и товарищ, на которого можно опереться в трудную минуту.
— Очень мало портретного сходства! — мрачно пошутил Игорь. — Боюсь, что у меня Надежды невелики.
Раздался звонок. И Валя вскочила, обрывая рискованный разговор.
Коля Казаков, окончательно заблудившийся в дебрях английского правописания, сразу приободрился, с лихим щелканьем положил мел и устремился в коридор, отряхивая руки.
— Валя! — крикнул он на ходу. — Сегодня вечером в Станкине баскет. Приходи болеть.
— В Станкине? — воскликнула Валя. — Мы им покажем! А Вовку Горохова они не выставят?
— Мы тогда уйдем с поля, — сказал решительно Коля.
— И правильно! — Валя захлопала в ладоши. — Я буду. Я обязательно буду!
3
В в эти дни в институте только и говорили о предстоящем Всесоюзном лыжном кроссе. В извилистых коридорах, на лестнице, в шумной столовой, даже в сумрачной профессорской на все лады склонялось слово «кросс». Ученые деканы подсчитывали количество и шансы участников. Студенты сангигиенического ежедневно убеждали Колю перейти к ним на факультет, соблазняя летней практикой на стадионе «Динамо». Стенные газеты — те просто хватали за рукава студентов, убеждая, рекомендуя и требуя: «Становись на лыжи! Становись!» В вестибюле для этой же цели висел плакат, на котором девушка в кроваво–красном свитере скользила по ярко–голубому снегу.
В кабинете физподготовки, а проще сказать, в каморке дяди Нади, до поздней ночи гудел встревоженный улей. Не говоря о «мастерах» и штатных «болельщиках» у дяди Нади роилась туча так называемой спортивной «мелкоты». Мелкота шумела, спрашивала советов и давала их, важно обсуждала качества мазей и со знанием дела толковала о лыжном спорте, неимоверно путая годы, события, имена и достижения.
Издерганная Прасковья Ивановна — «спортивная баталерша» — устало отмахивалась от азартных любителей.
— Нет у меня сорок первых! Нет! Слышали?
— Но, Прасковья Ивановна, в советах начинающим…
— Не знаю, как у вас в советах, а у меня в кладовке нет.
— Прасковья Ивановна, шесть пар носков надел!
— Еще надень. Что у вас, ноги на один размер понатесаны?
— Прасковья Ивановна, одну пару! Самую последнюю.
Тут же за столом у дяди Нади среди физоргов сидел Петя Журавлев и, морща лоб, делил на бумажке сто на двадцать шесть.
— Беда, и только! — сокрушался он. — У всех физоргов сто процентов, а у меня одного девяносто шесть с дробью. Надо же такое несчастье — Надеждин в группе! Все показатели массовости портит. Один — а в нем три и восемьдесят пять сотых процента. Три целых! Восемьдесят пять сотых!
И вот настало утро кросса. Над городом, окутанным туманной пеленой, вставало оранжевое зимнее солнце. На свежем, чистом снегу красиво и четко печатались следы. Накатанные машинами ледяные полосы отражали радужных зайчиков.
Сокольники были в сильном возбуждении. Сверкающие автобусы, поезда метро и пестреющие трамваи выбрасывали все новые и новые группы участников. Шумные потоки разливались ручейками по снежным дорожкам парка. По наполовину занесенным снегом открытым летним павильонам. Цветной змейкой рассыпались они вокруг стартовой поляны. Кто уселся прямо на снег под запорошенную ель, накапливая силы, кто в десятый раз подтягивал крепление; «разминающиеся» мелькали между стволами, как разноцветные флажки. Вокруг бегали физорги с блокнотами. Выкликая фамилии. И вдруг:
— Ребята. Вот видение–то!
— Надеждин, собственной персоной! Давно ли в болельщиках?
— Игорь, ты кому лыжи несешь?
Игорь в сторонке сумрачно развязывал лыжи. К нему подошел Журавлев:
— Надеждин, вот тебе секундомер. Пойдешь с дядей Надей на дистанцию. Он тебе объяснит, где стоять и как своим давать время.
— Номер! — жестко сказал Игорь.
— Не нужно номера. Ты с дядей Надей будешь.
— Номер мне! — закричал Игорь. — Номер участника.
— Брось людей смешить! Завязнешь в сугробе — кому искать?
Но Игорь с неожиданной ловкостью схватил Журавлева за куртку и вырвал из его рук номер.
— И откуда берется? — бормотал вслед физорг. — Удивить он хочет кого, что ли? Думает, так просто, лыжный кросс… Ладно, мне безразлично. Во всяком случае, у меня сто процентов, остальное меня не касается.
— На старт! На ста–арт! — зазвенело по лесу.
Очередные четыре сотни лыжников выстроились по опушке большой поляны — цветная живая цепочка. Шапочки красные, желтые, белые, синие, зеленые, пестрые, шерстяные и матерчатые. Светлые и темные непокрытые головы с разноцветными наушниками. Свитеры и лыжные куртки; черные шерстяные майки заядлых гонщиков с круглыми вырезами у шей. Ботинки всех размеров, образцов и фасонов: тупорылые «американцы» с блестящими плоскими застежками; элегантные «скандинавы» с острыми носами — потомки финских пьекс; старомодные ботинки с загнутыми носами; наконец, практичные русские: ни тупые, ни острые, ни загнутые, ни опущенные — такие, как надо.
Бледный Игорь стоял во второй шеренге рядом с черноглазым бакинцем Гулиевым. Южанин, впервые в Москве увидевший лыжи, очень волновался, как бы не остаться последним, но, увидев рядом с собой Игоря в длинном, неудобном пиджаке, Гулиев понял, что избежал позора, и довольно улыбнулся.
— Держись за меня, друг, — сказал он Игорю. — Не пропадем!
4
Раздалась протяжная команда: «Приготовиться!..» Шеренги замерли и насторожились. «Внимание!» Палки чуть приподнялись, тела вытянулись вперед, готовясь к броску.
«Марш!» — хлыстом ударила команда. Разом упали стартовые флаги, судьи нажали головки секундомеров, и, точно стрелы, слетевшие с тетивы, рванулись лыжники вперед. Взлетела и осела снежная пыль, пестрый клин лыжников стал втягиваться в лес, и тогда все увидели Игоря, который запутался в лыжах и барахтался в снегу на старте.
Подхваченный общим порывом, он слишком сильно двинул лыжи, не удержался и упал навзничь, больно стукнувшись головой. Мучительный стыд залил краской его лицо. С трудом поднявшись, он двинулся через поляну, осторожно, еле двигая ногами, залепленный снегом и преследуемый насмешками. На старте оставались большей частью женщины, и, конечно, Валя среди них. Она все видела, она смеялась вместе со всеми, и в то же время ей обидно было за него.
— Отряхнись, «чемпион»! Отряхнись! — звенели девичьи голоса.
Уже никого не оставалось на поляне, даже маленький Гулиев исчез за деревьями, а Игорь все полз, не отрывая лыж от снега, судорожно цепляясь за палки, больше всего боясь снова упасть у всех на виду. «Почему все могут? — думал он. — Ведь это же примитивная ходьба. Как это там на плакате? Правая нога, левая рука. Левая нога, правая рука…»
Глядя Игорю вслед, Валя даже пожалела о своем вчерашнем совете. Зачем она уговаривала Игоря притти на кросс! Ему бы надо было тренироваться в сторонке, одному, понемногу увеличивать дистанцию. А все–таки он послушался ее. Никого не слушал, а ее — с первого слова. Это было приятно.
Наконец Игорь добрался до края поляны. Серый пиджак его слился со стволами.
Маленький Гулиев, упорно двигая ногами, семенил в хвосте колонны. Впереди был пологий спуск к реке, и разноцветные фигурки лыжников, приседая и отталкиваясь палками, проворно скользили вниз. Гулиев не терял бодрости. Надеждина он уже обогнал. Если бы не лыжи, он обогнал бы и очень многих. Какой смешной спорт придумали северяне — ходить по снегу, да еще волочить ногами деревянные палки! Жалко, что нельзя бросить лыжи и пуститься бежать по твердому насту лыжни. Но, во всяком случае, Гулиев надеялся: на второй половине пути, когда одного умения не хватит, лыжники начнут выдыхаться и он, Гулиев, возьмет свое. Силой возьмет, выносливостью, неослабным темпом. Раз–два, раз–два!
И вдруг сзади:
— Лыжню дай! Лыжню!
Гулиев и не подумал дать дорогу.
«Если ты ловкий такой, — решил он, — сам и сворачивай!»
Удар! Чья–то лыжа пролезает между ног Гулиева. Гулиев стремительно и неотвратимо начинает скользить под гору, цепляя палками за кусты. Лыжи несутся сами собой, ноги разъезжаются. Каскад снега — и Гулиев в глубоком сугробе.
И вдруг мимо него проносится… Кто же это? Надеждин! Он так же нелепо качается, как и Гулиев; зачем–то работает ногами на спуске. Но вот он скрывается за бугром, вот показывается внизу. Падает, вскакивает, бежит по реке — совсем маленький, совсем далеко…
Гулиев с тоской поглядел ему вслед, прикинул расстояние и, насупившись, стал расстегивать крепления. А Игорь уже догонял предпоследнего, заправски крича профессиональное:
— Лыжню дай! Лыжню!
5
Коля Казаков был доволен собой. Он шел как опытный лыжник. Не вел, не рвался вначале, а взял сразу тот темп, которым мог пройти всю дистанцию. И когда неопытные лидеры истощили силы в борьбе друг с другом, он, чуть сменив ход, начал медленно, настойчиво выдвигаться вперед. Те, кто были перед ним, теряли время, уступая ему лыжню. Коля уверенно вышел вперед и почти без сопротивления обошел ближайших соперников.
Теперь оставалось показать хорошее время, и на последних километрах Казаков прибавил темп. Он шел размашистым, широким шагом, далеко выкидывая палки, сам чувствуя, что идет хорошо.
Укатанные полосы настовой лыжни так и бежали из–под его ног, ровные кружочки от палок по бокам сливались в одну сплошную полоску.
Жаль только, он ничуть не устал к концу дистанции. Слишком много оставалось неистраченных сил. Может, напрасно пошел он со своим институтом — лучше бы с мастерами, чтобы было за кем тянуться. А здесь идешь чересчур уверенный в первом месте, и это расхолаживает.
— Лыжню дай! — донеслось сзади.
Казаков удивился. Кто бы это мог быть? Откуда? Нет, он не намерен давать лыжню. У него хватит сил побороться.
— Лыжню! — голос звучал заметно ближе.
Казаков оглянулся.
За ним был Игорь, бледный, с заиндевевшими бровями и ресницами. Он весь был в снегу; на растрепанных волосах — снег; низы штанин тащили на себе куски плотного снега. Но он настойчиво требовал дорогу.
Ну нет! Коле было не до шуток. Кросс — дело серьезное, и лыжня не для катающихся. Он пригнулся, рванулся в бешеном спурте, каким идут только на финише. Сотня метров, другая… Теперь этот смешной Надеждин должен быть позади.
— Лыжню! — срывающийся голос Игоря прозвучал совсем рядом.
Дисциплина спортсмена заставила Колю отпрыгнуть в сторону, и Игорь промчался мимо, пахнув холодным ветром.
Он шел каким–то нелепым, не спортивным стилем, короткими и быстрыми шагами, и руки у него работали не в лад, тыча палки куда попало; но была в его шагах какая–то неутомимая сила, ноги сменяли одна другую в безостановочном темпе, и этот темп был сильнее, гораздо сильнее, чем у Коли Казакова.
Обойдя Колю, Игорь оглянулся, потерял равновесие, смешно запрокинулся и оказался в канаве. Коля довольно улыбнулся и одним движением миновал Игоря, распутывавшего ноги.

Игорь опять увидел черную цифру «12» на Колиной спине и кинулся за ней вдогонку. Он не стал стряхивать снег. Снег был у него в рукавицах, в карманах, в ноздрях, во рту, лез в брюки и за спину. Холодные струйки текли по шее. Где–то на сучке повисла кепка. Он ни на что не обращал внимания, он видел цифру «12» и требовал лыжню.
Казаков ничего не понимал. Он еще прибавил шагу и сбился с темпа, ход его потерял эластичность, дыхание становилось неровным. Это было страшно… Каким образом Надеждин, беспомощный новичок, мелкота, обходит его? Казаков не уступал лыжню. Должен же был этот Надеждин задохнуться наконец!
И тогда, свернув с пути, Игорь обошел его сбоку, обошел легко, без напряжения, как будто бы Коля стоял на месте. Казаков сам увидел спину с номером, и хотя он выжимал из себя все силы, номер становился все меньше и меньше.
Но Казаков не сдался. «Посмотрим, — подумал он, — что ты на оврагах делать будешь!»
6
Оркестр, собравшись под натянутым между деревьями огромным плакатом с надписью «Финиш», ожидал появления победителя. Судьи держали в руках секундомеры, капельмейстер поднял палочку. И вот в глубине широкой садовой аллеи, усаженной по бокам аккуратными липами, показался первый лыжник. Блеснула медь труб. Оркестр грянул туш. Ряды зрителей заволновались, зааплодировали, зашумели.
— Великолепное время! — сказали судьи. — Кто это?
Дядя Надя, не утерпев, выскочил на дорогу, стал приглядываться из–под ладони.
Лыжник съехал с горки, взмахнул палками, ударил ими с силой. Левая палка застряла в снегу, позади гонщика. Видно было, как он беспомощно оглянулся и, отчаянно просунув оставшуюся палку между лыжами, покатился, словно на санках, по блестящей на солнце, наезженной аллее.
— Молодец! — сказали судьи. — Кто же это?
— Это Игорь! — воскликнула Валя, первая узнав победителя. «Он срезал дистанцию», подумала она.
Шум, смех, рукоплескания, звон оркестра — все смешалось в ушах Игоря. В шумном хороводе кружились руки, сорванные с голов шапочки, флажки, метровые буквы полотнища. Дядя Надя кинулся навстречу Игорю.
— Сюда! — крикнул он. — Влево! Проезжай сбоку!
Старик не хотел, чтобы ленточку порвал очковтиратель.
Но было уже поздно. Белая ленточка коснулась груди Игоря и упала, запутавшись в лыжах.
Толпа судей, зрителей, «болельщиков» окружила его тесным кольцом. Кто–то поздравлял, кто–то о чем–то спрашивал, Кто–то жал ему руки, кто–то что есть силы дружески хлопал по спине (Игорь никак не мог вспомнить этих друзей), а маленький человек в белом халате суетился вокруг него, то щупая пульс, то, становясь на цыпочки, смотрел в глаза. А Игорь стоял среди толпы, оглушенный, ошарашенный, в длинном потертом пиджаке, с ледяными пузырями на коленях, и все еще не понимал, что он победитель, чемпион, первый из первых.
Отставшие лыжники все еще прибывали, когда Игоря вновь позвали к судьям. Судьи сидели вокруг стола со строгими лицами. И среди них дядя Надя, с видом виноватым и растерянным.
Отставшие лыжники все еще прибывали, когда Игоря вновь позвали к судьям. Судьи сидели вокруг стола со строгими лицами. И среди них дядя Надя, с видом виноватым и растерянным.
— Где ты срезал дистанцию? — спросил дядя Надя.
— Я не срезал дистанции, — ответил Игорь.
— Но пойми, Надеждин, у тебя получилось немыслимое время! Ты не мог показать такое. Я же знаю тебя. Мы не засчитали твой результат.
— Хорошо! — сказали судьи. — Кто же победитель?
Дядя Надя помедлил с минуту и сказал с отчаянием:
— Пишите — Казаков Николай. За него я ручаюсь.
— А я? — настаивал Игорь.
— Надеждин, — произнес дядя Надя очень ласково; почти заискивающе, — мы засчитаем твой результат, если ты пройдешь еще раз. Не сегодня, конечно… Как–ннбудь еще, в другой раз.
— Я вообше не пойду больше никогда! — твердо сказал Игорь. — Вы не имеете права не засчитать мое время. Проверьте у контролеров мои контрольные листки. Спросите всех регулировщиков с флажками, проходил ли я мимо них.
Тогда судьи поддержали, Игоря.
— Товарищ формально прав, — сказали они. — У нас нет оснований сомневаться в показаниях контролеров. Это наши люди — мы за них отвечаем. Но Надеждин ваш, и вы за него отвечаете.
Дядя Надя схватился за голову.
— Пишите! — воскликнул он. — Пишите… Но за Надеждина я все–таки не отвечаю.
7
Результат Игоря во Всесоюзном кроссе оказался лучшим не только в его забеге, но выше результатов многих мастеров, соревновавшихся в отдельном центральном забеге. Об Игоре заговорили всюду. Спортсмены и болельщики силились выяснить, когда и за кого выступал этот Надеждин. А когда оказалось, что никогда и ни за кого, к Игорю стали являться с приглашениями делегации разных обществ, суля самые необыкновенные блага.
Общество «Здоровье» обещало отправить его на круглый год в Заполярье, где даже в июле и в августе не стаивает снег. Игорь в ужасе отказался.
Битых два часа солидный представитель мощного общества «Сила» уговаривал Игоря выступать на лучшем в союзе стадионе с раздевалкой на четыре тысячи участников, с душами горячими и холодными, с массажистами, парафиновыми ваннами, клубом мастеров с биллиардом и радиолой. Но едва только представитель «Силы» заикнулся о научно оборудованном гимнастическом зале, где Игорь должен будет тренироваться под руководством лучших тренеров, будущий чемпион судорожно передернул плечами и поспешно отклонил приглашение.
Даже если бы «Торпедо», спортивное общество автозавода имени Сталина, предложило Игорю несбыточную мечту — собственный автомобиль «Победа», и тогда бы Игорь стоически отказался.
Единственный спортивный клуб, честь которого стал бы он защищать, чьи спортцвные цвета носил бы с удовольствием, чью славу отстаивал бы с азартом, это «Медик», который помещался тут же в институте и где Валя была своим человеком, непременной участницей и болельщицей всех соревнований. Но «Медик» ничего не обещал и вообще не приглашал Игоря.
Нет пророков в своем отечестве. Медики обидно, оскорбительно и хладнокровно не верили в Игоря. Одни, во главе с Казаковым, утверждали, что Надеждин наверняка срезал дистанцию процентов на девяносто. Дядя Надя, не сумев доказать то же самое, предпочтал отмалчиваться, считая в душе Игоря ловким обманщиком. Даже те, кто видел Игоря на дистанции, кто сам уступал ему лыжню, начиная с маленького Гулиева, хмуро бубнили: «Чудес не бывает».
Под влиянием всеобщей молвы даже Валя вслух осуждала его при всех, хотя иногда ей и приходило в голову, что Игорю можно простить обман — у него была уважительная причина: она сама, Валя.
Под градом всеобщих колкостей и насмешек, Игорь чувствовал себя еще хуже, чем прежде. Тогда он был просто неудачник, а теперь — презренный мошенник. Но Игорь знал, что последнее слово еще не сказано: на следующее воскресенье была назначена большая, двадцатикилометровая гонка.
Как победитель кросса Игорь получил персональное приглашение наряду с мастерами спорта. Игорь был приглашен даже в Звенигород — тренироваться вместе с мастерами на крутых обрывах «русской Швейцарии», но он отклонил приглашение, будто бы из нежелания пропускать лекции. Впрочем, лекции он пропускал, и кто–то из студентов видел его с лыжами на трамвае около Богородского, и будто бы Игорь, окруженный насмешливыми мальчишками, сосредоточенно ходил по самому берегу Яузы, вслух приговаривая: «Правая рука, левая нога, левая рука, правая нога…»
8
Настал день гонок. Старт давался на вершине большого холма. У каменных ворот бывшего монастыря собралась большая толпа. Немало народу приехало из института «поболеть» за Колю Казакова, поглядеть на посрамление Игоря. Было очень тепло, шел сильный снег, густая пелена кружилась перед глазами и заслоняла далекий лес.
Игорь чувствовал себя, как заправский лыжник. Перекидывался шутками с ребятами, постукивал каблуками, хотя, совсем не замерз. Соседи смотрели на него с опаской и уважением, и их неуверенность прибавляла бодрости Игорю. Он–то был уверен в успехе.
За несколько минут до старта к Игорю подошел дядя Надя. Физрук был прежде всего человеком долга, и, каковы бы ни были его подозрения, Надеждин в первую очередь был студентом его института, его питомцем.
— Не рви на первых километрах, — дал он ему обычный совет. — Иди по чужой лыжне — здесь люди поопытнее тебя: советую держаться за Казаковым, а на последних километрах жми во–всю. Выкладывай все до последнего, ничего не оставляй.
Игорь снял пальто, и дядя Надя с удивлением уставился на него.
— Ты в этом пиджаке пойдешь?
Игорь как раз собирался итти именно в этом пиджаке, в том самом, в котором завоевал первенство в кроссе. Ему даже казалось приятным побить в простом студенческом пиджаке всех этих мастеров с их спортивными формами и дорогими специальными лыжами. Но дядя Надя решительно воспротивился.
— Надевай! — лаконично сказал он и снял с себя шерстяной свитер. — Ну, ни пуха, ни пера! Громи чемпионов!
Дядя надя подмигнул Игорю, приколол ему номер на спину и, вздохнув, отошел с сознанием исполненного долга.
Старт дан! Игорь взмахнул палками, пригнулся и полетел по склону. Первые же толчки вынесли его вперед. Игорь вспомнил совет дяди Нади, но не захотел специально уступать дорогу и решительно пошел по целине крупными шагами, оставляя борозды в рыхлом снегу.
Каждый шаг его был энергичным и сильным; сила, казалось, клокотала в налитых мускулах. Игорь шел мерным шагом, постепенно наращивая темп.
Лощина сменилась подъемом, перелеском, новым спуском и опять подъемом. Игорь немного устал, но продолжал итти, не сбавляя темпа.
Вдруг сбоку бесшумно прошел один гонщик, легко обогнав Игоря, за ним другой, третий, целая группа… Игорь прибавил шаг, напряг мускулы, ожесточенно погнался за ними. Он уже задыхался, тяжело и с хрипом, но просвет между ним и гонщиками становился все больше. Они шли размеренным ходом, нога в ногу, не прибавляя и не сбавляя темпа, и как ни старался Игорь, он отрывался все больше. Вот и последний скрылся под темными елями, стряхнув с ветвей комья мокрого снега. Игорь остался один в мертвенно тихом лесу, на безмолвной лыжне.
Происходило что–то непонятное. Игорь чувствовал силу в каждом пальце. Ему казалось — стоит только нажать, взяться, и он понесется, как вихрь. Стоит налечь плечом, и с треском поВалятся столетние ели. Он приказывал рукам и ногам двигаться быстрее, но когда обращал внимание на ноги, то руки отставали; ценой огромных усилий руки ускоряли работу — ноги начинали отвратительно отставать. В довершение всего, Игорь сбил дыхание; он раскраснелся, крупные капли пота бежали о лицу.
Еще и еще пробовал он встать на лыжню и, рванув двести–триста метров, останавливался задыхаясь. Обида, горькая, противная, душила его. Игорь отер лицо грязной рукавицей, сошел под гору на дорогу и побрел назад пешком, с лыжами через плечо. Мучительный стыд охватывал его при мысли о возвращении.
Пройдя шагов двести, он положил лыжу одним концом на пенек, а другим на дорогу, потом прыгнул на нее и забросил в снег отломившуюся половину.
Добравшись до места старта, он устало сказал дяде Наде:
— Лыжа сломалась, — и добавил: — на пеньке.
* * *
Когда он уходил, разбитый, уничтоженный, провожаемый подозрительными усмешками, Валя догнала его и взяла под руку.
Несколько шагов они прошли молча. Валя не сразу подобрала нужные слова.
— Мне кажется, Игорь, — сказала она наконец, — ты взялся не с того конца. Видишь, один раз тебе сошло, но нельзя же повторять всякий раз… Не знаю, на что ты рассчитывал сегодня. Может быть, я виновата, я неправильно тебе объяснила. Но, если хочешь, если ты будешь работать, я могу помочь тебе на тренировках.
Инстинктивно чувствуя, как Игорь страдает, Валя поженски жалела его. Она даже считала себя обязанной помочь Игорю стать на правильную дорогу, уж если дружба с ней завела его на тропу обмана и неведомых ухищрений.

Но Игорь был слишком зол, чтобы оценить все великодушие Вали.
— Ты ничего не понимаешь, Валя! — грубо ответил он. — Я сам не понимаю. Я могу выиграть дистанцию сейчас. А полчаса назад не мог. Не знаю почему. Но я все равно буду чемпионом.
Валя выдернула руку из–под локтя Игоря.
— Кроме всего, ты еще и хвастун! — сказала она, презрительно поджимая губы.
9
Но Игорь действительно стал чемпионом. И это было так же удивительно, как его первая победа на лыжном кроссе.
Правда, нашел он себя (как выражаются в спортивиых кругах) не в лыжах. Лыжный сезон кончился на двадцатикилометровой гонке. Вскоре началась бурная весна. Пушистые снега растеклись грязно–желтыми потоками, и Игорю пришлось поставить лыжи в дальний угол чулана на лестнице.
Но едва подсохли беговые дорожки, Игорь появился на стадионе и шутя разбил всех бегунов на все дистанции.
Здесь не могло быть подвоха, какого–нибудь фокуса с «таинственным автомобилем», перевозившим Игоря от контролера к контролеру (теория Феди Федоренкова).
Игорь был на виду у всех, от старта до финиша. Он кружил перед глазами зрителей, раз за разом проходя четырехсотметровый овал беговой дорожки. На соревнования с участием Игоря даже скучно было смотреть. Он брал с ходу; если не вел сразу, то вырывался вперед на первом же повороте и дальше спокойно уходил от своих соперников, легко выигрывая у них целые круги. Борьбы не было. Игорь шел впереди, затем легко догонял отставших, обходил их и опять вырывался вперед. Некоторые шли рядом с ним сто–полтораста метров, но сразу теряли дыхание и вынуждены были сойти.
Игорь показывал очень хорошие результаты на коротких дистанциях, великолепные — на средних и совершенно фантастические — на длинных. Что там мировые рекорды! Игорь улучшал их на целые минуты. Десять километров он прошел за девятнадцать минут и сорок четыре секунды, превзойдя мировой рекорд на десять минут с секундами. Даже нельзя было называть такой результат рекордом. Это было немыслимым явлением в спорте.
Об Игоре стали говорить, стали писать. Его портреты появились во всех спортивных газетах вместе с самыми невероятными биографическими сведениями. Игорь узнал о себе, что в детстве он увлекался футболом, что еще в пионеротряде взял первый приз по бегу, а в институте активно руководил физкультурной работой. Он послал опровержение в газету, но опровержение почему–то не поместили.
Даже из–за границы приходили к Игорю, газеты с непохожими портретами и огромными черными заголовками.
«Человек или ракета?» кричали газеты. «Необычайный успех русского бегуна»… ««Устои спорта поколеблены“, говорит тренер Шарль Бзансон»… ««Для меня нет невозможного“, заявляет человек–ракета»… «Все билеты до конца сезона проданы»… «Вновь Россия удивляет мир»… «Спешите посмотреть человека–ракетут»… «Он не знает усталости»… «Перед нашими глазами — невероятное»… «Можно ли считать русского чемпиона человеком.»… и т. д., до есконечности. Вместе с международными комиссиями, приехавшими убедиться в подлинности рекордов Игоря, прибыл Морис Бра, автор известной книги «Бег как наука».
Бра прибыл специально для изучения техники Игоря. Но у Игоря не оказалось никакой особенной техняки. Чемпион бегал, как самый заурядный третьеразрядник. Он брал старты не слишком умело, никак не рассчитывал силы, делал массу ненужных движений и… оставлял за собой величайших бегунов.
И в предисловии к семнадцатому издатнию своей известной книги Морис Бра написал буквально следующие слова:
«Если вы хотите научиться экономным движениям, где все рассчитано до сантиметра, правильной и умной работе рук, верной постановке головы изучайте Жоржа Бовэ.
Жюль Лядумег научит вас правильному расчету, умению распределить силы, темпу старта и финиша.
Но ничему не учитесь у русского чемпиона Игоря Надеждина. Вы не найдете у него ни техники, ни расчета, ни дыхания. Здесь — все от бога. Здесь нечему учиться. У Игоря Надеждина есть ноги, сердце и легкие. Они работают. И наши органы так работать не могут».
10
В конце концов, вероятно, так и было. На все просьбы научить своей технике — как говорят, обменяться опытом — Игорь отвечал:
— Я не знаю, как я бегаю. Я просто бегу — и все. Стараюсь работать как можно быстрее…
В результате все признали Игоря необъяснимым явлением, чистым самородком, спортивным гением. И на этом сошлись в конечном счете все специалисты, писавшие об Игоре: Игорь — гений, а гения ни судить, ни объяснить невозможно. Он сам собой. Он так может, потому что он так может.
И только институтские товарищи упорно не верили в мирового чемпиона. «Где был этот самородок два месяца назад? — говорили они. — Почему он прятался?»
Сам Игорь принимал свою славу вполне пристойно и скромно. Он упорно уклонялся от почестей, старался не принимать ценных призов, приводя совершенно неубедительные доводы, что он, дескать, человек совершенно особого физического склада и нельзя давать ему призы, предназначенные для людей с обыкновенным телосложением. Спортивные комиссии, выслушав заявление Игоря, единогласно и восторженно присуждали приз все–таки ему — единственному в своем роде и непревзойденному. И тогда происходило непонятное. Получив приз, Игорь отсылал его бегуну, пришедшему к финишу вторым.
За полтора месяца Игорь без всякого напряжения и с первой же попытки побил мировые рекорды по бегу на двадцать, десять, пять километров, три тысячи, полторы тысячи и восемьсот метров. Даже на одной из труднейших дистанций — четыреста метров — он сумел улучшить время на две десятых секунды. Это было настолько чудесно и необъяснимо, что оставалось действительно признать Игоря человеком особого физического склада.
Может быть, все дело было в его замечательном сердце? Во всяком случае, врачи, исследовавшие его, не обнаруживали обычного для спортсменов учащения пульса, который доходил до двухсот пятидесяти у спринтеров, а у Игоря едва достигал ста.
К сожалению, Игорь категорически отказался дать два литра своей крови для исследавания в Центральный гематологический институт. Он заявил, что кровь нужна ему самому.
— Уж если я своеобразное явление, — сказал он, все равно на мне ничему не научишься.
И под этим предлогом он отказался от медицинского наблюдения во время тренировок, а заодно и от опытных тренеров, массажистов и парафиновых ванн.
Кое–кто говорил, будто бы Игорь вообще не тренируется, хотя это и звучало не очень правдоподобно. Но такие мелкие чудачества можно было бы, конечно, простить необычайному спортивному гению.
Игоря признали неожиданно, и признали необыкновенным. Болельщики превозносили его до небес, спортсиены хвалили за простоту и скромность, а администраторы стадионов — за то, что он никогда не жаловался на беговую дорожку и не требовал невесомых туфель с вечными шипами.
11
Наконец Игоря признали и в институте. Пришлось признать. Самим же студентам приятно было говорить: «Я учусь с Надеждиным… Да, да, с тем самым…»
Лед сломался как–то сразу, и теперь каждый наперебой старался упрочить отношения с знаменитостью, оказать Игорю мелкие услуги, напомнить о себе. И каждый из старых и новых приятелей считал своим долгом отвести Игоря в сторону и, осторожно похлопывая по плечу, спросить трагическим шопотом:
— Игорь… Между нами: как ты стал чемпионом?
Сначала Игорь смущался, что–то рассказывал о долголетних тренировках, обливаниях холодной водой, о том, что врачи говорят ему о каком–то переломном возрасте, о наступившей спортивной зрелости. Но вопросы не прекращались.
Тогда Игорь стал отшучиваться. Толстому Феде Федоренкову он объяснил свои успехи диэтой: с утра — мороженое, вечером — кислая капуста, и больше ничего. Нине Зальцман, увлекавшейся гипнозом, он выдумал зловещую историю о духах древнегреческих атлетов, бегающих вместо него по стадиону. Красноносому Журавлеву Игорь шепнул на ухо, что все дело в спирте: надо пить беспросыпу трое суток перед выступлением. А когда «близкие» друзья обижались на такого рода откровеннсти, Игорь пожимал плечами:
— Ну, что вы спрашиваете? Тренируюсь, работаю. Вот и получается.
И когда в клубе «Медик» в сотый раз зашел вопрос о необъяснимых успехах Игоря, тот же Журавлев высказал общую мысль:
— Пусть Валя спросит. Вале он скажет.
— Почему именно мне? У меня с ним такие же отношения, как со всеми, — возразила Валя чересчур поспешно.
Но ехидные, всевидящие подруги набросились на Валю все сразу:
— Валечка, не притворяйся! «Такие же отношения»! А почему ты раньше всех знаешь о всех рекордах Надеждина? Спроси сейчас, какие секунды показал Надеждин в последний раз, — кто ответит, кроме тебя? Никто.
Валя смутилась. Неужели действительно она особенно интересуется Игорем и все это видят? Но это же вполне естественно. Если бы у Федоренкова или у Журавлева были такие рекорды, она бы знала их тоже. Даже наоборот: она в ссоре с Игорем, почти не разговаривает с ним, с тех пор как он так грубо отказался от ее помощи. Теперь она сама видит — смешно было любительнице предлагать помощь и советы мировому чемпиону. Но, так или иначе, Игорь был непростительно груб. Потом он, правда, старался загладить свою грубость, много раз подходил с приглашениями, с билетами. Валя всегда отказывалась. Она нарочно не разговаривала с Игорем. Пусть не думает, что его слава имеет для нее значение, что рекорды оправдывают грубость.
Заметив смущение Вали, Коля Казаков, что–то слыхавший о разговоре на лыжной гонке, поспешил ей на помощь.
— Валя не пойдет. — сказал он. — Это для нее неудобно.
Но Валю возмутили эти слова. С какой стати Казаков высказывается за нее! Она сама знает, что ей удобно и что неудобно. И только из чувства противоречия Валя объявила:
— Ничего особенного я тут не вижу. Возьму и спрошу.
Игорь очень обрадовался, когда Валя подсела к нему на уроке английского языка, как в старые времена. Опять они читали простые и премудрые фразы из учебника и Валины пушистые волосы касались щеки Игоря.
— «What will you do in the Sunday? Что вы делаете в воскресенье? — читали они. — В воскресенье я занимаюсь спортом».
— А помнишь, как я уговаривала тебя заниматься спортом? — неожиданно сказла Валя.
Игорь кивнул головой. Он помнил очень хорошо.
— Ты, наверное, смеялся надо мной про себя, — продолжала Валя. — Прикидывался новичком, а сам тренировался по секрету.
— Я не тренировался по секрету, — просто сказал Игорь.
— Но как же ты стал чемпионом без тренировок?
Игорь услышал вечный подозрительный вопрос: «Как ты достиг этого?» — и со вздохом отодвинулся.
— Валя! — сказал он. — Я мог бы ответить тебе так же, как и другим: «Работал над собой». Но дело не только в этом. Дело в том, что мне помогает один человек. И я дал ему слово ничего не говорить об этом… И тебя прошу…
— Старый тренер, да?
— Он старик и сам выступать не может… — Игорь замялся. — И не спрашивай, Валя. Именно тебе–то я и не хочу лгать, потому что из–за тебя только все это случилось. На каждом выступлении — да что, на каждом метре дистанции я думал: «Валя об этом услышит, Вале это понравится». И что бы я ни делал, я всегда спрашиваю себя: «А как бы отнеслась к этому Валя?» Я мог бы сделать все, что ты захочешь, все, что ты потребуешь. Каждый день, каждая минута — только о тебе, только для тебя! Валя, Валя… больше я ничего не знаю. Тебе смешно, наверное, все, что я говорю?
Валя чуть–чуть дотронулась до руки Игоря.
— Не надо, — шепнула она. — Это не смешно, это… это… Словом, не надо… Потому что я могу быть только другом тебе. Но я даю слово: я буду настоящим другом.
На перемене товарищи окружили Валю.
— Ну? — хором спросили они.
— Ничего нового, — уклончиво сказала Валя. — Говорит, работаю и вам советую.
Она, чувствовала, что не могла нарушить слово настоящего друга.
12
— Приезжай, — сказала Валя и повесила трубку.
— Опять Надеждин! — недовольно протянул Коля Казаков. — Зачастил он к тебе. Последний месяц просто не выходит из твоего дома.
— Он по делу, — сказала Валя. — У него на стометровке…
Игорь привел в смятение спортсменов всего мира. Скромно заявив в частной беседе, что намерен побить все мировые рекорды по всем видам спорта. Газеты были потрясены этим чудовищным заявлением. Но от русского самородка всего можно было ожидать.
Сейчас Игорь хотел побить мировой рекорд в беге на от сто метров. Прежде он не брался за эту дистанцию, зная, какое значение имеет на ней техника бега, и старта в особенности. Игорь, как известно, не владел техникой в достаточной мере, он брал исключительно быстротой и выносливостью как раз на длинных дистатнциях, где старт не играет большой роли. Но, завоевав все дистанции — от двадцати тысяч до четырехсот метров, — Игорь обратился к классической «стометровке». Поставить мировой рекорд здесь было заманчиво. Именно на этой дистанции человеческие возможности, казалось, были исчерпаны.
С 1927 года, когда Корниенко поставил всесоюзный рекорд, пробежав сто метров за 10,7 секунды, этот результат держался тринадцать лет, пока Головкин не улучшил его на 0,1 секунды. Мировой рекорд — 10,3 секунды — также держался годами. Десяток спринтеров Америки, Европы и Азии показывали это время и не могли его побить, пока негр Оуэнс не пробежал сто метров за 10,2 секунды. Другой негр, Пикок, один раз в жизни показал время — 10 секунд ровно, но этот результат не засчитали из–за попутного ветра.
Казалось, человеческий организм уперся здесь в какую–то стену, предел физиологических возможностей, если спринтеры всего мира тратили десятки лет, чтобы продвинуться на одну десятую секунды. Но Игорь, уже сломавший столько пределов, с легкостью заявил, что намерен поставить рекорд и на ста метрах.
Он потратил много дней, старательно изучая старт, как отметили корреспонденты в записных книжках, «чемпион чувствует себя очень уверенно, шутит с товарищами и расспрашивает о премьере в Малом театре».
«На старт!» Ветерок треплет высоко поднятый красный флажок. Ветер боковой — Игорю не угрожает судьба Пикока. У соседей лица налиты кровью. Игорь сам волнуется: не прозевать бы… «Внимание! Марш!!» Команда не слышна в звуке выстрела пистолета стартера. Флажок резко обрывается вниз, разгибаются спины, вылетают на дорожку тела. Мелькают кулаки, колени в темпе барабанной дроби. Старт взят правильно. Темп. Темп. Темп. Ленточка финиша.
Игорь приходит третьим, со временем 11,4 секунды. Он два, и три, и четыре раза проходил дистанцию, чего не делает ни один спортсмен, и всякий раз показывал то же время.
Он взял секундометриста из клуба и занимался с ним отдельно. Результат был тот же самый — 11,4. Один только раз получилось 11,2, но, может быть, ветер дул в спину, а может, Игорь сорвал старт…
И тем не менее сегодня Игорь вновь выходит на старт стометровки. Об этом он и звонил Вале.
13
— Ничего у него не выйдет, — хмуро сказал Казаков. — Он уже третий раз обещает установить мировой рекорд, а бегает по второму разряду.
— Да! — вздохнула Валя. — Он чемпион, а спорта понять не может. Бег на десять тысяч или на сто метров — это же совсем разные вещи. Если он хороший стайер, отсюда уже само собой вытекает, что спринтер он никакой.
— Кажется, на–днях выяснится, что Надеждин и стайер тоже никакой.
— Но ведь он только что поставил рекорд на двадцать километров во Всесоюзном летнем кроссе!
— Как, — воскликнул Казаков, — ты ничего не знаешь? Никакого рекорда не было. Я всегда полагал, что он мошенничает, и наконец–то его поймали. В двух контрольных ящиках не оказалось его листков. Знаешь, зелененьких таких.
— Но как же это может быть?
— Не знаю как. Но я сам был в комиссии и проверял контрольные ящики. Назревает большой скандал, стоит вопрос о дисквалификации.
Валя слушала с широко раскрытыми глазами.
— Но как же, — сказала она наконец, — как он мог вообще миновать два контрольных пункта на дистанции?
— Дело в том, что эти пункты на петле. Я начерчу сейчас.
Коля вытащил из кармана записную книжку, и когда он раскрыл ее, на пол веером разлетелись вложенные в нее рубли и какие–то справки на белой и зеленой бумаге.
Валя ни за что бы не обратила внимания на них, если бы Коля только что не говорил ей о зеленых контрольных листках.
Валя подобрала одну бумажку, подлетевшую к ее ногам. «И. Надеждин. № 24», было написатно на ней.
— Что это? — спросила Валя.
Коля протянул руку.
— Пустяки! — сказал он. — Квитанция какая–то.
Валю взорвало. Она покраснела, закусила, губы.
— Квитанция?! — воскликнула она. — Кому ты говоришь! Это контрольный листок Надеждина! Ты хотел скрыть его и обвинить Игоря в мошенничестве.
— Он зазнался, — сурово сказал Коля. — Его надо поставить на место.
У Вали дух захватило от негодования.
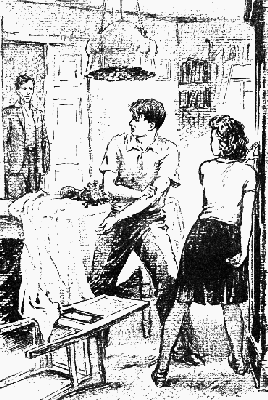
— Игорь — настоящий спортсмен! — закричала она. — А ты… Ты — мелкий жулик! Но ничего не выйдет с этим фокусом. Я всем покажу украденный листок, и тебя не только дисквалифицируют, но…
Коля понял всю серьезность угроз.
— Я пошутил, Валя, — перебил он. — Дай сюда листок…
Валя отрицательно покачала головой.
— Дай листок, Валя! — сказал Казаков. — Ты не имеешь права брать его. Он из моей книжки.
— Тебе никто руки не подаст! — ответила упрямо Валя.
Коля протянул руку, чтобы вырвать листок, но Валя ловко отпрыгнула и загородилась столом.
— Как хочешь! Держи его у себя, — сказал Коля, притворяясь равнодушным. — Я просто так рассказал тебе, для смеха. Никто из нас не собирался подкапываться под Надеждина.
— Я ненатвижу лгунов, — сухо ответила Валя.
Коля перегнулся через стол, чтобы поймать ее, но промахнулся.
Несколько минут они гонялись вокруг стола, и Коля убеждал и упрашивал Валю отдать контрольный листок Игоря. Он грозил и умолял, льстил и ругался. Валя не поддавалась.
Вдруг Коля оперся руками о стол, одним движением перебросил тело и поймал Валю в углу. Вазочка с цветами опрокинулась, зеленоватая вода расплылась по скатерти. Молча боролись они в углу, натыкаясь то на стулья, то на буфет. Внезапно хлопнула дверь, кто–то кашлянул сзади.
— Прошу извинить! — сказал Игорь. — Я, кажется, помешал… Дверь была открыта.
Никто не ответил ему. Коля потирал ушибленную руку, Валя еле переводила дыхание. Игорь опустил голову и взялся за дверную ручку.
— Постой! — отрывисто сказала Валя. — Ты нужен мне. Сядь.
Игорь не сел. И Валя с Колей не сели.
— Так–с, — сказал Коля неизвестно к чему. Игорь молча барабанил пальцами по столу.
— Скажи ему… А то я скажу, — потребовала Валя, взглянув на Казакова.
— Я могу сообщить тебе приятную весть, Надеждин, — выговорил Коля, принужденно улыбаясь: — твои пропавшие контрольные листки нашлись. Так что вопрос о твоей дисквалификации снимается сам собой. Поздравляю тебя.
— Какая разница! — печально произнес Игорь, устало кивнув головой. — Я могу всегда повторить свое время. Только что я два раза подряд прошел стометровку за девять и восемь десятых секунды. Какое значение имеет вся эта возня с контрольными листками!
«Какая разница! — думал он. — Я побил мировой рекорд, а Валя из–за Казакова не захотела приехать».
— Ты думаешь так и оставить это дело? — спросила Валя с недоумением. «Она боится за Казакова», подумал Игорь и, взяв из рук ее смятый листок, разорвал на клочки.
Казаков вздохнул с облегчением и отер пот со лба.
— Ну, я пойду, — сказал Игорь.
— Я тоже пойду, — буркнул Казаков.
Валя видела в окно, как они уходили вдвоем. И вдруг широкоплечий Коля показался ей совсем незаметным. Игорь заслонял его. Это был не только большой спортсмен, но, что еще важнее, — большой человек. И он любил ее. Ради нее он сумел стать чемпионом. И вдруг Валя пожалела, что на такую любовь она ответила предложением ничего не говорящей и ни к чему не обязывающей вежливой дружбы.
Ах, если бы она ответила иначе, если бы она промолчала тогда! Но теперь Игорь считает ее бездушной. Любовь его увянет. Но, храня обет бесполезной дружбы, никогда, никогда, ни словом, ни намеком Валя не выскажет своего горя, и Игорь так и не узнатет о ее сожалениях, о ее любви… Да, любви.
14
Лукавая восточная мудрость гласит: «Человек — хозяин своего слова, потому что он всегда может взять его обратно».
Свадьба Игоря и Вали была назначена на первые числа сентября. Они решили никого не звать, чтобы были только свои: Валя и Игорь, Валины родители и две ее тети. А со стороны Игоря некого было пригласить. У него не было в Москве родственников.
— У меня есть один друг, — сказал он как–то, — старик… Он мне вместо отца и родных.
— Это твой тренер? — хитро спросила Валя.
— Это не тренер. — Игорь улыбнулся. — Он доцент. Фармаколог. Ткаченко Михаил Прокофьевич. Можно?
— Зови, кого хочешь, — шепнула Валя и улыбнулась Игорю одними глазами.
С трудом оторвавшись от Валиных глаз, Игорь отправился к своему другу. Он шел по центральным улицам в кипящей толпе и через головы людей улыбался солнцу. Московское солнце радовало его — чистое, свежее, с утра умытое. Незнакомые люди показывали друг другу на Игоря, кивали, приветливо улыбались.
Популярный журналист долго разговаривал с ним у остановки о перспективах развития спорта. Директор Театра Комедии, проходя мимо, приподнял шляпу. «Человек–Ракета… — все время слышал Игорь за спиной, — Человек–Ракета… Человек–Ракета…»
Он зашел в комиссионный магазин, приценился к зеркалу в бронзовой оправе и нескольким натюрмортам. У них с Валей будет уютная квартирка, хорошая мебель, картины на стенах. Впрочем, пусть Валя выбирает на свой вкус. Она говорила, что любит покупать вещи.
— Хорошо, я зайду в другой раз с женой, — сказал Игорь продавцу.
Тот с отменной вежливостью ответил:
— Может быть, прикажете оставить за вами? Ведь вы Человек–Ракета. Я сразу узнал вас.
Фармаколог жил неподалеку. Игорь открыл тяжелую дверь и, ничего не видя на прохладной сумрачной лестнице, стал привычно подниматься, не держась за перила. На третьем этаже он остановился и, ощупью найдя кнопку звонка, позвонил три раза.
* * *
Полчаса спустя Игорь снова шел по мостковским улицам и через головы людей смотрел на солнце. Но теперь солнце было почему–то тусклое, вялое — какой–то отвратительный багрово–красный шар, который висит над тесными улицами, раскаляя крыши, плавя асфальт, наполняя переулки зноем и известковой пылью.
— Курносая девчонка в синем жакете показала на Игоря пальцем. На нее бы показали — не понравилось бы, небось! Директор Театра Драмы, проходя мимо, приподнял шляпу. «Человек–Ракета… — шептали за спиной. — Человек–Ракета…»
Нет, Игорь не ракета — он человек, и прежде всего человек. Он студент, будущий врач и никакая не ракета.
И вот наконец кривой переулок на Самотеке, где трава прорастает сквозь мостовую. Проходной двор. Скрипучее крылечко. Шнурок от звонка… Наверху заливается колокольчик. Сейчас откроется дверь… И вот Валя на пороге.
Всегда она удивляла Игоря. Сколько бы он ни думал о ней, живая Валя оказывалась в тысячу раз лучше воображаемой. Его так радовали ее пушистые волосы, высокий чистый лоб, блеск глаз. Как можно жить без этого блеска!
Не глядя в глаза Вале, Игорь теребит полу пиджака:
— Валечка, ты хотела… Ты хотела знать… То есть у меня к тебе один вопрос: как бы ты относилась ко мне, если бы оказалось, что я не чемпион… И даже не спортсмен?
— То есть?.. — Валя не понимает. — О чем ты говоришь?
— Ну, если… — мнется Игорь, — если бы я обманывал всех?
— И меня? — спрашивает Валя.
— И тебя.
— Я ненавижу лгунов, — говорит Валя. — Я бы не могла смотреть на тебя. Я бы перестала разговаривать с тобой.
— Валя, — говорит Игорь очень тихо и очень ясно, — я обманул тебя и всех. — Какая–то гордость сквозит в его словах.
— Уйди, — шепчет Валя. — Уйди!
Ей кажется, что она летит вниз головой с высокой башни. Сверкают этажи. Каждое слово — этаж. Не чемпион. Не спортсмен. Обманщик. Все ниже и ниже падение. Сверкают слова — этажи. Сейчас будет земля… Удар!
Безмолвная, неподвижная, Валя лежит на земле. Ни слов, ни мыслей.
Что это был за удар? Ах да! Это хлопнула входная дверь. Он ушел!
Валя выбегает на площадку, на лестницу, на улицу:
— Игорь!
Нет Игоря. Незнакомые люди проходят мимо, толкают Валю, говорят о своих делах.
Нет Игоря. Ни человека, ни спортсмена.
15
Международный марафонский бег был в центре внимания прессы, радио, кино, рекламы всего мира. Лучшие из лучших бегунов съехались в Москву со всех концов света. Особый интерес бегу придавало участие в нем Человека–Ракеты. Вся столица устремилась в этот сверкающий солнцем день к огромному центральному стадиону.
Десятки тысяч машин доотказа забили стоянки. Поезда метро уже три часа ходили только в одном направлении. А людское море все прибывало. Оно заливало трибуны сотнями ручейков, пенилось на лестницах и в проходах. Мальчишки с боем прорвались на круглую трибуну, раскатились по полю горохом. Блестящие белые скамьи расцветали, яркими летними платьями.
Выскочив из метро, Валя поспешила на трибуну. Два чувства боролись в ней. Гордость ее негодовала и возмущалась. А любовь хотела все понять. Игорь был ей нужен. Игорь был нужен, чтобы выругать его, чтобы он мог все объяснить, оправдаться и можно было бы простить его и помириться. Валя чувствовала, что Игорь все сумеет объяснить. Ведь были же у него какие–нибудь причины, основания…
Она ждала, что Игорь придет. Но он не пришел больше. Все оставалось непонятным. По дороге на стадион Валя даже беспокоилась: уж не случилось ли чего?
Над стадионом висел неумолчный гул. Шестиметровая стрелка на огромных часах ползла к массивной двойке — времени начала бега. И чем ближе придвигалась стрелка к заветной цифре, тем сильнее на трибунах нарастало возбуждение, глуше и тяжелее становился гул. Рупор гулко кашлянул.
— Внимание! — загремел басистый голос. — Внимание! В центральном соревновании — Международном марафонском беге участвуют: от СССР — мировой рекордсмен в беге на все дистанции Надеждин и экс–чемпион Голубев.
— Человек–Ракета, Человек–Ракета!.. — оживленно и радостно зашумели трибуны.
Валя не могла больше оставаться на месте. Наступая на ноги соседям, она выбралась из ряда, спустилась с лестницы и побежала к павильону участников.
«Стану в стороне, — подумала она. — он должен меня увидеть».
Они шли мимо Вали, прославленные чемпионы, рекордсмены своих стран, герои кинохроник и газетных статей — самые выносливые, самые сильные, самые быстрые. Француз с трехцветной кокардой на груди, негр, чья кожа казалась синей на фоне белой майки, голландцы и яванцы, американцы и болгары, норвежцы и новозеландцы… Но Игоря не было среди них.
Несколько человек в белых брюках и белых туфлях пробежали по проходу. Коля Казаков в их числе. Заметив Валю, он бросился к ней, резко схватил за плечи:
— Где он?
Валя холодно высвободилась.
— Кто?
— Кто? — Казаков усмехнулся ее непониманию. — Конечно, Надеждин. Два часа ищем — ни дома, ни в институте, ни в общежитии. Непостижимо! Где он может быть, скажи?
Коля что–то взволнованно говорил о чести и свинстве, безобразии и дисциплине.
— Это позор! — кричал он. — Это позор! Своими руками отдать победу!
Валя не слушала. «Что бы это значило? С Игорем что–то случилось. Ни дома, ни в институте, ни в общежитии… Единственно, кто может знать что–нибудь, — это Ткаченко… А если и Ткаченко не знает?..»
— Поеду искать его! — решительно сказала Валя.
— Куда там! — Коля безНадежно махнул рукой. — До старта остались считанные минуты.
Но Валя уже мчалась к справочному бюро — узнавать адрес доцента Ткаченко Михаила Прокофьевича.
16
Вихрем ворвалась она в шаткую квартирку Ткаченко. Смешной усатый старик, на голову ниже Вали ростом, встретил ее на пороге, загораживая дверь в комнату.
Комната доцента не была приспособлена для жилья. Свежему человеку при входе казалось, что старик подрабатывает починкой примусов и дверных замков. Приборы, книги, провода, скобы, уголки, бутыли заполняли комнату, вытесняя владельца за дверь. На кровати стояли штативы с пробирками, под кроватью — бадья с водой. Вороха пакетов с сухим шиповником, саго, морской капустой пирамидой были навалены на столе. В углу гудела большая, похожая на комод электрическая печь, гирлянды проводов со всех сторон свисали к ней. На пианино громоздились цветные бутылки, журналы, книги; аптекарские пакеты лежали прямо на полу.
— Порядочек у меня! — говаривал обычно Михаил Прокофьевич посетителям. — Верите ли, каждые каникулы неделю трачу на уборку и никакого результата.
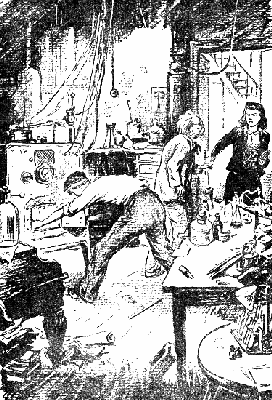
Соседка Ткаченко, с ужасом взиравшая на печь и разбросанные бумаги, на прошлой неделе привела даже пожарную инспекцию. Но старик запер дверь на крючок и свет погасил.
— Где Игорь? — задыхаясь, крикнула Валя.
— Игорь? Ах, это вы — невеста! — догадался старик. — Порядочек у меня! — добавил он сокрушенно. — Верите ли, каждые каникулы неделю трачу на уборку…
— Понимаете, — с трудом переводя дух, объясняла Валя, — ни в квартире, ни в общежитии, ни в институте… Бег начался без него.
— Как бег?.. Начался? — доцент проворно прыгнул в комнату, и в полуотворенную дверь Валя увидела Игоря, который ногами вперед вылезал из–под печи.
— Это что же? — закричал Ткаченко, подпрыгивая от ярости. — Бег начался!.. Негодяй! Мальчишка! Вы бессовестно лгали мне, что бег отменяется!
— Бег действительно отменяется — для меня, — мрачно ответил Игорь отряхиваясь. — Желающие побегут, а я — нет. Я свалял дурака в этой истории и сыт по горло.
— Голубчик! — старик мгновенно першел от ярости к отчаянию. — Но как же я обойдусь без этого бега? Ведь это должен быть решающий момент… Решающий! Это проверка всей системы!
— Не пойду! — упрямился Игорь. — Я оказался обманщиком в глазах любимой девушки. Я дал себе слово не обманывать ее больше.
Тогда Валя открыла дверь.
— Но любимая девушка просит тебя участвовать в беге, — сказала она.
Игорь как будто не удивился ее присутствию.
— Я выполнил все твои просьбы, Валя. Ты просила меня уйти — я ушел. Тебе еще что–нибудь нужно? — он явно хотел оскорбить ее.
Валя закусила губы.
— У меня последняя просьба к тебе: принять участие в марафоне.
— Да? Ты хочешь этого?
И вдруг Игорь преобразился, проворно схватил кепку. Кинулся к печи, открыл дверцу. Голубое пламя полыхнуло оттуда. Он выхватил из огня какую–то красную палочку, обжег руки, покидал ее с ладони на ладонь и сунул в карман.
— Куда? — крикнул доцент. — Подождите!
Но Игорь уже бежал вниз по лестнице.
Валя секунду постояла и так же стремительно бросилась к выходу. Ткаченко поймал ее за руку.
— Невеста! — крикнул он умоляюще. — Прошу вас: как только будут результаты — порадуйте старика! Центр три сорок шесть двадцать. Не забудьте: три сорок шесть двадцать!
Он еще кричал что–то, но Валя, вырвавшись, уже стучала каблучками где–то далеко внизу.
17
Давным–давно, сделав круг по стадиону, исчезла в далеком лесу цветная цепочка марафонцев. Дорожки заняли бегуны на короткие дистанции, прыгуны, метатели копий и дисков. Потом и они ушли, и начались приготовления к футбольному матчу. Кое–кто из публики спустился вниз, другие сидели на местах, стойко выдерживая лучи палящего солнца. И вдруг Колю Казакова, меланхолически стоявшего в проходе, кто–то схватил за руку. Он обернулся.
— Надеждин, ты? Это такая низость! Слов нехватает!
— Слов не нужно. Организуй старт.
Коля с печальной усмешкой кивнул на часы.
— Сорок восемь минут, — сказал он.
— Догоню! — упрямо сказал Игорь.
Коля пожал плечами и побежал разыскивать судей. Несколько минут спустя он не спеша вернулся.
— Не выходит! — еще издали крикнул он. — Не хотят считать опоздания. Говорят — пусть бежит, если хочет, как будто бы стартовал вместе со всеми.
Конечно, со спортивной точки зрения это было издевательство. Все понимали, что можно выиграть в таком соревновании пятнадцать, самое большее двадцать минут, во никак не целый час. Но Игорь сказал:
— Давайте старт!
Рупор откашлялся и сказал отчетливым басом на весь стадион:
— Внимание! — и еще раз, на октаву выше: — Внимание! Сейчас берет старт на марафонскую дистанцию мировой рекордсмен в беге на все дистанции Игорь Надеждин. Опоздание не засчитано.
Судьи даже не захотели выйти на старт. Коля выбежал один с флажком и секундомером, и Игорь, не останавливаясь, прошел белую черту старта.
Зрители встретили его жидкими хлопками. Не все заметили его выход, большинство было удивлено — что это за старт с опозданием на пятьдесят девять минут? И что значит «опоздание не засчитано»?
В полном одиночестве Игорь сделал круг по пустому стадиону и скрылся в воротах. «Сумасшествие! — сказал кто–то. — Чистое сумасшествие».
Игорь чувствовал себя отлично. Ноги сами собой мелькали, лихо выскакивая из–под туловища, и руки двигались, как поршни. Свежий ветер обдувал его. Скрылись последние дачи, и по обеим сторонам дороги замелькали кудрявые березы. Оглянувшись на холме, Игорь в последний раз увидел вдалеке под горой правильный овал стадиона и сотни тысяч муравьев на трибунах.
Широкая и длинная асфальтовая дорога вела его по полям и перелескам. Голубая лента ее взбиралась на пологие холмы, пропадала за гребнем, вновь появлялась на следующем и дальше блестела изломанной линеечкой. Игорь видел ее, может быть, на десять километров вперед. Дорога была пустынна. Редкие машины, гудя, обгоняли его.
Проходили минуты. Холм оменялся холмом, и Игоря начала тревожить пустота асфальтовой ленты. Почему он не видит никого? Почему не догоняет? Должен ли он уже догонять? Игорь попытался сосчитать.
Если он опоздал на час и лучшие бегуны прошли за это время семнадцать километров, а худшие, скажем, — четырнадцать, — с какой же скоростью он идет?
Но внимание Игоря было слишком занято, и он несумел решить эту арифметическую задачу на бегу. Тем не менее, кажется, цифры были таковы, что победа его была сомнительна, почти невозможна. Тогда Игорь остановился, вынул из кармана трусов деревянную коробочку, похожую на фонарь, и перевел указатель с семерки — на девятку.
«Потом посчитаемся, — сказал он себе. — буду жать до последнего».
18
По свисту ветра в ушах Игорь почувствовал, как прибавилась скорость. Придорожные кусты начали сливаться в зеленые мазки… Встречные люди появлялись и исчезали, мелькали, как телеграфные столбы в окне вагона. Даже машины не очень уверенно обгоняли Игоря, а тяжело груженную полутонку он сам обогнал у въезда в деревню.
За деревней контролер указал ему на проселок. Игорь знал дистанцию — он прошел двадцать километров. Но, пролетая мимо контролера, Игорь не успел спросить, давно ли прошли остальные. Впрочем, вскоре он увидел мелькающие в колосьях цветные майки. По проселку бежать было труднее — при скорости Игоря очень сложно было следить за кочками и поворотами, приноравливать бег к ухабам полевой дороги. Игорь спотыкался; не раз его, как разогнавшуюся машину, заносило в рожь.
Все ближе и ближе яркие майки. Вот проносится Игорь мимо коренастого плотного китайца, отставшего от долговязых стайеров… Какой–то европеец,… негр, потом кто–то из наших — Вася Коротков, кажется.
Густое облако пыли тянулось за Игорем. Соперники один за другим скрывашись в дымовой завесе, кашляя и глотая горькую пыль. А Игорь все шел и шел ровным, механическим шагом.
Маршрут вновь выводил его на шоссе. Тут–то он развернется во–всю, покажет все свои возможности, всю свою силу!.. И вдруг…
Холодный пот проступил на лбу Игоря. Он сбавил ход… Пробежал несколько шагов… Остановился… Ему казалось, словно он просыпается, словно все эти кусты, придорожные катмни, канавы, соперники, затянутые прежде розовой дымкой, вдруг проявились, только теперь приобрели настоящую форму и вес.
Игорь почувствовал себя разбитым, совершенно бессильным и беспомощным. У него дух захватило от ужаса — впереди двенадцать километров! Пробежать это расстояние и то казалось подвигом для Игоря в таком состоянии, но пробежать эти двенадцать километров, обгоняя чемпионов, было немыслимо. И он стоял, растерявшись, а бегуны тянулись мимо него один за другим.
«Попробовать разве?» спросил Игорь себя и пробежал несколько шагов… Быстрее… Еще быстрее… Так же внезапно, как ушла, сила вновь вернулась к нему. Вновь кусты, камни и соперники затянулись красноватым туманом, и ноги Игоря сами собой уверенно двинулись по шоссе.
Сколько времени потерял он с этим перебоем? Скорее нужно, скорее!
Снова за Игорем тянулась пыль и в клубах ее тонули кашляющие бегуны. Игорь шел в невиданном, небывалом темпе — девять движений, девять шагов в секунду. Контролер, стоявший на повороте, не поверил своим глазам, увидя бегуна, котоый шел марафонскую дистанцию быстрее, чем лучшие спринтеры проходят сто метров. И тем не менее, чтобы выиграть дистанцию, нужно было еще усилить темп.
Игорь остановил себя не сразу. И, вновь вынув из кармана деревянную коробку, перевел указатель на десятку.
Ему показалось, что скорость затметно увеличилась. Или дорога пошла под гору, или шаги стали крупнее, главная масса соперников осталась позади. Теперь Игорь обходил самых лучших, но и они не сумели оказать заметного сопротивления.
В семи километрах от финиша знакомый контролер крикнул Игорю:
— Впереди трое! Прибавьте шагу!
Но, как назло, маршрут шел извилистой лесной тропинкой, и Игорь должен был притормаживать сам себя, чтобы не разбиться о деревья. Он никого не сумел обогнать в лесу и, только выйдя на опушку, увидел довольно далеко впереди себя троих лидеров бега.
19
Теперь прямая и широкая дорога шла прямо к стадиону. Уже виднелся внизу зеленый эллипс, усаженный черными точками зрителей.
Трое были впереди Игоря. Ближе к нему — рослый негр, а дальше, почти на полпути к стадиону, очень близко друг к другу шли трехцветный француз и бывший чемпион Советского Союза Анатолий Голубев.
Игорь пустился вниз по дороге на полной скорости. Но и лидеры, щедро тратя силы на последних километрах, быстро приближались к стадиону. Теперь негр почти поровнялся с Голубевым. Голубев рванулся вперед, и оба они обошли француза.
Игорь прикинул наглаз расстояние до стадиона, сравнил с разрывом между собой и лидерами и, снова, в третий раз, вынув коробку, перевел рычажок на полделения… И, подумав, еще на полделения, так что стрелка стала против одиннадцати.
Он упорно смотрел под ноги, и дорога желтой лентой стремительно текла ему под колени. Ноги мелькали так быстро — трудно было понять, которая впереди. На второй минуте сбоку прошла цветная тень: Игорь обошел француза. Ему трудно было дышать, ветер набивался в глотку, и, закинув голову, Игорь жадно глотал воздух. Опять мелькнули сбоку яркие майки: негр и Голубев… Желтая лента… Зеленая полоса впереди… Канава… Прыжок! И с судорожно поджатой ногой Игорь летит кувырком, обдирая локти, колени, лицо.
Он разбился так, как только может разбиться человек, упавший на каменистую дорогу с поезда, идущего со скоростью сорока километров в час. На нем живого места не было. И только приближение Голубева заставило Игоря вскочить на ноги и, скрипя зубами от боли, прихрамывая продолжать бег. Он опять почувствовал себя больным и разбитым.
Дорога уже не стелилась под ноги полосатым ковриком, на ней появились отдельные камни и колеи.
Игорь снова сунул руку в карман, уколол обо что–то палец, нащупал деревянный футляр, потянул и вытащил щепки и металлические бляшки. Коробка была разбита вдребезги — на футляре висели только оборванные проволочки и осколки стекла.
Игорь отшвырнул ненужную коробку и крупными шагами бросился догонять плечистого Голубева.
Экс–чемпион все еще шел ровным, неторопливым шагом бегуна, идущего сорок второй километр. Игорь быстро обогнал его. Голубев узнал Человека–Ракету и не стал менять темп. Финишировать было слишком рано, а с Человеком–Ракетой соревноваться бесполезно.
Метров триста, которые отделяли Игоря от ворот стадиона, он пробежал с максимальной скоростью и оторвался от Голубева на полсотни метров. На большее нехватило сил. У Игоря захватило дыхание, кровь ударила в виски. Он сбился с темпа, пошел неровными, захлебывающимися рывками, и Голубев, перейдя на бурный финиш, стал его догонять. Теперь Игорь понял, что чувствовали все те чемпионы, которых он оставлял за собой. Обидное и злое бессилие росло по мере того, как уменьшалось расстояние между ним и Голубевым. Опытный бегун вкладывал все силы, скопленные для финиша, а у Игоря не было ни сил, ни дыхания — ничего, кроме тупой боли.
Прямая… Последний полукруг… Топот ног Голубева все слышнее. Слышно дыхание его. Оно обжигает плечо Игоря… Голубев пытается обойти его. Но Игорь делает рывок… Еще усилие… Еще!.. Последняя прямая. Опять Голубев выходит из–за спины, становится рядом, энергично работает руками… Прямая дорожка с белыми лентами ведет к финишу. Игорь видит ленточку, и судей, и огромные часы позади них. Десятки тысяч поднявшихся с места зрителей надвигаются на него. Но вперед выходит Голубев — его левый локоть и левое плечо заслоняют стадион… Уже не видно финиша! За широкой спиной экс–чемпиона, и только одна девушка, девушка в белом платье, плывет навстречу Игорю. Губы ее раскрыты, руки охватили голову. Она зовет его… Это Валя.
Игорь бросается к ней… И ленточка финиша падает к его ногам.
Голубев оказался на корпус позади.

20
Добравшись до скамьи раздевалки, Игорь опустился на нее почти без сознания. Приветственные крики за дверью то вздымались до оглушительного трезвона, то снижались до полушопота. Комната плавала в зеленых волнах. Игоря тошнило от качки, в горле стоял комок, и никак нельзя было его проглотить.
Коля Казаков принес ему воды, и Игорь медленно, еле шевеля руками, стал раздеваться. Ему самому стало страшно — под коленями, под локтями, подмышками были натерты красные пятна. Ступни с носками и стельками превратились в сплошной запекшийся сгусток крови.
Казаков приоткрыл дверь, чтобы послать за врачом, и яростные вопли хлынули в комнату.
— Человека–Ракету! — кричала толпа. — Человека–Ракету!
— Товарищ Надеждин болен! Прошу разойтись! — крикнул Коля, но его голос утонул в море приветствий.
Но вот в дверную щель протиснулась Валя. Вид у нее был необыкновенный — волосы растрепаны, один рукав оторван. Игорь через силу ульбнулся ей навстречу:
— Я выполнил твою последнюю просьбу, Валечка.
Валя не расслышала. Она вздернула оторванный рукав и сказала сердито:
— Беснуются! Поклонники твои! Я говорю — жена, а мне кричат: «Знаем мы этих жен!»
Игорю хотелось спросить, всерьез ли Валя назвала себя его женой или только чтобы пройти к нему, но девушка не расположена была разговаривать.
— Поехали! — сказала она. — Коля, помоги пройти.
Казаков снова попробовал открыть дверь. Впустив на секунду восторженный рев, он тотчас захлопнул ее, прищемив просунутый в щель букет.
— Придется через кладовую, — сказал он. Игорь нашел в себе откуда–то силы, чтобы встать ноги и итти. Спрашивать он уже не мог.
Коля повел их какими–то лестничками и чердаками, где плесневели и покрывались мохнатой пылью сломанные брусья, оборванные кони, клубки веревок от сеток, боксерские перчатки, которые когда–то нокаутировали чемпионов, и мячи, побывавшие в воротах сильнейших команд мира. Коля пренебрежительно отшвыривал ногами эти реликвии. За ним спешила Валя, гневно поддергивая оторванный рукав, а Игорь замыкал шествие, занятый непослушными ступнями и коленями.
Наконец Коля распахнул какую–то дверку, и, выйдя на свежий воздух, они услышали издалека крики восхищенных болельщиков, требовавших Человека–Ракету во что бы то ни стало, живого или мертвого.
Уже сидя в машине, Игорь спросил Валю:
— Куда ты меня везешь?
Валя помедлила с ответом.
— Я звонила Михаилу Прокофьевичу, чтобы сообщить о твоей победе, — наконец проговорила она. — Он просил привезти тебя. Ему нехорошо; и надо спеши потому что доктор говорит… доктор говорит… — Валя всхлипнула.
21
Проводив Валю, Ткаченко в задумчивости остановился на пороге своей взбудораженной комнаты и прислушался к монотонному гудению печи. Звук не понравился ему. Кряхтя, он опустился на колени и полез под печь.
— Плоскогубцы надо, — сказал он себе. — Где–то были плоскогубцы.
Он посмотрел под кровать, опрокинул штатив с пробирками, кинулся вытирать, уронил большой сверток, и аптекарские пакетики веером разлетелись по полу. Старик схватился за голову.
— Порядочек у меня! — воскликнул он. — Ну вот рама. К чему здесь рама? Ах да, это в прошлом году я принес…
Он кликнул соседку, и вдвоем они вытащили раму на лестницу. Потом соседка решила расколоть ее на дрова. А доцент стоял рядом и давал советы, как держатть топор. Минут двадцать они провозились на лестнице. Соседка первая заметила, что пахнет гарью.
— Это озон, — возражал старик, — от электричества…
Он неторопливо возвратился в квартиру, открыл дверь в свою комнату и отшатнулся в ужасе.

С яркий свет струился из–под печи; проворные синие огоньки бежали по листкам записей и журналов; ровным светом горел спирт из треснувшей бутыли, разливаясь тихим сиянием по пианино.
Вдруг с треском раскрылась печь, плеснув струей огня. Раскаленная докрасна дверца повалилась на диван. Зашипела загорающаяся кожа. Разом вспыхнули занавески. Пламя взметнулось и забушевало по всей комнате, выталкивая круги черного дыма в коридор.
— Записки, мои записки! — воскликнул старик и, оттолкнув соседку, бросился в огонь.
* * *
И вот он лежит на чересчур длинной больничной койке, маленький, сморщенный, со смешными желтыми кустиками опаленных усов. Темные несмываемые пятна на щеках. Кожу натянули острые скулы. Под ввалившимися глазами — глубокая тень; кажется, что она растет, заливает лицо, весь он погружается в черную тень — маленький старичок и великий ученый.
Игорю очень стыдно, но он плачет, не скрывая слез. Ему так жалко этого старика, утром еще веселого, энергичного, а сейчас такого беспомощного! Может быть, Игорю жалко самого себя. Михаил Прокофьевич был его единственным другом — другом и руководителем.
— Надеждин… — шепчет Ткаченко, шевеля сморщенными веками.
— Я здесь, Михаил Прокофьевич. Вам лучше? — Игорь нагибается над подушкой.
— Ну как?
Игорь не сразу понимает вопрос.
— Ах, бег? Все в порядке: я выиграл.
— Хорошо! — шепчет ученый и, медленно высвободив руку из–под одеяла, передает Игорю обожженную, покоробленную тетрадь: — Возьми! Тут все подробно…
— Но зачем мне! — протестует Игорь. — Вы скоро встанете. Я помогу вам восстановить всё.
— Возьми!.. — настаивает Ткаченко.
Спорить и доказывать ему трудно.
Игорь берет тетрадь, и на пол вылетают из покоробленной обложки обрывки обгорелой бумаги. Игорь поспешно захлопывает тетрадь, но легкие, как тень, кусочки пепла долго еще кружатся в воздухе, медленно оседая траурной пылью на подушку и желтое лицо.
Старик вздыхает глубоко. Кажется, никогда не кончится этот вздох. Валя с ужасом глядит на бессмысленные глаза Ткаченко и тянет Игоря за руку.
— Это был мой единственный друг, — говорит Игорь. — Теперь у меня никого нет…
— А я? — спрашивает Валя.
22
Однажды вечером. Несколько дней спустя, они сидели на скрипучем крылечке, во дворике, поросшем травой. Солнце заходило в дымке позади заводских труб, и небо было охвачено пожаром; обрывки облаков, вспыхивая, взметались малиновыми языками; ровно светились тяжелые, лиловые, раскаленные изнутри тучи, и окна горели сусальным золотом.
В первый раз за все эти дни — то печальные, то хлопотливые — они остались одни. Так хорошо было сидеть молча, любоваться закатом и быть беспредельно, бессовестно счастливыми, зная, что они рядом и любимы друг другом!
Валя вспомнила, как несчастна была она всего неделю назад, когда Игорь ушел с непонятными словами об обмане.
— Почему ты обманывал меня и скрывал все… И ушел, ничего не объяснив? Разве так делают?
Игорь тяжело вздохнул и сдвинул брови.
— Он хотел этого. Я дал ему слово ничего не говорить. Но теперь ты имеешь право знать. Я расскажу тебе все, с самого начала, с нашей первой встречи с ним… Помнишь, я звал тебя в театр на «Три сестры»? Но ты отказалась, и у меня остался лишний билет в кармане. Я так и хотел оставить пустое место рядом с собой, а потом думаю: «Нет, забыть ее надо!» — и у самого входа продал билет маленькому такому, усатому старику в каракулевой шапке.
Это и был Михаил Прокофьевич. И он ужасно раздражал меня: расселся на твоем месте, вертелся на нем, приставалл ко мне с разговорами о Чехове, о медицине, о науке вообще. И, только чтобы отвязаться от него, я сказал:
«Что ваша наука! Разве в ней счастье?»
«В наше время, — сказал он обиженно, — студенты уважали науку, верили в нее, жертвовали собой, производили над собой опыты».
«Ну что ж, — говорю, — ничего особенного! Если нужно, я всегда соглашусь на эксперимент. И не только я, а любой студент из нашего института».
Вот он и поймал меня на слове. Он предложил мне работать с ним и проверять его открытие. Я, конечно, согласился с большим интересом, и лыжный кросс, который я выиграл на другой день, был первым опытом…
Теперь о самой сути открытия… Тебе не надоест, Валя? Тут нужно говорить о физиологии.
Валя улыбнулась.
— Не эазнавайтесь, дорогой. Я такой же медик, как, и вы.
— Да, — вздохнул Игорь, — коллега! Михатил Прокофьевич всегда называл меня коллегой. Ну, слушайте, коллега… С чего начать? Начнем с самого начала.
23
— Как работает наше тело? Что происходит в нем, чтобы оно могло вставать, садиться, подымать руки и ноги? Скажем, хочу толкнуть тебя. Чтобы сделать это, мне нужно включить в работу целый ряд мышц головы, шеи, торса, руки. Я не думаю о том, какие именно мышцы должны работать, хотя и сдал анатомию на пятерку и знал перед экзаменом латинские названия всех четырехсот мышц и двухсот восемнадцати костей. Прежде чем я разберусь, ты убежишь от меня. Мое сознание приказывает кратко: «Толкни Валю», и двигательные центры головного мозга, знающие анатомию лучше меня, сами рассылают телеграммы в нужные мышцы: одним — сократиться, другим — расслабиться, чтобы я мог поднять руку и толкнуть тебя.
Валя ударила Игоря по протянутой руке:
— Ведите себя прилично, товарищ профессор! У нас лекция по физиологии. На лекциях не толкаются.
Игорь убрал руку и продолжал:
— Стало быть, двигательные центры голового мозга рассылают телеграммы. Они возбуждают окончание нерва, возбужденный нерв становится электроотрицательным, и по всей длине нерва прокатывается электрическая волна — нервный импульс. Это не электрический ток, потому что ток распространяется со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, а нервный импульс человека делает не более ста двадцати метров в секунду. Это какое–то иное, электрическое и химическое явление. Но, как бы то не было, нервный импульс доходит до нужной мышцы, мышца тоже возбуждается, и по ней проходит электрическая волна, очень похожая на нервный импульс, только более медленная. Затем в возбужденной мышце начинается химическая реакция. Реакция эта и является источником энергии для мышцы, точно так же как горение угля — источник энергии для паровой машины. Какой же уголь горит в наших мышцах?
— Гликоген, — быстро подсказала Валя, — вещество из группы полисахаридов — сложных сахаров.
Игорь важно кивнул головой.
— Есть и другие вещества, но гликоген — из них основное. В возбужденной мышце он проходит через целую цепь реакций и окисляется в молочную кислоту, выделяи при этом энергию. Как и в паровой машине, большая часть энергии — от семидесяти пяти до ста процентов расходуется впустую, идет на нагревание мышцы, но остальная часть производит полезную работу — сокращает мышечные волокна. Каким образом энергия сокращает мышечные волокна, мы с тобой не знаем и не знал покойный Михаил Прокофьевич.
— Но есть три теории… — поспешила высказаться Валя.
— То же самое и я говорил Михаилу Прокофьевичу. Есть три теории: повышения осмотического давления, набухания мышечного волокна и поверхностного натяжения. «Все это поверхностно и с натяжкой, — оборвал он меня. — Тридцать три теории — и ни одного факта. Обычное явление в физиологии, где слово «доказано“ употребляется гораздо реже, чем «очевидно“, «возможно“, «допустимо“, «можно предполагать“. Гликоген распадается, выделяется тепло, и мышца сокращается — это действительный факт, и о нем стоит говорить»… Тебе не скучно? — прервал он себя, заметив, что Валя встала.
— Нет, нет, продолжай, пожалуйста! Просто я устала сидеть.
— Тогда я задам тебе один вопрос: а что такое эта самая усталость?
24
— Что такое усталость? Как это перевести на физиологический язык?
— Гликогена не хватает? — предположила Валя.
— Отчасти — да. В организме имеется около четырехсот граммов гликогена, причем больше половины в печени — основном топливном складе человека. Этого количества хватает часа на три усиленной работы — такой, например, как ходьба на лыжах. Потом уже, израсходовав гликоген, человек начинает работать за счет жиров. Но если бежать что есть силы; можно устать за одну минуту, и ты знаешь, конечно, что даже у людей, умерших от усталости, в мышцах все–таки находят гликоген. В чем тут дело?
Валя задумалась.
— Ах да! — вспомнила она. — Теория засорения. Один из продуктов распада гликогена — молочная кислота — накапливается в мышцах и засоряет их.
— Отчасти и это верно. Но молочная кислота, как известно, рассасывается. Часть ее — не больше одной четверти — окисляется кислородом и превращается в воду и углекислый газ. При этой реакции также выделяется тепло, за счет которого остальные три четверти молочной кислоты опять превращаются в гликоген, кислород поступает из крови, углекислый газ уходит в кровь. Подача и уборка этих веществ производятся, так сказать, автоматически. При усиленной работе выделяется много молочной кислоты, от этого в крови появляется большое количество углегислого газа. Углекислый газ, в свою очередь, раздражает нервные клетки, управляющие сердцем и дыханием, сердце начинает работать быстрее, чтобы подать больше кислорода в мышцы для окисления молочной кислоты. Число сокращений сердца, то есть пульс, может дойти иногда до двухсот семидесяти вместо нормальных шестидесяти — восьмидесяти ударов в минуту. Конечно, сердце не может выдержать долго такой работы… Но что, если я попрошу тебя поднять руку? Поднять и держать и считать до трехсот?
Валя послушно подняла руку и начала медленно считать. Когда она досчитала до ста, ей захотелось опустить руку. После двухсот плечи начало невыносимо ломить, но Валя мужественно выдержала испытание до конца и с большим облегчением опустила руку.
— Почему же ты теперь устала? — спросил Игорь. — Гликоген не расходовался, молочная кислота не накапливалась, сердце не усиливало работы, а ты все–таки устала. В чем дело?
И вот спрашивается: что же является причиной усталости, мышцы или нервы, сердце или легкие, гликоген или молочная кислота?
Оказывается, истина лежит посредине. Человеческий организм — очень сложное и хитросплетенное сооружение. Здесь нельзя отвечать механически: причиной болезни является микроб, причиной усталости — то–то. Действует все вместе взятое. В некоторых случаях, при очень интенсивной работе при беге до ста метров, например, — наибольшее влияние, очевидно, имеют торможение в центральной нервной системе, устающей от однообразной работы, и накопление молочной кислоты, при работе средней интенсивности раньше всего утомляется сердце не успевающее снабжать мышцы кислородом. При мало интенсивной работе — беге на десять километров, ходьбе на лыжах — молочная кислота выделяется медленнее, сердце бьется спокойнее, и работоспособность лимитируется запасами гликогена. При совсем спокойной работе нервная система устает раньше мышц…
И теперь в одной фразе, — сказал Игорь торжественным тоном, — все открытие Михаила Прокофьевича: он победил усталость.
Как до сих пор боролись с усталостью? Адреналином, кофеином, фенамином, кола–шоколадом, даже просто водкой. Все эти средства будоражат нервную систему, заставляют ее посвылать тревожные телеграмы, вынуждают мышцы расходовать припрятаные в них резервы гликогена — запасы, сберегаемые осторожными мышцами на случай опасности, те самые силы, которые «нивесть откуда берутся» при сильном испуге или гневе. Поэтому, когда проходит действие всех этих возбудителей, человек чувствует себя еще более усталым и разбитым. Усиленная работа совершалась за счет его здоровья.
Но Михаил Прокофьевич победил усталость не за счет нервов и не за счет гликогена.
25
— В тот вечер, — продолжал Игорь, — когда я впервые пришел к Михаилу Прокофьевичу, он угощал меня холостяцким обедом своего изготовления. Валя, это было ужасно! Соленый–соленый бульон, пережаренное мясо, похожее на пучок проволоки. На всю жизнь я зарекся быть старым холостяком. А к чаю были самодельные конфеты — какие–то красные, похожие на сургуч палочки. Я откусил кусочек. Конфета была приторная, как сахарин, скрипела на зубах, а когда я разгрыз ее. Она словно перец, обожгла мне рот. Неудобно было выплюнуть. И я проглотил. Спустя минут двадцать мне показалось, будто я пьян. Мир стал теплым, розоватым, звонким. Я почувствовал необычайную силу в мускулах, как, будто бы сам я вырос.
«Что это?» спросил я.
«Это и есть мое открытие, — ответил старик. — В честь моей родины я назвал это вещество «украинолом“».
— Эти палочки ты взял с собой, когда поехал на марафонский бег? — вспомнила Валя.
— Совершенно верно. Они пропекались в инфракрасных лучах в специальной электрической печи. Второпях я схватил еще не совсем готовую палочку, и во время бега у меня получился перебой. Украинол перестал поступатв в мышцы, и вдруг, не надолго, я стал обыкновенным человеком…
— Я не совсем понимаю, — прервала Валя, — как действует этот украинол.
— Он заменяет гликоген. Ты съедаешь палочку, — и через двадцать минут кровь доставляет украинол из тонких кишок в мускулы. Когда ты хочешь совершить движение и нервный импульс возбуждает мышцу, электрическая волна возбуждения ионизирует украинол, как бы взводит курок. Теперь украинол готов к распаду, а сигнал для распада, «выстрел», дает прибор, названный Михаилом Прокофьевичем «нейрорезонатором».
Он похож на деревянный портсигар с большим круглым фонарем. Фонарь мигает лиловатым светом, в этом свете есть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают украинол. Украинол распадается, выделяя энергию, а энергия сокращает мускулы на основании тридцати трех теорий. Таким образом, электричество, затраченное на приготовление украинола, превращается в биологическую энергию — в работу мускулатуры.
Валя, помнишь ли мой второй лыжный кросс, когда я сломал лыжу на пеньке? Тогда нейрорезонатор я оставил в кармане пиджака, который отдал дяде Наде. Мои мышцы были полны украинола, я чувствовал огромную силу, мне казалось, что я могу деревья выворачивать с корнем, но без нейрорезонатора украинол не работал. И я шел на своих естественных, гликогеновых силах, именно так, как идет человек, второй раз в жизни вставший на лыжи.
Та же история случилась и на марафоне. За восемьсот метров до финиша я упал и разбил нейрорезонатор. Мне пришлось финишировать без помощи украинола, но хотя Голубев, конечно, лучший спортсмен, чем я, выиграть удалось мне, потому что он прошел сорок два километра и устал, а за меня шел украинол.
— Но я не понимаю, — сказала Валя, — какая разница? Почему, работая на гликогене, мышцы устают, а на украиноле — нет? И почему вообще нельзя вместо всей этой премудрости просто съесть двести граммов сахару, чтобы пополнить запасы гликогена?
Но Игорь хорошо помнил уроки Ткаченко и мог ответить не задумавшись:
— Видишь ли, Валечка, украинол имеет ряд преимуществ. Во–первых, при распаде украинола выделяется вчетверо больше тепла, чем при распаде гликогена. Во–вторых, продуктом распада гликогена является утомляющая молочная кислота, а продуктами распада украинола — фосфорная кислота и гликоген, поступающие в пользу мышц; это не случайная удача. Михаил Прокофьевич открыл украинол, взяв гликоген исходным продуктом. В результате, поскольку нет молочной кислоты, постольку не нужен кислород для ее окисления; нет углекислого газа в крови — следовательно, сердце работает нормально и не переутомляется. Таким образом, гликотен сохраняется, молочной кислоты нет, сердце работает спокойно, и никакой усталости быть не может.
26
— Нервная система? — напомнила Валя.
— А нервная система дублируется нейрорезонатором. И когда нервная система устает, нейрорезонатор подает механически пять сигналов в секунду. Это означает пять сокращений мышцы, пять движений, пять шагов в первую секунду и пять шагов в секунду через час. Это темп хорошего спринтера. Ты видала, как я шел на длинные дистанции? На старте, в середине и на финише одинаково. Пять шагов в секунду в темпе нейрорезонатора.
— Пять шагов! — воскликнула Валя. — Это чудовищно!
— На сто метров этого оказалось мало. Спринтеры бегают быстрее. Помнишь, как у меня не получалась стометровка? С темпом в пять шагов я проходил ее за одиннадцать и четыре десятых секунды. И пришлось перестроить нейрорезонатор на семь сигналов в секунду, чтобы я смог побить рекорд. После этого мы с Михаилом Прокофьевичем сделали передвижной рычажок для изменения темпа. Я начал марафонский бег на семи движениях в секунду, потом перевел на девять, потом рискнул на десять и наконец, на одиннадцать.
— А почему одиннадцать? — спросила Валя. — Почему не сто одиннадцать и не тысяча сто одиннадцать? Чтобы обгонять самолеты?
— Коллега, — строго ответил Игорь, — вы задаете немедицинские вопросы… Разве ты не поняла, в чем состоят возможности украинола? Он поставляет энергию для сокращения мышцы. А процессы сокращения и расслабления мышцы, нервные сигналы в мозг о том, что сокращение окончено, и приказ из мозга начинать следующее сокращение — все это организм выполняет сам, в своих собственных ритмах; если бы украинол работал в колбе, в лаборатории, конечно, можно было бы его взрывать тысячу раз в секунду. Но поскольку он связан с организмом, он должен действовать в лад с телом человека.
А у человеческого тела есть своеобразные пределы. Ты никогда не обращала внимания, почему все мировые рекордсмены показывают один и тот же результат в беге на сто метров — десять и три десятых. Десять и две десятых секунды? Почему десять человек в мире проходят эту дистанцию, которая слишком коротка, чтобы усталость играла в ней роль. За десять и три десятых секунды и никто за девять. Никто за восемь? Почему никто не может сделать больше пяти с половиной шагов в секунду, поставить на бумаге больше восьми — десяти точек. Взять на рояле больше такого же количества аккордов в секунду? Наука еще не дала окончательного ответа на этот вопрос. Не буду пересказывать тебе также подсчеты и теории Михаила Прокофьевича. Но факт остается фактом. Человек физиологически неспособен делать больше пяти — десяти однообразных движений в секунду: ноги, например, — пять, кисти рук — десять. И украинол должен работать в том же темпе, иначе его действие попадет в интервал невозбудимости мышц, координация движении будет нарушена, получится пропуск шага. Иначе говоря, судорога или падедие на полном ходу, что и случилось со мной, когда я, поставил рычажок на одиннадцать движений в секунду, — темп, который не могло принять мое тело.
Я могу только повторить: задача украинола не в том, чтобы придавать сверхчеловеческие силы, — он должен только уничтожать усталость, не давать телу снижать присущий ему максимальный темп в течение долгих часов.
Игорь помолчал.
— Вот и все в общих чертах, Валечка. Я представляю, что у тебя, наверное, множество вопросов. Ты спросишь, как отводился излишек теплоты, и почему нейрорезонатор не нарушал координацию, и о вредном влиянии ультрафиолетовых лучей, и о многом другом. Я знаю, что Михаил Прокофьевич учитывал все это. В палочку украинола были добавлены какие–то реактивы, а в нейрорезонаторе имелись автоматические регуляторы. Но я не знаю всех подробностей, и, боюсь, никто их не узнает.
27
— Нет, не об этом я хотела спросить, — возразила Валя. — Скажи мне, Игорь, имел ты право скрывать от всех, что пользуешься украинолом, и стать чемпионом?
Игорь нахмурился.
— Этот же самый вопрос, слово в слово, я задавал Михаилу Прокофьевичу и самому себе каждый день в течение этого лета. Первое слово, которое он сказал мне было «риск», второе — «молчание». Я нисколько не удивился. Мне показалось естественным, что старик не хочет сообщать о своих опытах, не зная еще, что из них выйдет. Ведь эксперимент только начинался. Но как–то в разговоре Михаил Прокофьевич объяснил мне, что главное даже не в этом. Он считает свое изобретение военным секретом. Работа над украинолом была начата во время войны, он готовил его для армии и считал необходимым держать свое открытие в тайне, как новый вид оружия. Тогда он опять заставил меня дать торжественную клятву ни под каким видом никому не упоминать об украиноле. «Считайте себя на секретной работе в номерной лаборатории», сказал он.
Выходя на первый кросс, я совершенно не думал о славе или о победах. Я шел на рискованный опыт, я думал об опасности. Так чувствуют себя новички перед первым прыжком с парашютом или летчики–испытатели, садясь в новую машину.
Если помнишь, за первым успехом последовала неудача. Нужно было ставить новые опыты. Началось лето, я занялся бегом… Я не очень хорошо знал спортивные обычаи и просто растерялся, когда после первого рекорда на меня свалились и банкет, и денежная премия, и приз — бронзовый кубок с пловцом на крышке — все сразу. Я отговаривался, как мог, плел все, что приходило в олову: что у меня нет спортивных заслуг, что я человек особого склада (и надо же выдумать такое!)… Все только аплодировали моей скромности. Деньги я просто не взял, но бронзового пловца мне принесли на квартиру.
Тут мое двойстйенное и ложное положение встало передо мной во весь рост. И я попросил у Михаила Прокофьевича разрешения сообщить в комитет физкультуры, не упоминая об украиноле, о том, что мои рекорды не являются спортивными достижениями и зависят от других причин.
Но он и слышать не хотел: «Как можно сообщать! Все потребуют объяснений, начнут интересоваться, следить за нами, помешают хранить секрет. Опыты только начинаются. Средство новое, непроверенное, может быть оно противопоказано в каких–нибудь обстоятельствах. Мы не знаем, как будут вести себя ваши мышцы и нервы после десятка или сотни соревнований. Мы должны твердо знать, можно ли давать украинол раз в жизни или всю жизнь, каждый день. Что вас смущает? Приз? Отошлите вашего пловца тому, кто пришел следом за вами».
Попробовала бы ты убедить старика! Он был влюблен в свои опыты и считал, что ради науки можно пойти на все что угодно.
«Хорошо, — сказал я ему. — я буду бегать, но только не на спортивных соревнованиях. Я буду бегать под вашим наблюдением, вы сами будете регистрировать результаты».
«Мы потеряем на этом год работы, — отвечал мне упрямый старик. — Мне придется проводить все опыты сначала. Снова в лабораторных условиях, доказывать безвредность украинола при длительном употреблении перед научными комиссиями. А сейчас, когда мы закончим нашу с вами работу, я сразу буду иметь официальные, неопровержимые, общеизвесгпые доказательства».
Против этого трудно было спорить. Украинол — открытие мирового значения. Очень хотелось сэкономить год. Можно было поступиться тем, что где–то, кому–то мое поведение покажется неправильным.
Но месяц тому назад зашла речь о регистрации моих рекордов международной спортивной федерацией. Этого уже нельзя было допустить. Советские спортсмены всегда боролись против каких бы то ни было возбудителей. Как же можно было вносить в мировые таблицы мои рекорды, добытые таким сверхвозбудителем, как украинол! Вновь начался у нас спор с Михаилом Прокофьевичем на старую тему.
«Михаил Прокофьевич, — сказал я ему, — в конце концов, надо думать и обо мне. Вы представляете, в каком положении я окажусь, если когда–нибудь открытие будет обнародовано! Я не хочу быть посмешищем на весь мир. Я больше не выступаю».
«Ну что ж, — ответил старик с горькой усмешкой. — 0бидно, конечно, — я разочаровался в вас. Оказалось, я все–таки прав: современные студенты не любят науки. Ради науки можно пожертвовать самолюбием. Но если самолюбие вам дороже — воля ваша. Принуждать вас немогу, не имею права. Я закончу опыты над самим собой. Прощайте».
Я ушел, но через два дня возвратился. Возмушение улеглось, и жизнь показалась пустой и ненужной. Каждый день все это лето я вставал с мыслями об украиноле. Каждый день давал какие–то новые впечатления, переживания, факты, и я нес их Михаилу Прокофьевичу, чтобы обсудить, рассказать все подробнссти, обдумать условия нового опыта, внести в дневник подробности. За эти месяцы я из подопытного кролика превратился в сотрудника. Дело Михатила Прокофьевиоча давно стало и моим делом. Я вел записи, я заведовал печью. Мой уход действительно задерживал работу. Наконец, мне просто скучно было без ворчливого старика, его тесной каморкии, гудящей печи, гирлянд проводов. Я представлял себе, как Михаил Прокофьевич подводит черту под моим дневником, пишет: «опыты не закончены», «не закончены», «не закончены», как с усилием разбирает мои записи о работе сердца (этот отдел я разрабатывал самостоятельно), надкусывает палочку украинола. А можно ли ему принимать украинол? Ведь он старик, у него больное сердце. Открытие может погибнуть с ним.
В современной войне генератлы не ходят в штыки, генералов берегут. Михаил Прокофьевич был генералом науки. Он не имел права ставить опыты над собой. Я вернулся к работе, чтобы довести ее до конца, но на душе у меня было тяжело, и тяжелее всего было скрывать свою тайну от тебя.
И вот, в тот памятный день, когда я пришел звать старика на нашу свадьбу, он сообщил, что седьмого числа, через десять дней, доклад в Академии наук об украиноле. И я должен быть содокладчиком. Я опять подумал о тебе, Валя. Вдруг мне пришло в голову… Извини меня, но когда любишь, опасаешься каждой мелочи… Я подумал, что ты ведь не любила меня, пока я не был чемпионом. Имею ли я право жениться на тебе, ничего не рассказывая! Но Михаил Прокофьевич опять категорически запретил мне. Посвящать тебя в тайну до доклада, и я пришел к тебе. Пришел, чтобы отложить свадьбу под любым предлогом… Сказать, что уезжаю за границу, что хочу дождаться приезда матери. Но когда я посмотрел в твои глаза, я не смог заниматься увертками. И я спросил: «Валя, как бы ты относилась ко мне, если бы оказалось, что я не чемпион?» Ты сказала: «Уйди».
Вот и все. Я рассказал тебе все, что знаю. Может быть, я виноват, суди сама. Но мне кажется, я делал нужное дело, помогал большому открытию, и самое страшное — то, что открытие погибло. Конечно, я расскажу на заседании академии то, что сказал тебе сейчас. Это нужно сделать в патмять Михаила Прокофьевича.
— Нужно не это, — сказала Валя твердо. — Нужно приготовить украинол.
Игорь развел руками:
— Я слишком мало знаю, Валечка. Это невероятноо сложное соединение. Его химическое название занимало три строчки. Я помню только «гексозо» — в начале. А в конце — «теобромин диаминфосфат». Структурная форма была нарисована на двух страницах той тетради, которую передал мне Михаил Прокофьевич. Но тетрадь сгорела… И печь сгорела… И нейрорезонатор сломан… И создатель их замолчал навеки. Что же я смогу сделать один!
Но Валя знала, что возразить.
— Почему один? — сказала она. — А я? Я буду с тобой.
Они сидели с грустными лицами и грустными мыслями, но на самом деле были беспредельно счастливы.
28
Прошло семь лет. Игорь никому не открывал своей тайны. Попрежнему к нему наезжали иностранные корреспонденты и, присочинив от себя втрое, помещали в газетах подвалы о непревзойденном, таинственном, нечеловеческом таланте этого русского самородка, гения беговой дорожки, который, как Демпси, как Морфи, сошел с арены, не изведав поражения.
Прошло семь лет. Семь лет Игорь и Валя складывали обгорелые обрывки, изучали уцелевшие журналы и этикетки, угадывали, пробовали, отчаивались, искали новых путей.
Семь лет прошло. Восстановлена печь, выпечена в инфракрасных лучах сургучеобразная пастила. Заново сконструирован нейрорезонатор. Валя сама опробовала средство, пройдя на лыжах сто двенадцать километров за семь часов, вопрос о промышленном производстве украинола будет разрешен в течение ближайшего года.
Повсеместное применение украинола в производстве совершенно изменит условия работы. Люди забудут, что такое усталость. Проработав положенное время на, заводе, рабочие будут. Чувствовать себя сильными, свежими, бодрыми. По всей вероятности, благодаря отсутствию усталости продолжительность жизни значительно увеличится.
Украинол нужен на всех производствах, где только сохранился однообразный ручной труд. Он нужен каменщикам, землекопам, плотникам, столярам. Он незаменим при работе конвейерной системой, возле автоматических и полуавтоматических станков и при других утомительных работах.
Безусловно, сегодняшние спортсмены не заинтересованы в украиноле, но сейчас трудно представить себе. Какую форму примет спорт после его широкого внедрения в быт. Может быть, будут существовать параллельно две формы спорта: украиноловая и неукраиноловая.
Работа по усовершенствованию украинола и нейрорезонаторов еще впереди. Надо найти решение, как применятъ украинол не только при однообразных, но и при сложных движениях.
Но пока что открытие покойного Михаила Прокофьевича Ткаченко удалось восстановить. Готовясь к широкому опубликованию своих работ, супруги Надеждины просили поместить в печати сообщение об истинной причине успехов Человека–Ракеты.
С их разрешения мы и написали его в форме повести.

Назад: Георгий Гуревич. Погонщики туч
На главную: Предисловие






