Глава 10
ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ
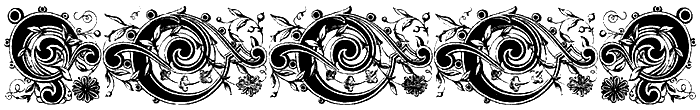
Вздрогнув, старый солдат бросает на нас буравящий взгляд глубоко посаженных глаз. В следующее мгновение пергаментную кожу его лица прорезает улыбка, знакомая до последней черточки, и я понимаю, что баронесса не ошиблась.
Самое интересное, что Видок, по-видимому, ничуть не удивлен. Вскочив на ноги — сильные молодые ноги, — он отвешивает низкий поклон и преувеличенно учтивым тоном произносит:
— Мои извинения, мадам. Ужасно не хотелось вам навязываться.
— Ах, я столько читала о вас в местных газетах, и ни разу у меня не сложилось впечатления, что робость, месье, принадлежит к числу ваших недостатков.
— Возможно, вы правы. — Он склоняется еще ниже. — Но перед лицом столь поразительной проницательности я все-таки теряюсь и не нахожу слов.
— Мадам, — встреваю я, — вы нас простите?
Я отвожу Видока в сторону и наклоняюсь к самому его уху. Ярость бушует во мне, взмывает волной, но наружу выходит лишь приглушенное бормотание.
— Как… как вы…
— Как я узнал, что вы занялись частным сыском? — хмурится он. — Что перебегаете дорогу закону? Да будет вам известно, что это стоило мне двадцати секунд и десяти су. Или мадам баронессе следует нанять привратницу помолчаливее, или вам надо научиться быть более скрытным.
Наверное, это одна из его способностей. Стоит поймать его на неприглядном поступке, как он ухитряется перейти в контратаку.
— Выходит, мне нельзя и носа показать за дверь без вашего разрешения?
— Разумеется, можно, — шепчет он в ответ. — Если хотите кончить, как Леблан.
— Господа, — вмешивается баронесса, — если вы желаете разговаривать sotto voce, полагаю, лучше отправиться ко мне. — Ее щеки слегка розовеют — вероятно, при мысли о возможных последствиях. — Будь я помоложе, мне бы и в голову не пришло приводить домой сразу двух молодых людей. Теперь же я в том возрасте, когда это лишь способствует поддержанию репутации.
Мы стираем с кожи остатки тумана. Видок уже успел аккуратно отпихнуть с дороги кошку баронессы, сама же баронесса, тихонько напевая, ставит на пол свой видавший виды шелковый зонт, и меня опять посещает чувство, будто я уже много лет навещаю ее, и мы сидим все в той же комнате за круглым старым столом, на крестьянских бретонских стульях. Взять, к примеру, то, как баронесса незаметно исчезает в ванной комнате… Разве не с одними только старыми друзьями можно позволить себе такое? И прошу обратить внимание на ее бесшумную поступь, когда она возвращается с таким видом, будто собирается устроить для друзей игру в вист.
Только в руках у нее не карточный столик, а складная скамеечка, обитая синим атласом. Внезапно иллюзия домашней небрежности рассеивается, ибо этот элегантный предмет в нее не вписывается.
Даже сама баронесса не вполне знает, как с ним обращаться. Сперва она собирается установить скамеечку на полу, но передумывает и складывает ее у себя на коленях, прижимая, будто спаниеля.
— Месье Видок, — начинает она, — мне потребовался почти час, чтобы начать доверять доктору Карпантье. Можете ли вы сказать мне что-нибудь, что в вашем случае ускорило бы процесс?
Видок — вероятно, из гордости — все это время пребывает в облике старого солдата, и часть искусственно приобретенных лет остается при нем даже сейчас, когда он подходит к буфету баронессы.
— Мадам, я мог бы заявить, что честен и чист, как слеза, но разве вы мне поверите? Скажу одно. Каждое совершаемое в Париже преступление я считаю преступлением, направленным против себя. Личным оскорблением, вот так! И только когда преступник получает наказание, я считаю свою честь восстановленной.
Он стоит, разглядывая в зеркале свой измененный облик.
— В молодости, — продолжает он, — я провел в тюрьмах даже больше лет, чем заслужил. Со мной, мадам, случилось самое худшее, что только может быть. За одну-единственную случайную неосмотрительность меня наказывали снова и снова. Единственным, что не дало мне погрузиться в пучину отчаяния, была вера — нет, глубокая убежденность, — что я не такой, как эти жалкие отбросы вокруг. Насколько я заслуживал свободы, настолько другие заслуживали быть на моем месте. Я испытывал их, исследовал их натуру. Я понял, что общество сможет жить только тогда, когда они будут от него отделены. Эта вера стала моим спасением — и остается им по сей день.
Актер театра «Одеон», вероятно, насытил бы такую речь всевозможными словесными оборотами и гипертрофированными жестами, он швырнул бы свои слова небу. Видок же произносит все ровным голосом и довольно спокойно, после чего глядит в глаза баронессы, словно она и есть искомая им аудитория и иной ему не нужно.
— Сударыня, — говорит он. — Вы мудро поступаете, строго отмеряя свое доверие. Имея же дело со мной, вы можете смело его инвестировать. И прежде чем закончится этот день, вы получите свои дивиденды.
И все равно она колеблется, хотя маска строгости на ее лице слабеет.
— Кажется, вы упоминали некий предмет, — мурлычет он.
Не получив ответа, он продолжает еще более сладким голосом:
— Предмет, который месье Леблан хотел опознать.
Краткий кивок.
— Вам, случайно, не известно, откуда он взял его, мадам?
Она делает глубокий вдох, а выдыхает судорожно, неровно.
— Он мне так и не рассказал, — наконец произносит она. — Его информатор предпочитал оставаться анонимным.
— Выходит, сам Леблан не знал, кто его информатор?
— Очевидно, не знал.
— И месье Леблан унес этот предмет с собой?
— Нет.
Поразительно наблюдать за этим крупным человеком, за его движениями, ставшими легкими, как дуновение ветра, как шаги рогоносца у ложа страсти.
— И что же он с ним сделал?
— Попросил меня подержать его у себя. До того момента, когда он сможет забрать его. — Она сосредоточенно изучает ногти. — Леблан всегда отличался оптимизмом.
— Следовательно, предмет у вас? — осведомляется Видок.
— Да.
Сдерживаться становится почти не под силу. Губы Видока конвульсивно подергиваются, волнение придает его речи неестественную вычурность.
— Смеем ли мы тешить себя надеждой, что по вашей несказанной милости сподобимся его лицезреть?
Она опускает взгляд и, вздрогнув, подобно пьянице, внезапно выдернутому из алкогольного дурмана, обнаруживает у себя на коленях синюю скамеечку. Ее рука скользит по ножке, пока не наталкивается на препятствие: что-то вроде сверкающей подвязки, сплавленной со скамеечкой, — так, по крайней мере, кажется, пока сухие пальцы баронессы суетливо и поспешно не отсоединяют ее от ножки.
Видок кладет добычу на стол, я подношу снятую с ближайшего канделябра свечу. Теперь, отчетливо вырисовывающийся на фоне красного дерева, перед нами лежит золотой предмет, затертый и в отметинах, с зарубками, вмятинами, местами потускневший.
— Маленький, — слышу я собственный гол ос. — Для браслета чересчур мал.
— А для кольца велик, — добавляет Видок. — То есть для кольца взрослого человека.
Он подносит блестящий ободок поближе к свече. По его губам пробегает улыбка.
— А вот в качестве детского кольца, — провозглашает он, — подойдет как нельзя лучше.
И словно по мановению волшебной палочки, все отметины и вмятины на поверхности кольца обретают свое значение.
— Детское зубное кольцо, — говорю я.
— И стоит изрядно, — заключает Видок, катая кольцо по своей широкой ладони.
Золотистые брови баронессы изгибаются высокими дугами.
— Если вы о том, что кольцо из чистого золота, то вы правы. Однако своей ценностью кольцо прежде всего обязано его первому обладателю.
— Младенцу? — спрашивает он.
— В то время он был младенцем.
— И вы его знали?
— Видела пару раз. Я водила некоторое знакомство с его матерью.
— Она, верно, была весьма обеспеченной особой, если давала ребенку грызть кусок золота.
Баронесса молчит. А когда пауза заканчивается, ее голос звучит по-новому, с налетом таинственности.
— Она и в самом деле была, как вы выражаетесь, обеспечена. Какое-то время. Кольцо, однако, подарила ребенку бабушка.
Наступает вторая пауза, более долгая — она длится почти полминуты. Баронесса нарушает ее сама: выдвинув ящик антикварного шкафа, она извлекает древний театральный бинокль.
— Вот, — произносит она, протягивая бинокль Видоку. — На кольце выгравирована миниатюрная эмблема бабушки ребенка. Посмотрите сами.
Бинокль, слишком маленький по сравнению с его бычьей головой, придает ему, когда он склоняется над столом, вид обеспокоенного химика. Несколько секунд он пристально вглядывается. Его лоб рассекает глубокая морщина.
— Там должен быть двуглавый орел, — подсказывает баронесса. — Но не такой, как на эмблеме синьора Бонапарта. Теперь разглядели, месье?
Стискивая в пальцах кольцо, Видок зачарованно кивает.
— Вы, наверное, бывали там? — спрашивает она.
— Я провел там несколько недель. Сражался с кирасирами Кински. Стал неплохо разбираться в их символике.
— Кински? — заикаясь, вставляю я. — Но ведь дело было в Австрии.
— Разумеется, — любезно соглашается баронесса. — Перед нами геральдический символ императрицы Марии Терезии.
— Взгляните сами, — произносит Видок.
Я прижимаю бинокль к переносице: миниатюрная вселенная кольца рывком приближается. Двуглавый орел… тевтонский крест…
— И имя ребенка, — говорит баронесса. — Его можно разобрать.
И действительно, с внутренней стороны кольца просматриваются буквы. Некоторые совсем стерлись, но осталось достаточно, чтобы разобрать изначальную гравировку.
Л И ШАЛЬ
— Луи Шарль, — шепчу я, и звуки как будто бы проливаются на стол и отражаются от него именем. — Дофин.
Из-за моего плеча доносится голос баронессы. В нем отчетливо слышны иронические нотки.
— Пожалуй, после стольких лет следует вернуть в обиход слово «король».
И, словно отвечая на реплику баронессы, кольцо уплывает из поля зрения. Оторвавшись от стола, я вижу его на ладони Видока; в следующую секунду тот швыряет кольцо в ближайшую стенку. Судьбу кольца, по-видимому, разделяют и остатки его образа, потому что слова, соскользнувшие с уст Видока, никак не могут быть произнесены в одном помещении с синей атласной скамеечкой.
— Дерьмо!
— В каком-то смысле, — соглашается баронесса.
Назад: Глава 9 ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЮКСЕМБУРГ
Дальше: Глава 11 ИСЧЕЗНУВШИЙ ДОФИН

