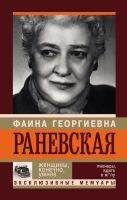Книга: Шеломянь
Назад: 8. Дорога на Донец – город Корачев. Конец апреля 1185 года
На главную: Предисловие
9. Зона солнечного затмения.
1 мая 1185 года
Весна в том году так и не пришла.
После долгой зимы, иногда слякотной, но чаще холодной, как взгляд госпожи на холопа, – конечно, если раб хлипок и дурен собой – сразу, без предупреждения и долгой подготовки, пришло лето. Безумец Ярило проспал свое время в приторно-теплом багрянце мира мертвых, и листья на деревьях, травы в степи и ростки на полях полезли вверх, к солнцу, без благословения красивого бога с жестокими остановившимися глазами. Причем неплохо полезли, что, разумеется, еще больше уверило новообращенных христиан на Руси в слабости и никчемности языческого пантеона.
Уже в середине апреля реки, соревнуясь между собой, которая быстрее, вскрылись ото льда. Бурный разлив скоро смыл в низовья прежде скованный морозом хлам, реки присмирели, виновато втянувшись обратно в границы своих берегов, и только раскисшие поймы не желали снова становиться иссохшими и безжизненными. На поиски первой, самой свежей и сочной зеленой травы потянулись сайгаки, тревожа нежащихся в теплой грязи кабанов. Жирные тупые дрофы с неприятным визгом, заменяющим у них птичье пение, сбивали на взлете концами крыльев высохший за зиму камыш.
Вот по этой степи, уже прогревшейся и зазеленевшей, предстояло возвращаться к своим курянам князю Всеволоду, прозванному за физическую силу и воинскую доблесть противниками-половцами Большим Господином, Буй-Туром. Заставьте кого-нибудь из своих врагов, уважаемый читатель, отзываться о себе заглазно с таким почтением, только тогда вы поймете, чего это стоило трубечскому князю. Хотя лучше было бы, конечно, чтобы врагов у вас не было вообще, но что же мечтать – мы же говорим только о том, что было!
Утром накануне проводов князю Игорю Святославичу пришлось призвать лекаря Миронега. Нежданно разболелась старая рана, полученная несколько лет назад в стычке под Вышгородом. Левая рука князя словно окаменела и отказывалась двигаться, повиснув подобно плети у никуда не спешащего всадника.
Лекарь вскоре появился в шатре и приказал княжеским гридням раздеть Игоря Святославича до пояса. Затем северский князь по просьбе Миронега уселся на чувственно щекочущий ворс хорасанского ковра и, поеживаясь от утренней прохлады, вынужден был стерпеть достаточно долгий и пристальный врачебный осмотр. Несколько раз Миронег указательным пальцем правой руки нажимал на ведомые только ему точки левой руки и предплечья, и князя пронзала резкая боль сродни ожогу. Игорь Святославич терпел, доверившись знаниям лекаря, проверенным за многие годы.
Во время осмотра Миронег не проронил ни слова. Всегда молчаливый, он после поездки в Курск совершенно замкнулся в себе, и услышать голос лекаря стало таким же редким событием, как увидеть в степи сохранившийся с прошедшей зимы снег. Бесшумно двигаясь и по-прежнему не размыкая губ, Миронег приготовил в неглубокой чашечке сунского фарфора резко пахнущую кашицу из порошка сушеных трав, которые принес с собой. Затем он намазал полученной смесью больную руку князя и тщательно перевязал ее длинной и узкой полосой тонкого беленого холста. Беззвучно шевеля губами, Миронег, продолжая бинтовать, подложил между слоями холста небольшую плоскую человекоподобную фигурку, сплетенную из разноцветных нитей и молодых ростков степных трав.
Закончив лечение, Миронег попятился и почтительно поклонился. Подняв голову, он вопросительно взглянул на князя, явно испрашивая разрешение удалиться.
– Благодарю. Как новая отросла! – сказал князь Игорь, чувствуя с облегчением, как уходит боль и рука обретает привычную силу. Затем спросил полушутливо-полусерьезно: – Может, так и языком твоим заняться? А то ленив он стал больно, слова от тебя не дождешься…
Гридни, повинуясь мановению князя, принялись облачать его в парадные алые одежды, расшитые желтыми шелковыми цветами, напоминавшими знаки Дажьбога-Солнца. Игорь Святославич раскинул руки в стороны, помогая гридням и одновременно проверяя результат лечения. На запястье левой руки празднично звякнули золотые браслеты с чернеными изображениями Александра Македонского, уносящегося на двух запряженных грифонах вверх, в небо.
– Ты же не станешь разбрасывать гривны и куны? – вопросом на вопрос ответил Миронег. – Слово же дороже серебра и мехов. Даже христиане говорят: «В начале было Слово». И каждое слово – от богов, и каждое слово – Бог. А стоит ли тревожить Бога всуе?
– Это сложно для меня, – признался князь Игорь. – Лучше всего тебя понял бы мой побратим, великий хан Кончак, любитель таких бесед. Мы скоро встретимся, и тогда я обещаю вернуться к этому разговору. Благодарю тебя, Миронег, и надеюсь, что мне еще представится возможность достойно расплатиться. Хотя, признаться, за все годы твоей службы я так и не понял, что же тебе за нее надо?
– Я расскажу тебе, – пообещал Миронег с поклоном, – когда пойму это сам.
Лекарь покинул шатер и растворился в толпе дружинников, собравшихся проводить Буй-Тура Всеволода и его кметей. Разлука обещала быть недолгой, уже через несколько дней куряне собирались присоединиться к основному отряду. Но встреча эта будет уже за пределами русских земель, в Половецком поле. А его не зря называли Землей Незнаемой, ибо никто не смел предсказывать нрав Степи и населявших ее кочевников. Прощание на сутки могло обернуться погребальными проводами, а ожидание встречи растянуться до неминуемого прибытия в мир мертвых.
Князь Игорь вышел из шатра, заслышав приветственные крики снаружи. Всеволод Трубечский и его кмети уже сидели на конях, готовые отправиться в путь. Утреннее солнце с уважением и некоторой опаской оглаживало начищенные кольчуги, отсвечивавшие вороным под накинутыми на плечи тонкими походными плащами. Горделиво блестел золоченый княжеский шлем Всеволода, не менее яркий, чем само солнце. Багряный княжеский стяг неспешно полоскался по ветру, и вышитый на нем черным и рыжим шелком вздыбленный пардус, казалось, готов уже был спрыгнуть на землю, чтобы поражать врагов, сбивая их в зловонный прах сражения. Наконечники копий оскалились подобно зубам дракона, так почитаемого желтолицыми подданными императора Срединной Империи.
Увидев старшего брата, князь Всеволод соскочил с коня и пошел навстречу, раскрыв медвежьи объятия. Игорь Святославич, в сравнении с Буй-Туром сухощавый и малорослый, потерялся в крепких, воистину надежных и дружеских руках и вскоре завозился, пытаясь высвободиться.
– Уморил, – сообщил он, когда Всеволод сменил все же гнев на милость. – Как есть уморил! А погибать мне сейчас не след, важное дело впереди!
Совиный глаз Буй-Тура лукаво подмигнул юному князю Владимиру Путивльскому, скромно державшемуся за спиной отца, князя Игоря Святославича. Владимир зарделся, что нетронутая девица, но взгляда, к удовольствию князя Всеволода, не опустил. Растет молодец, и не одна девушка станет еще по нему сохнуть, подумал трубечский князь, да не беда – и на мой век боярышень хватит.
– Хорошего сына вырастил, брат, – наклонившись к уху Игоря, чтобы не слышали, прошептал Буй-Тур Всеволод. – Надеюсь, и жена окажется ему под стать.
– Дочь Кончака не может быть иной, – уверенно ответил Игорь Святославич. – Я видел ее. Да и Миронег, который говорил с ней в Шарукани, не может ошибиться, у него на людей нюх, что у лисицы на курятник.
– С нами Свет и Святая Неделя! – громко воскликнул трубечский князь, вызвав ответный рев из глоток толпившихся у княжеского шатра дружинников. И, снова понизив голос, проговорил, глядя на Игоря нежданно увлажнившимися глазами: – Один ты у меня брат, один свет светлый – ты, Игорь! Оба мы – Святославичи! Седлай своих коней, брат; мои оседланы еще с Курска. Скоро встреча – и будь что будет!
Игорь уловил в голосе брата невысказанную горечь.
– Странно все, брат, – продолжал говорить князь Всеволод, все быстрее выдавливая слова, словно стыдясь их. – Странно, что на свадебный пир еду, как на тризну… Прости, что говорю такое, но от предков идет – верить предчувствиям.
– Может, стоит вернуться? – Игорь не насмехался, просто спрашивал, возвращаясь к недавнему разговору.
– Вернуться? Из-за предчувствий?! Вздор! Мои куряне – опытные воины, пути им ведомы, овраги знакомы. Мы готовы ко всему. Луки натянуты, колчаны отворены, сабли изострены. Мы готовы, брат, и мы не подведем!
Всеволод в последний раз обхватил ладонями Игоря Святославича за плечи, легко вспрыгнул на седло и, горяча коня, прорычал зычным голосом:
– Пир скорый готовьте, господа северцы да черниговцы! Скорый, ибо мои куряне уже скачут, как волки в поле, ища себе чести, а князю славы!
Последовал прощальный взмах руки в кольчужной перчатке, и кмети, посвистом погоняя коней, полукольцом охватили своего князя и галопом помчались к линии горизонта, туда, откуда должны были через несколько дней появиться вновь. Кони стлались над степью, словно протирая брюхом потемневшую прошлогоднюю траву, склонившуюся к земле. И лучше любых плетей погонял покорных всадникам животных тягучий волчий вой. Неведомо уже, от половцев ли переняли это кмети, или же приграничные перелески да овраги навели на схожие с кочевниками мысли, только многие годы для диких половцев и бродников, осмелившихся пересечь границы княжества Трубечского и Курского, победная песня серых хищников была последним, что они слышали в своей никчемной жизни.
Стая шла на охоту. В лесу и степи зверь и человек знали, что стоит уступить дорогу. А кто смел – заступи путь, только не говори потом, что не был предупрежден!
* * *
Миронег знал, что Буй-Тур Всеволод сказал брату. Давно уже он овладел искусством читать по губам, и были случаи, как в этот раз, к примеру, когда приобретенное умение могло пригодиться. И то неприятное предчувствие, которое мучило трубечского князя, только подтверждало Миронегу его собственные ощущения.
Некстати в заплечной суме зашевелился маленький череп, доставшийся в наследство от Хозяйки, чье настоящее имя так и осталось для Миронега тайной. Незаметно для окружающих, но чувствительно для самого хранильника, он тыкался через кожу сумы в спину Миронега, явно выказывая желание поговорить.
Было несколько случаев, когда череп проявлял незаурядные способности к пустопорожней болтовне. Миронег понимал, что Хозяйка мается от одиночества в своей странной избе, и даже разговор с простым смертным, да еще отвергнувшим назойливо предлагавшиеся брачные узы, мог стать выходом. Прошло уже время, когда хранильник пытался рассудить, зачем Хозяйке эта странная связь. Богиня, казалось, могла найти собеседника получше. Миронег просто терпел, воображая, что продолжает исполнять свои лекарские обязанности. Одиночество – тоже болезнь, причем тяжкая, и единственное лекарство от нее – общество другого.
Миронег ощущал себя микстурой или припаркой, а какой врач станет презирать лекарства, прописываемые им больному?
Путь Миронега лежал через боевое охранение к берегу Малого Донца. Детство в северных землях не прошло даром, и лекарь привык размышлять, глядя на вечную изменчивость реки, которая так походила на течение мыслей.
На плоскости горизонта, сшивавшей степь с небом, всадники из сторожи выделялись четкими силуэтами. Прятаться на своих землях было ниже гордости, да и до спасительной дубравы оставался лишь полет стрелы.
Завидев красный плащ Святослава Ольговича Рыльского, Миронег придержал коня. Подъехавший в окружении копейщиков князь попытался выспросить лекаря о подробностях проводов курян, но вскоре оставил свои попытки, натолкнувшись на явное нежелание Миронега открывать рот для произнесения слов длиннее, чем в два слога.
– С ними простились, – это было самым информативным из того, что соизволил рассказать Миронег.
С тем Святослав Рыльский и распростился с хранильником, пожелав напоследок не попасться половецким разъездам. Кривившая рот князя обиженная ухмылка выражала при этом желание прямо противоположное. Увы, не сторожа мы своим душевным порывам, особенно в столь молодые, как у Святослава Ольговича, годы!
– Все предопределено, – равнодушно заметил Миронег. – Никому не удавалось еще умереть раньше смерти.
Словно устав от столь длинного рассуждения, он безмолвно поклонился князю и его дружинникам и направил коня прочь, к Малому Донцу.
Река еще не присмирела после ледохода, и близко к воде не смог бы подобраться без чрезмерных усилий ни конный, ни пеший. Раскисший берег колыхался подобно огромному слизню, выброшенному неведомой силой на поверхность и пытающемуся уползти обратно, в спасительный мрак затянутого илом дна.
Миронег остановил коня на пригорке, где земля просохла на солнце достаточно, чтобы сесть на нее без риска намочить одежды, а пробившаяся молодая трава могла скрасить досуг соскучившемуся по свежей пище скакуну.
Бросив поводья, Миронег спешился, положил на землю плащ и сел на него. Привычным движением он снял с плеча суму и, оглядевшись, извлек из нее маленький, с кулак, череп, о приобретении которого я уже имел неудовольствие рассказывать вам несколько раньше.
Удачливому грабителю, утащившему суму хранильника и оставшемуся при этом в живых, – случай нереальный, но чего только не бывает на свете! – череп этот показался бы просто изделием искусного ремесленника, помогавшим лекарю в его нужной и, разумеется, бесовской профессии.
Но ни один ремесленник, даже самый опытный и мастеровитый, не смог бы сделать так, чтобы его творение само шевелило нижней челюстью; и уж тем более непостижимо, что, совпадая с артикуляцией черепа, из него раздавались звуки, схожие с человеческой речью.
Хотя люди так говорить не могут… Возможно, мертвые – да, но кто слышал мертвых?
А какой мастер способен покорить огонь, послушно застывший в маленьких провалах глазниц, освещая их ровным мертвенным пламенем, похожим больше всего на проглядывающий во мраке ночного леса свет гнилушек?
Не знаю уж, стоит ли называть удачливым выдуманного мной грабителя? Того, кто, похитив суму и – случайно! – оставшись жив, найдет этот череп. Ох, не простая безделушка оказалась бы в его руках, не простая! Нечеловеческого она происхождения, не нашего мира! Если же не забывать, как жестока бывает наша, обжитая вроде вдоль и поперек явь, поворачивающаяся к нам то задом, то когтистой лапой, то ясно станет – нельзя знаться с порождениями иного мира, не то что трогать их!
Если, конечно же, ты не отделяешь себя от этого мира. И точно знаешь, что мир этот – твой.
Миронег, к примеру, по образу некоторых эллинских философов, считал себя космосом, то есть вселенной, самодостаточным миром, которому не нужно окружение. От соприкасавшихся с ним вселенных – людей, богов, деревьев – Миронег желал одного.
Равнодушия.
Любое чувство опасно. Что, скажите на милость, может навредить больше – ненависть или любовь, в которой нет надежды на взаимность? А ведь любовь, говорят, хорошее чувство.
Миронег хотел от окружающего мира забвения, считая чуждым все вокруг себя. Но мир думал иначе; людям был нужен лекарь и хранильник, богам…
Кто был нужен богам?
Вопрос, наверно, к ним, а не к Миронегу.
* * *
– Зачем я понадобился тебе, Хозяйка? – спросил Миронег, глядя на отсветы огней иного мира в глазницах черепа.
Хранильник начинал разговор, по привычке произнося слова вслух. Точно так же и череп, из вежливости или кто его знает ради чего, выдавливал из себя звуки человеческой речи, хотя получалось это у него не лучше, чем у дешевой саундкарты. Вскоре же Миронег умолкал, вспомнив, что Хозяйка не нуждается в словах, воспринимая напрямую мысли своего собеседника. Останавливалось и конвульсивное содрогание нижней челюсти черепа. Человек с божественным сувениром замирали, как предтечи славной встречи на кладбище.
Как, интересно, звали того несчастного, чья истлевшая голова долго украшала забор вокруг жальника? Не Йорик же, право слово?!
– Невежливо начинать разговор с вопроса, – проскрипел череп.
– А навязывать беседу – вежливо? – Это Миронег спросил уже мысленно, и так же, душой, а не барабанными перепонками, получил в ответ смешок.
Игривый такой смешок, словно собеседницей его была молодая девушка, а не богиня, которая есть любовь и смерть в одном.
– Дуешься? – вкрадчиво поинтересовалась Хозяйка, а череп, обретя на время тягучесть, сложил податливые рукам неведомого скульптора челюсти в уморительную гримаску детской обиды. – Что, хранильник, тяготит внимание богини? Или, вернее, осознание неполноценности?.. Отказаться от моей любви… Стыдно должно быть, если, конечно, ты еще не забыл, что рожден мужчиной!
– Дуешься? – в тон переспросил Миронег. – Тяжело, видимо, дарящей любовь не получить ответного дара?
Хозяйка промолчала.
Зато череп снова потек, сменив личину на привычную – на равнодушную маску смерти.
– Не забывайся.
Это с Миронегом говорила уже не Любовь – Смерть. Оскорбленная женщина может в чувствах подняться до богини; что же тогда говорить о самой богине?..
– Я бы хотел, – подумал Миронег, – да не получается… Богиня, ты звала – я пришел! Не тяни, скажи мне зачем?
– Выслушать мою волю и покориться ей.
– Я не раб тебе!
– Согласна. Для вас рабы – такие же люди, как вы сами, только с судьбой, повернувшейся несчастливой стороной. Ты не раб мне, ты – ниже. Прирученный скоморохами медведь, выступающий на ярмарках и пирах… Вот твое место! Помни это и не забывай, что делают хозяева медведя, когда тот пытается вырваться на свободу. Ты должен знать, что гнев богов сильнее, чем удар палки или рогатины!
– Угрозы – необходимая часть разговора? – Миронег не чувствовал ничего, кроме равнодушия. Изредка ему казалось, что встреча с Хозяйкой, которую Пес Бога фамильярно называл Фрейей, а сам хранильник предпочитал величать богиней, выжгла у него все остальные чувства.
– О, да! Как же еще внушить тебе, что услышанное должно стать не просто просьбой – приказом?
– Хороший командир никогда не грозит своим воинам.
– А я и не командир, знаешь ли… Я – богиня, и ты в моей власти!
Сильные руки обхватили Миронега сзади за плечи и опрокинули навзничь на плащ. Череп выскользнул у него из рук и повис в локте от земли. Половцы, захолодила душу запоздалая мысль. Поглощенный разговором, хранильник не заметил приближения степной разведки, и судьбой его станет теперь мучительная казнь или невольничий рынок в Суроже, Тбилиси или Басре.
– Даже в мыслях мелочен, – презрительно процедила богиня, и глазницы черепа полыхнули багровым огнем.
Тело Миронега, повинуясь воле Хозяйки, содрогнулось, изгибаясь немыслимым для нормального человека образом. Никакой боли тем не менее лекарь не почувствовал, хотя разумом осознавал, что быть такого не может. Даже страдальцы от падучей не бились так на земле, как довелось это Миронегу, но единственным последствием стала разбросанная вокруг плаща одежда, на которую в бессмысленном недоумении уставился пасущийся конь.
Обнаженный, лежал Миронег на сбившемся от резких движений плаще и не мог подняться, удерживаемый невидимыми руками, которые только что раздевали его.
Череп глядел на Миронега алыми глазницами, и смеющаяся маска смерти растягивалась во все более широкой улыбке. Нижняя челюсть черепа отвисла, и хранильник увидел острый язычок, часто и настойчиво облизывавший внутреннюю поверхность зубов. Красный огонь глазниц заволокло зеленоватым туманом, и имя ему было, вне сомнения, – Похоть.
– Уж лучше бы половцы, – успел подумать Миронег и почувствовал грудной смех богини.
Миронег заметил, как череп опустился вниз, но не смог увидеть – куда. Невидимые руки удерживали его голову, прижав затылок к плащу.
Маленькие зубки осторожно ухватили кожу на правом боку Миронега. Теперь можно было не размышлять, где череп, оставалось понять, зачем он там?
Зубки сжали кожу, причинив лекарю боль, хотя и вполне терпимую. И тотчас – резкий укус под левый сосок, туда, где сердце. Из груди Миронега рванулся крик, но замер, не дойдя до горла, когда острый язычок черепа принялся ласкать место укуса, да так, что хранильник содрогнулся от нежданного и оттого еще более сладкого наслаждения.
Череп между тем добрался до горла Миронега, сжав сосуды, по которым, пульсируя от прорвавшегося зова плоти, текла кровь к кипящему в страстях мозгу.
И снова – боль и похоть.
Боль и похоть.
Страдание.
И желание.
Миронегу казалось, что он видит Фрейю, видит такой, как она явилась ему в своем странном жилище, когда бесстыдно и тем не менее величаво и целомудренно – как так можно, бесстыдно и целомудренно? но ведь смогла! – она опустила на пол одежды, оставшись в лучшем, что есть у женщины, – в ореоле молодой наготы.
Богиня выступила из сгустившегося воздуха и склонилась над распростертым хранильником.
– Я вижу, ты все же мужчина, – Хозяйка говорила, и для Миронега каждый звук ее голоса был как музыка. – И счастье твое, хотя, возможно, ты и не заслужил его, что я могу дать тебе наслаждение, недоступное от близости с любой из женщин…
Богиня склонилась еще ниже, и Миронег почувствовал ее тело.
Морок, билась мысль.
Через тело богини Миронег мог свободно различить небо, неспешно плывущие по нему редкие облака, черные точки стервятников высоко наверху. И все же богиня была здесь, с ним, во плоти, а он… Он был в ней!
Сколько из нас говорили друзьям и подругам, что познали любовь?
И сколько из нас лгали?
Или добросовестно заблуждались?
И были ли те, кто говорил правду?
Миронег познал любовь, а она приняла в себя Миронега.
– Ты – мужчина, – шепот богини обволакивал всю сущность Миронега. – Хороший мужчина… И как же просто это все изменить!
И снова крик замер в горле Миронега, замер, потому что богиня не хотела, чтобы человек кричал.
Безграничным было наслаждение, испытанное Миронегом, и заплатил он за него бесконечной болью. Той болью, что застилает глаза темным пологом; болью, когда мука – отрада, а смерть – наслаждение.
Только на мгновение откинулся полог, и за это время Миронег смог различить в ярком, но каком-то мертвом свете, как по изумрудному лугу мчится на огромном белом коне обнаженный юноша с безумным взором. Конь скачет, не в силах перемахнуть через ограду, сделанную, на диво, из толстых бревен, искусно уложенных в круг.
Когда боль отпустила немного, став всего лишь пыткой, и темный полог в неведомое уже опускался, хранильник заметил, как над оградой поднялась огромная змеиная голова и с жалостью взглянула на безумного всадника голубыми человеческими глазами.
С болью пропала и богиня. Пропала, забрав с собой и невидимых прислужников, все это время удерживавших Миронега в неподвижности.
Но и освобожденный, он еще долго лежал, не в силах пошевелиться.
Конь его меж тем мирно опорожнялся в сторонке, нисколько не пораженный ни явлением богини, ни летающим черепом.
Как же все-таки хороша жизнь, в которой есть место только природным радостям: поесть, совокупиться, поспать!.. Только вот ведущего такое существование никогда не назовут человеком. Детство наше для того и дано, чтобы вытравить из души бездумную беззаботность. И проклятием ли было изгнание первых людей из рая, где добро оказалось неотличимо от зла?..
Миронег неверными еще движениями принялся собирать разбросанные вещи. Череп деликатно выждал, пока хранильник оденется, подсказав даже, где надо искать укатившийся за кочку правый сапог, и только после этого вновь заговорил:
– Хозяин может помочь своей собаке попасть в рай, пригласив в горницу; может заставить испытать муки ада, – или как там вы еще называете место, где вечно мучают? – выбросив за ворота… С рабом же такого не выйдет – там власть ограничена жизнью, не душой. Постарайся теперь понять, кто я перед тобой, и покорись!
– Говори, что тебе надо, богиня.
При всем желании Хозяйка так и не смогла почувствовать в душе Миронега хоть что-то напоминающее покорность.
– Ты или очень глуп, хранильник, или же гордыня затмила твой рассудок, – неуверенно сказала Фрейя.
– Надеюсь, что это не так, богиня, – возразил Миронег. – Ты же сама сказала, что я – мужчина. Нам свойственно чувство обладания, и покорившаяся женщина воспринимается как неотъемлемая от нас часть. Как рука, скажем, или то непонятное, что зовется душой… Можно ли подчиниться части самого себя? Должен ли человек слушаться приказов ноги или уха?.. Ты добровольно пришла, богиня, пожелав разделить со мной это необычное ложе. Теперь ты – часть меня. Я волен выслушать тебя. Выслушать, не подчиняясь.
– Почему Дий не утопил всех софистов в выгребной яме? – спросила непонятно для Миронега богиня.
Затем помолчала, видимо собираясь с силами и утихомиривая гнев, и произнесла:
– Мученик передумал, хранильник. Тебе нечего делать в Тмутаракани. Возвращайся назад, и тогда в моей власти будет дать тебе забвение. Случившееся с тобой забудется, как плохой сон, сгинет, рассеется пылью. Как череп, скажем…
Череп легонько покачивался на небольшом ветру, тянувшем со стороны реки. При очередном порыве, сил которого хватило только на то, чтобы пригладить складки на расстеленном плаще Миронега, мертвая голова рассыпалась серым облаком и растаяла, словно и не существовала вовсе. Может ли богиня продолжить разговор без посредничества мертвой головы? Чтобы узнать это, надо о чем-нибудь спросить ее.
– Позволь спросить, что же повлияло на Мученика? Неужели жалость к простому смертному, взвалившему на себя непосильную задачу?
– Беру назад предположения о твоей глупости, хранильник. – Оказывается, диалог был возможен. Зачем же тогда, объясните, пожалуйста, все эти сложности с черепом? – Но мудрость, обретенная Мучеником, неизмеримо богаче, и открылось ему, что негоже просить человека казнить бога. Это не возвысит смертных, но унизит небожителей. Мы сами решим, что надлежит сделать с тмутараканским злом. Сами, без тебя или иного… человека.
– Людям уже приходилось убивать богов, припомни хотя бы судьбу Христа. Что же так напугало Мученика? Может, то, что он оказался беспомощнее людей, которые для него что прах под ногами? Или же страшно стало, что богоборчество станет привычным и когда-нибудь мы доберемся и до вас?
– Бога должен убить равный. И врага требуется уважать; представь позор князя, не погибшего в честном бою, а удавленного собственными холопами в опочивальне.
– Или затравленного охотничьими псами…
– Все же ты не глуп. Отбрось обиды, хранильник, и оставь в покое тмутараканское зло! Живи в мире – не это ли мечта любого из вас?
– Каждый сам создает свой мир и хранит его как может. Беда твоя, богиня, в том, что из-за разделяющей нас пропасти происхождения, а возможно, и от гордыни тебе не дано понять, что свобода выбора, которой вы, боги, так гордитесь, присуща и людям. Да, для многих выбор сводится к определению, стать ли рабом или слугой. Но мне не хочется быть ничьим холопом! Я – царь, и я – раб! И как господин своей судьбы, говорю тебе: я сам сделаю выбор, что и когда мне делать. Я приду в Тмутаракань. Не по приказу приду, по собственной воле. И сам решу, что предпринять.
– Конечно, – ласково прошелестела богиня, – конечно…
И, тотчас сменив ласку на лед, добавила:
– Героем стать захотелось? Чтобы вечерами при свете лучин и свеч рассказывали о твоих подвигах, привирая и преувеличивая для красного словца? Кем ты себя возомнил?! Аяксом, целящимся в богиню? Или Иаковом, сражающимся со своим Богом? А знаешь ли ты, сколько могил приходится на одну легенду? Сколько богоборцев бесславно сгинули, забытые даже не потомками – современниками? Ступай в Тмутаракань, хранильник! Ступай, повесели нас! Так мало хороших скоморохов… Ты все же глупец, хранильник… Ох, глупец…
– Ты же – настоящая женщина, богиня, – добродушно ответил Миронег. – Только женщина способна так часто и, главное, убежденно, менять свое мнение о человеке. Об одном лишь попрошу на прощание – не отбирай памяти о происшедшем сегодня.
Миронег почувствовал смешок Хозяйки, смешок довольный и, кажется, озорной.
– Прощай, хранильник! Без черепа я не смогу разыскать тебя, и больше поговорить не получится. Ты расстроен?
– Ты же читаешь не только мои мысли, но и чувства, богиня!
Последовал смешок, и тотчас лекарь вернулся в реальность, где царили посвист ветра и запах конского навоза, шелест ткани и хруст сухого прошлогоднего ковыля. Покачав головой, Миронег поднялся на ноги, встряхнул плащ, едва не потеряв при этом застежку-фибулу. Перекинув плащ через седло, хранильник вернулся за кожаной сумой, мирно гревшейся на солнышке. Сума отправилась на привычное место, за спину Миронега, и скоро лекарь почувствовал ритмичные удары в область поясницы.
И не открывая сумы, Миронег был уверен в причине стука.
Наверняка это вернулся череп.
Боги любопытны и говорливы. В конце концов, создала-то их наша, человеческая фантазия.
По нашему образу и подобию.
* * *
Но добраться до русского лагеря Миронегу оказалось не так просто.
Путь назад лежал между двух старых осыпавшихся курганов, расползшихся на припойменной равнине подобно старушечьим грудям. Глинистые почвы не привлекли ни степное разнотравье, ни лесной кустарник, и курганы стояли голые, если не считать редкой поросли вездесущих колючек.
Миронег уверенно направил коня в ложбину между курганами. Так дорога становилась ощутимо короче, да и половецкой засады не стоило опасаться, обзор с седла был достаточен, чтобы отбросить беспокойство.
Ловушка захлопнулась именно там, в ложбине.
Сеть, высокая и прочная, чтобы не выпустить всадника, в мгновение ока натянулась перед Миронегом. Рванув поводья, лекарь развернул коня, но лишь для того, чтобы убедиться, что такая же сеть расставлена и с другой стороны ложбины. Откосы курганов, хотя и осевшие за прошедшие века, оставались слишком круты для лошади, так что и вбок было не уйти.
Миронег выхватил меч из ножен и быстро огляделся в поисках противника. Странно, но враги прятались, не желая попадаться на глаза.
Впрочем, не все.
Полускрытый тенью от кургана, на пути Миронега стоял одинокий воин, в богатых доспехах, но отчего-то пеший. У воина был длинный широкий меч, остававшийся, правда, в ножнах, так как использовался не как оружие, но вместо посоха. Воин уставил его бронзовым навершием в землю, устало опираясь ладонями на перекрестие рукояти.
– Вот и довелось встретиться вновь, хранильник, – заметил воин и вышел из тени, подставив лицо полуденному солнцу.
– Здрав будь, князь Черный, – произнес Миронег обычное придворное приветствие, только потом подумав, как нелепо оно звучит по отношению к человеку, умершему много веков назад.
– Благодарю, хотя пожелание несколько запоздало.
В голосе князя звучала насмешка, но бледное лицо оставалось серьезным и неподвижным. Как и полагается лицу покойника, собственно говоря. Князь, изящно отставив одной рукой меч в сторону, провел ладонью другой перед собой и произнес:
– Прекрасное место для беседы, не правда ли?
Миронег, багровея от еще одной допущенной неловкости, быстро соскочил с коня. Только равный может говорить с князем, оставаясь в седле, да и то рыцарский обычай требовал спешиться. Извинить Миронега могла только странная встреча с богиней, но оправдываться – удел детей и женщин. Мужчина должен быть готов к воздаянию за любой свой поступок и не роптать на цену.
– Моя вина, князь, – поклонился Миронег, спрыгнув на землю. – Не суди строго.
– Живых пусть судят живые, – заметил князь Черный. – Мы же просто поговорим.
Время мертвых – ночь, и несколько лет назад, в стольном Чернигове, спящие в курганах позвали Миронега не когда-то, а в полнолуние. И князь Черный предстал тогда иным, получеловеком-полуптицей, овеществленным добрым духом. Но даже лунный свет беспокоил пришельца из мира мертвых; теперь же солнечные лучи, казалось, дают князю Черному только наслаждение.
– Поговорим, – эхом откликнулся Миронег, поклонившись еще раз.
Хранильник инстинктивно доверял князю, основавшему давно тому назад Чернигов, но тем не менее избегал встречаться с ним взглядом. Старшие учили, что взгляд покойника способен передать смерть, отсюда и прижившийся у многих народов обычай закрывать мертвым глаза. Миронег не хотел умирать, познав только что во всей полноте иную сторону смерти – любовь.
Ибо умирает мужчина, отдавая свое семя, и умирает женщина, принимая его. Спросите любого, а лучше сами себя, помните ли вы этот миг, и, ответив, попробуйте поверить сказанному.
– Ты говорил с Фрейей, хранильник, я знаю.
– Говорил.
– И ты не послушал богиню…
– Грешен…
– Только без скоморошества! В смерти мы становимся ближе к богам, но все равно я не смогу понять, как возможно ослушаться тех, кто настолько выше по положению! Фрейя гневается, и кому, как не нам, мертвым, чувствовать настроение той, что есть Смерть.
– Я покорюсь смерти, но никогда – разгневанной женщине!
– Гордыня! И тем более опасная, что способна погубить не только тебя, а многих, если не всех! Мне жаль, что росток этого чувства зародил у тебя я сам, внушив, что ты способен бороться с богом. Вспомни загадку, что я рассказал тебе ночью на кургане!
– Убить бога возможно не живым, не мертвым.
– Верно. Но это же абсурд! У загадки нет ответа, и только одно толкование: смертный не может посягнуть на бога. Я пришел убедить тебя одуматься. Дорога на Тмутаракань закрыта. Если же ты все же попытаешься добраться туда, то только бесславно погибнешь, да еще вызвав ярость неведомого бога.
– Я уже слышал разговоры о бесславии.
– А о гибели? Гибели всего, и живого, и неживого?! Из созидателей боги так легко становятся разрушителями… Не гневи неведомого бога, пускай небожители сами договорятся о грядущем миропорядке!
– Что же прикажешь делать людям, пока боги держат совет? Просто ждать?
– Да. Ждать. Покориться.
– Князя ли слышу? Склонить шею и ждать смертельного удара, забыв, что в руках меч?!
– Силы человека рядом с божественным могуществом – что соломина против боевого топора! Одумайся!
– Одуматься? Как? Примирившись, что ты – только червь для богов? Так их давят, червей, особенно когда те лезут из земли наружу, позабыв свое место. Давят, испытывая не сострадание, брезгливость… Мне ли жалеть мир, где человек презираем? Оставь меня, князь, и смирись – у вас, мертвых, нет надо мной власти!
– Посмотрим!
Князь Черный обнажил меч. Миронег никогда не видел подобного клинка, черного, как ночь, и острого, как язык клеветника. Меч князя вспорол воздух, словно тонкую занавесь, и устремился к шее хранильника. Миронег отпрянул, выхватил меч из ножен и ответил ударом на удар. Раздался необычный звук, точно сталь встретилась не с металлом, а плашмя ударила по воде или же острием – по живому. Меч Миронега словно прилип к княжескому клинку, и пришлось рвануть посильнее, чтобы вернуть ему подвижность.
С началом боя Миронег запел, сначала негромко, но с каждым ударом все возвышая и возвышая голос. Князь Черный вспомнил, что слышал когда-то давно язык, на котором пелась песня, но какой народ говорил на нем – осталось в забвении. Продолжая песню, Миронег пытался еще и танцевать, нелепо подпрыгивая на месте, совершая ритмичные, но такие опасные в рукопашном бою движения руками. Несколько раз князь Черный был готов уже перерубить шею хранильника или располовинить его от плеча до пояса, но везение или судьба хранили Миронега, в последний момент выводя из-под удара.
Призрак против безумца, мертвец против скомороха.
Сколько продолжалась эта схватка – неведомо. Но случилось неизбежное: после очередного танцевального па Миронег открыл грудь, неосторожно отведя меч в сторону. Князь Черный зашипел от радости и направил острие клинка вперед, чтобы покончить со строптивым колдуном. Но тело, такое послушное не только в жизни, но и после смерти, отказалось повиноваться, застыв с нелепо и смешно вытянутой вперед рукой.
– У вас нет надо мной власти, – шумно дыша, повторил Миронег. – Убить тебя, князь, я не могу. Нет, не жалею, просто дважды не умирают… Но сковать твое тело мне под силу. Не переживай, в твоем мире много колдунов, они знают, как снять заклятие. Сейчас же – сгинь из нашего мира и помни о том, что я не слуга мертвым!
– Ты нам с этого часа враг, – успел проговорить князь Черный, прежде чем растаял в тени кургана. – Помяни меня, не будет благополучной дороги ни тебе, ни твоим спутникам. Жди знамений, хранильник, и да устрашат они тебя!
Миронег продел левую ногу в стремя, сел в седло и повел коня прямо на растянутую спереди сеть. Ее охраняли несколько воинов, облаченных в старинные, еще варяжские кольчуги и шлемы. Перед собой воины угрожающе выставили тяжелые боевые топоры.
– Прочь, – тихо и без угрозы сказал Миронег. – Вас нет!
Хранильник взмахнул амулетом, извлеченным из поясной калиты, и сгинуло наваждение. Пропала, как не была, сеть, рассыпались прямо под копыта коня Миронега пожелтевшие от старости человеческие кости, припорошенные ржавой пылью сгнившего давно оружия. Из-под конского копыта откатился потревоженный щербатый череп, с ненавистью уставившийся в спину лекаря.
Когда Миронег отъехал от курганов, то заметил торопящихся к нему вооруженных всадников. То были дружинники из сторожи князя рыльского. Сам князь Святослав с насмешкой поглядывал на лекаря.
– Про то, что можно заблудиться в трех соснах, я слышал, – сказал князь. – Но первый раз вижу, как полдня ищут дорогу меж двух курганов. Что, лекарь, конь захромал, или, – Святослав Ольгович помотал ладонью в воздухе, – замечталось?..
Миронег, по обыкновению, только молча поклонился в ответ.
* * *
Вещие события происходили, бывало, помимо воли не только людей, но и богов. Бог Солнца Дажьбог за всю бесконечность своего существования так и не смог понять, отчего наступают дни, когда у него иссякают силы, и посреди светлого времени суток наступает ночь. Не понимал он также, отчего где-то солнечный лик пропадает вообще, а в иных местах – частично виден, похожий на опрокинутый лунный серп.
Но Дажьбог понимал, как знали населяющие землю люди, что солнечное затмение – предвестник беды. Богу было стыдно пугать людей, и утешало его только, что весть – это еще не сама беда, а кто предупрежден, тот, как известно, вооружен. Зря, что ли, человечество кормило тысячную армию предсказателей, совершенно бесполезных в обычной жизни, но незаменимых для толкования знамений.
Кружится в небесном эфире земной блин, вертится, словно пущенный ввысь рукой божественного дискобола. Незыблемо стоит в центре диска святой град Иерусалим, а вот лишенные опоры края земного блина полощутся по эфиру, причудливо заворачиваясь, так что наблюдатель извне, не обладающий хорошим зрением, примет диск за цилиндр или, еще смешнее, шар.
Сама Земля, изгибаясь, как лист на ветру, способна закрыть себе солнце. Нависнет там, в непостижимой выси, край диска, подобно карнизу, – вот вам и тень. Где погуще, где и так себе.
Сама Земля способна накликать беду всему живому. Ей же все равно.
Она неживая.
Кажется.
* * *
Ползет, ползет солнечный зайчик по поверхности земного диска. Все видит, все знает, обо всем молчит. И не наказывает.
Идеальное божество, если вдуматься.
Увидел зайчик и желтый череп, что продолжал недружелюбно щериться в сторону, куда уехал Миронег. Странный череп, старый, а солнышком не выбеленный, некрасивый. Зайчик притронулся к нему, но тотчас отпрыгнул обратно, такой неземной холод пропитал мертвую кость.
Видел зайчик и русский лагерь с суетящимися дружинниками, готовящимися к вечернему переходу. Хоть и Пасха еще не наступила, а солнышко грело прямо по-летнему. Дневная езда стала тяжелым испытанием для воинов, вынужденных не снимать доспехов, и их коней.
Все видел зайчик. Идеальный соглядатай, если вдуматься.
И черниговские ковуи, под прикрытием дубравы следившие за близкой границей Половецкого поля, были найдены неугомонным зайчиком, не отказавшим себе в удовольствии поползать немного по посеребренному переносью шлема боярина Ольстина Олексича.
А еще солнечный зайчик ласково погладил непокорные кудри Буй-Тура Всеволода, мчавшегося, низко склонившись над конской холкой, навстречу верным кметям. Князь давно скинул шлем в седельный мешок и наслаждался скачкой, посвистывая изредка, чтобы конь не перешел с галопа на рысь да дружинники за спиной не отставали.
Не только женщины, само солнце любило трубечского князя. За что вот только – ну ведь сова, одно слово, а птица эта – не из самых привлекательных?!
* * *
Близился вечер, хотя по весне он старался отложить свое наступление, галантно потеснившись перед обновленным после зимней спячки солнцем. Благочестивые прихожане в южнорусских городах готовились к вечерне. Небось не простые дни, страстная неделя! В дубраве у Донца дружинники в последний раз проверяли оружие и упряжь. Налетишь на половцев или на бродников, они покажут тебе и Страстную неделю, и гонения на всех святых великомучеников сразу, да еще от себя добавят от всей души и со всей силы.
– Тихо-то как, – сказал князь Игорь сыну, усаживаясь в седло. – Все замерло, как перед рассветом.
– Спокойно, – согласился князь путивльский. – Но хорошо ли это? Звери и птицы лучше нас опасность чуют…
– Для тебя сейчас главная опасность – невесте не понравиться, – сощурился Игорь Святославич.
– Что же ей надо, если уж Ольгович окажется плох?
– Колобичич, скажем, или Комнин… Мало ли знатных родов?
– Родов знатных много, но Ольговичи – одни!
Игорь Святославич покосился на сына, убедившись, что с шутками покончено, одобрительно потрепал его по плечу.
– Хоругви – вперед! – распорядился князь. – На переправу!
Вытягиваясь по двое-трое в ряд, дружинники потянулись к заранее изведанному броду через Малый Донец. Впереди, как и приказал Игорь Святославич, двигались знаменосцы, и шелковый сокол Ольговичей крылами осенял вышитый лик Спаса, широко открытыми глазами вглядывавшегося вперед, на пограничную реку.
Величаво двигались копейщики, и красные вымпелы, закрепленные на древках высоко над их головами, струились, точно вечно не просыхающая кровь поверженных врагов. Следом, неспешной рысью, пошли молодые воины-гридни в новых, еще не прошедших испытания сечей кольчугах, переливавшихся на солнце, или в кожаных лоснящихся при свете нагрудниках. Туда, к ровесникам, ускакал, спросив разрешение отца, юный князь Владимир, жених неведомой еще половецкой принцессы. Жених, первый год с гордостью ощупывавший редкий пушок, робко пробивавшийся над верхней губой.
Северские дружинники, как два крыла огромной птицы, сторожили отряд с флангов, предупреждая возможное нападение. С ними, оставаясь в стороне от основного отряда, держался, как заметил князь Игорь, лекарь Миронег, еще больше осунувшийся и замкнувшийся в себе за последние дни.
– Не болен ли? – спросил Игорь, подъехав поближе. – Как там? Врачу, исцелися сам!
– Я здоров, – ответил, поклонившись, Миронег.
– Что же тогда? Вижу, что чахнешь на глазах. Что-то не так?
– Не знаю пока. Смотри только, князь, будь осторожен! Жди знамения.
– Знаешь чего? – насторожился Игорь Святославич, припомнив предупреждение младшего брата.
– Чувствую. Плохое чувствую, прости, князь, за неприятную правду!
– Посмотрим, – помолчав, произнес князь Игорь.
Как там у поклоняющихся Аллаху?
Кисмет, кажется… Все – судьба!
* * *
Эвона как разыгрался космический эфир! Один край земного блина подбросило и завернуло так, что он едва не сложился в трубочку. Вздрогнула земля, и у коней Игоревой дружины на миг подкосились ноги. Молодой жеребец Святослава Рыльского просто отказался идти дальше, остановившись как вкопанный.
– Волчья сыть, – охаживал испуганное животное плеткой молодой князь. – Вперед, пока к половцам в котел не попал!
Конь пошел, но неуверенно, словно еще выбирал, что лучше, половецкий котел либо послушание жестокому хозяину.
– Взгляните, – сказал кто-то из воинов, в испуге показывая на небо.
– Вот оно, знамение, – вымолвил князь Игорь.
Миронег молча глядел наверх, до крови закусив побелевшую нижнюю губу.
* * *
«В лето 6693 (1185) месяца маия 1 день во звонение вечернее бысть знамение в солнци: морочно и помрачно бысть вельми, яко на час и боле. И звезды видеть и человеком в очию яко зелено бяше. А в солнци учинися аки месяць, из рог его яко огнь жарящь исходжаше и страшно бе человеком видети знамение Божие!» (Из летописи)
* * *
Смотреть прямо на солнце было невозможно. Слепящая изогнутая полоса вызывала резь в глазах, а огненные круги потом еще долго вертелись, закрывая истинную картину мира. Только на мгновение, искоса, словно и не туда вовсе, можно было взглянуть на истекающий угрозой кровавый рог, остриями опустившийся к земле.
При полном безветрии дохнуло холодом, будто возвращалась зима. Жалобно заплакала от речной поймы неведомая птица, но замолчала, испугавшись сама себя. Стервятники, неизменные и привычные спутники любого вооруженного отряда в то время, снизились настолько, что всадник при желании мог с седла достать любого острием копья. Сжималось пространство, схлопывалась небесная сфера, и не было места птицам в заоблачной выси. Завыли волки, забившись в самую чащу леса; завыли не по-охотничьи, а так, как прощаются с погибшими членами стаи.
Русские дружинники остановились у брода через Малый Донец, не решаясь направить коней в воду. С началом затмения река потемнела и сменила цвет, став багряной, как княжеский плащ. Или земля после сильной сечи.
– Что теперь скажешь, хранильник? – спросил князь Игорь Миронега.
– Что и раньше, князь. Скажу – опасайся! Поход твой не угоден богам… Или люди, идущие рядом с тобой, – неугодны…
– Кто же это, скажи на милость?
– Я, к примеру. Дозволь, князь, покинуть твое войско. Теперь наши пути расходятся.
– Боишься?!
В неверном полумраке затмения лицо Игоря Святославича заострилось, стало резче. Правую ладонь он часто обтирал о полу плаща, завернувшегося на бедро. Казалось, князь с трудом сдерживается, чтобы не отвесить лекарю полновесную пощечину.
– Считай, как хочешь.
И без того невыразительное лицо Миронега окаменело окончательно. Хранильник склонил голову в прощальном поклоне и взялся за поводья.
– Погоди!
Игорь все-таки оторвал ладонь от плаща и вытянул ее вперед, как полководец, посылающий войска в бой. Миронег придержал коня.
– Погоди, – повторил князь. – Знаю, не слуга ты мне и не боярин, но все же прошу – останься! Знаешь ведь, как важен этот поход для меня и сына моего. Многое переменится в пограничье, если соединятся рода Ольговичей и Шаруканидов. Я не сверну, что бы ни случилось. Но я воин, а нужен волхв! Скажи, что желаешь, Миронег, исполню все, если то в моей власти; только не оставляй сына, пока не завидим лагерь Кончака!
Миронег молчал.
– Что же ты, хранильник, – князь Игорь намеренно выделил последнее слово, – или язык проглотил? Или, – в голосе князя появилась горечь, – думаешь, как бы не продешевить?..
– Я остаюсь, князь, – разомкнул губы Миронег. – Но повторю тебе – берегись! От тебя мне ничего не надо, но есть другие, которые заставят заплатить сторицей. За меня в том числе…
И Миронег поднял руку кверху, словно желая поправить спадающий рукав.
Или указывая на небо, такое недоброе и зловещее.
* * *
Перевернутый солнечный серп, готовый к страшной жатве, повис в тот день над стольными городами Черниговом и Киевом. Колокольный звон в Чернигове, сзывавший прихожан на вечернюю молитву, сменился медленным, протяжным – погребальным. Потемневшие разом кресты на маковках церквей еще больше делали город похожим на огромное кладбище, а женский плач и крики испуганных детей только усиливали картину всеобщего бедствия. Даже вездесущие черниговские собаки, старательно и истово отстаивавшие всегда свое право голоса, невзирая на палки и пинки хозяйских сапог, тихо и тоскливо завывали, забившись в конуры и подвалы.
В Киеве готовился к вечерне митрополит Никифор, еще не старый ромей, пять лет назад присланный на Русь волею константинопольского патриарха. На скамье под оконной нишей уже лежало роскошное, вышитое золотыми нитями и украшенное драгоценными камнями парадное облачение, и слуги суетились под пристальным взглядом невысокого и сухощавого митрополита.
В одно мгновение потускнело золото на облачении, а из драгоценных камней исчез внутренний огонь. Никифор, как был, в простой монашеской рясе и босой, подошел к окну, поглядеть, что заслонило солнце.
И увидел врага рода человеческого, с печальным оскалом взиравшего на сжавшийся под его взглядом святой Киев. Глаза диавола были разноцветными. Ровный фиолетовый лучик, конец которого терялся на Подоле, тянулся из одного, а второй мерцал неверным голубым огнем, исказившим в гордыне своей очертания крестов на Святой Софии и Десятинной церкви.
На лбу врага рода человеческого была отчетливо видна изогнутая отметина, оставленная ангелом Господним в тот самый миг, когда отступника, осмелившегося воспротивиться воле Божьей, низринули в ад.
Взгляд митрополита Никифора встретился с взглядом сатаны. Владыка преисподней свел глаза к носу, и в лицо Никифора ударил яркий луч неземного огня…
Яркий луч света и темный коридор, вот что увидел в последний миг жизни киевский митрополит.
Или в первый миг смерти?
* * *
Боярин суздальский Борис Глебович, прозванный за родовой знак Коловратом, гостил у родного брата Михаила в крепостце, отстроенной недавно князем Юрием Долгоруким на месте вятичского языческого капища Московь. Крепость была так себе, деревянные башни, обмазанные глиной для предохранения от пожаров, да земляные валы с покосившимся уже частоколом, покрывавшимся, как только сходил снег, мягким и осклизлым ковром сине-зеленого мха.
С башенных забрал вся Московь была как на ладони, с теснящимися на макушках холмов постройками и густыми лесами у изножия. Лесами, такими удобными для внезапного нападения на город, если бы не стояли они в низине на влажных глинах, способных остановить любого непрошеного гостя.
Но братьям-боярам нечего было делать в тот вечер на продуваемых всеми ветрами башнях. Сидели Михаил и Борис в тепло протопленной горнице воеводского дома, довольные встречей, беседой, столом, щедро уставленным едой и напитками.
– Забрал бы ты меня отсюда, брат, – говорил Михаил, щедро подливая Борису Глебовичу хмельного меда в расписной деревянный ковш-утицу. – Забери хоть в Суздаль, хоть во Владимир, хоть к черту на рога, не в Страстную неделю будь нечистый помянут! Лишь бы подальше от этой неуемной дикости! Веришь ли, брат, я, воевода княжеский, с горожанами, – слово это он сказал, как сплюнул, – через переводчика общаться вынужден. Вятичи и так говоруны известные, через слово понимаешь, через предложение разумеешь… Так они еще с чудью местной, рыбаками вонючими, породнились, и не только кровь – говор смешали. Хоть святых выноси, авось помогут!
– Путаешь что-то, брат, – отвечал уже порядком захмелевший боярин Борис. – Какая тут чудь? Они ж на севере!
– Не чудь, так мурома или весь, все одно! – отмахнулся московский воевода. – И так, и так – все тошно!.. Представь еще, скоро восемь лет тому, как рязанский князь Глеб пожег город и села вокруг него. И что же? Видел, сколько пепелищ вокруг и поныне? А почему? Ленивы, сволочи! Говорят, им проще в лесу шалаш накидать, чем городской дом заново отстроить. А как я с них в лесу княжеские сборы брать буду? Сам Мономах, царствие ему небесное, себе в подвиг считал по этим землям проехать просто! А мне со здешних дикарей – подать бери? Нет, брат, по-христиански прошу, забери меня отсюда, замолви слово перед князем Всеволодом! Говорят, ты в большой чести у него.
– А обратно потом не запросишься? – прищурил осоловелый глаз боярин Борис. – В глуши-то тихо, из врагов, поди, только медведи да волки… Близость к князю, она ведь, брат, тоже не всегда мед.
– Хоть к черту на рога, – повторил Михаил, с громким стуком поставив опустевший кувшин на стол.
В горнице сильно потемнело, хотя до вечера было еще далеко.
Нет, воевода, не к месту ты поминал нечистого и не ко времени!
Над Московью солнечный диск медленно повернулся вокруг своей оси, открывая скрытую темную сторону. Выскочившие наружу бояре оказались в тесном кольце обеспокоенных дружинников, не понимавших, что происходит. Но Михаила больше беспокоило не затмение высоко в небе, а громкие крики, доносившиеся с вечевой площади, еще с языческих времен занимавшей место за стенами Кремника на широкой части Боровицкого холма.
– Что? Бунт? – спросил воевода, за шиворот остановив одного из воинов гарнизона.
– Люди боятся, – дрожащим голосом отвечал воин, – говорят, конец света близок, мир сворачивается!
– Шеи посворачиваю! – заорал Михаил. – На коней!
Крепостные ворота распахнулись, и суздальские дружинники, присланные сюда князем Всеволодом, помчались на еще различимый в сгущающейся тьме вымпел с родовым знаком Мономашичей, развевавшийся над гридницей, местом суда и торга, фасадом выходившей на вечевую площадь.
Навстречу воинам валил обезумевший от страха народ. В зеленоватых сумерках призрачными казались белые рубахи из холста, неживыми – искаженные в ужасе лица.
– Оборотень! – орали в толпе. – Волкодлак!
– Дикари, – свирепел воевода Михаил, охаживая плеткой тех, кто мчался прочь от площади, кидаясь точно под копыта коня.
– Волкодлак! – продолжали орать в толпе.
Боярин Борис ничего не понимал и старался держаться поближе к брату.
Когда дружинники пробились к вечевой площади, та была уже практически пуста. Только несколько человек оставались здесь, не пораженные общим психозом страха.
А еще на площади был волк.
Боярин Борис никогда не видел хищника таких размеров. Зверь, прижавшийся к утоптанной земле, казался в сгущавшихся сумерках уже не крупным псом – теленком, что ли…
С креплений на стенах дружинники сноровисто поснимали заготовленные к ночи факелы, зачиркали кремнями, и вскоре с треском разгорелось пламя, вернув в город хоть какой-то свет. Волк обеспокоенно вздрогнул, повернув голову в сторону пришельцев.
– Сейчас я его… – прошептал воевода Михаил, вынимая из чехла на седле боевой топор.
– Не торопись, воевода, – произнес старик, неслышно подошедший к дружинникам. – Его сталь не возьмет.
– Кто таков? – ощетинился Михаил. – Как смеешь под руку говорить?
– Человек, – с достоинством ответил старик. – И смею, раз говорю.
Взгляд Михаила зацепился за темный посох, что держал старик в правой руке. Навершием посоха служила человеческая голова, искусно вырезанная и раскрашенная, если свет факелов не обманывал, темной охрой. На старце были длинные свободные одежды и – весной-то! – легкие сандалии из тонких кожаных ремешков, надетые прямо на босые ноги.
– Кудесник? – пролаял Михаил. – Сгинь, не то подпалю, не хуже факела!
– С волкодлаком тебе без меня не справиться, воевода, – настаивал старик. – А потом мы уйдем, не беспокойся.
Московь для соседей-язычников продолжала оставаться городом священным, хоть и оскверненным христианами. По древним праздникам сюда отовсюду приходили паломники, и никому не секрет, кто на самом деле были эти купцы без товара и ремесленники без инструментов. Но московские воеводы закрывали на все глаза. Во-первых, только бунта в этой глуши и не хватало. Во-вторых, стоило ли ссориться с силами, чье могущество проявлялось так ясно? Не далее как прошлой ночью – плохо все же начинается май! – опять видели люди, как со стороны Ваганьково на Кучково поле летел на свой сбор хоровод ведьм.
Воевода Михаил был обязан, по долгу службы, пригрозить кудеснику. Но и он, и сам кудесник хорошо знали, что угрозами все и ограничится.
– Волк – он и есть волк, – заметил Михаил и, размахнувшись, метнул боевой топор прямо в голову хищника, не торопившегося покидать середину вечевой площади.
Промахнуться воевода не мог. И опыт, и расстояние тому порукой. Тем не менее топор рухнул у ног волка, глухо ударившись оземь.
– Не попал! – изумился Михаил.
– Сталь его не возьмет, – повторил кудесник. – Дозволь, боярин, теперь нам.
– Пробуй, – протянул воевода, поглядев на двух юношей, связывавших что-то при свете зажженных факелов. Затем, обернувшись к своим дружинникам, распорядился: – Окружить площадь!
Воины, стараясь не отступать от линии окружающих площадь построек, растянулись по ее периметру. Кони испуганно прижимали уши и тихо фыркали, не сводя глаз с огромного хищника.
Меж тем кудесник мелкими неспешными шагами направился прямо к волку. Он шел безоружным, и только протянутый вперед посох, украшенный резной головой, мог стать защитой человеку от ярости зверя. Защитой, собственно, призрачной, поскольку оскаленные зубы хищника были способны перекусить такую палку за один раз.
Кудесник заговорил, и Михаил подтолкнул брата, державшегося все время рядом, в бок. Вот, мол, послушай это варварское наречие! Славянские слова у кудесника переплелись с финскими и бог весть какими еще, как береста в лукошке опытного мастера, когда не найти ни начала лыка, ни завершения.
Волк слушал, замерев, словно понимал, в отличие от бояр, что говорит старик. Кудесник подходил к нему все ближе и ближе, и боярин Борис с отвращением ждал тот неминуемый миг, когда огромное тело распрямится и волчьи зубы разорвут горло слишком много возомнившего о себе человека.
За кудесником потянулись юноши, то ли внуки старика, то ли его ученики. Один из них держал толстый канат, позаимствованный, видимо, у какого-то рыбака; второй же растягивал в ладонях привязанную к канату широкую волосяную петлю, в которую не без изящества были вплетены разноцветные нити.
В это время на землю пала тьма.
Солнечный диск завершил свой оборот, и мрак праздновал победу. Только горящая неугасимым огнем корона Дажьбога, окружавшая черный диск, отгоняла темноту рядом с ним, но справиться с ней не могла. В темно-синем небе проступили звезды. Пришла ночь, словно настало ее время.
Настало время зла!
Но кудесник не убоялся; и юноши шли твердо, даже с охотой, словно перед ними были не волчьи глаза, светившиеся зеленым ярче звезд, не пасть, усеянная острыми зубами, а брачный алтарь.
Все свершилось за время, достаточное для вдоха.
Старик прикоснулся к ощеренной волчьей пасти своим посохом. Казалось, что резной человек жаждал поцеловать зверя. Юноши в то же мгновение набросили на шею волка волосяную петлю и отбежали зверю за спину, изо всех сил натягивая привязанный к петле канат.
Волк встал на дыбы.
И что это?
Там, где только что был свирепый хищник, оказался невысокий тщедушный человек, совершенно голый, точно только сейчас родившийся. От сильного рывка наброшенной на шею петли он неловко пошатнулся и завалился на спину, болезненно вскрикнув от удара.
Волкодлак – оборотень. Человек, по ночам превращающийся, зачастую без своего желания, в волка. Затмившееся светило обмануло волшебную сущность волкодлака, и с приходом тьмы столпившиеся на вечевой площади московляне с ужасом заметили среди себя огромного волка.
Снова ставшего теперь человеком.
– Прости нас, – сказал кудесник тихо, но услышали его все на замершей полутемной площади.
Старик поднял с земли боевой топор, взмахнул им над головой и опустил лезвие на голову голого мужчины. Заботливо выкованная сталь расколола кости черепа оборотня и воткнулась в землю, очищаясь от налипших частиц мозга.
– Господи, – выдохнул боярин Борис.
– Иначе нельзя, – сказал старик, приближаясь. – Перевертыша в волчьем обличье не взять, а зла причинить он может много.
– Почему же тебя не тронул? – поинтересовался воевода.
– Тояга у меня… Жезл волшебный, – взмахнул старик своим посохом.
По взмаху ли, собственной ли волей, но в это время выглянуло солнце. Диск его завертелся в обратную сторону, возвращая на землю день и надежду.
Воевода, боярин и дружинники задрали головы кверху, впервые, быть может, не раздражаясь от слепящего солнечного света, а когда опустили глаза, то на вечевой площади уже не было ни кудесника, ни его учеников.
Был только труп с расколотой пополам головой.
Волкодлак.
Ночной мрак окутал, вопреки всем законам, природным и божеским, торговый город Тмутаракань. Сильный ветер нес неповоротливые и тяжелые, но могучие и безжалостные водяные валы со стороны Эвксинского Понта к бухте, и многие купцы недосчитались за злосчастные минуты затмения своих кораблей, разбитых в щепы, и грузов, канувших в алчной глубине.
Мрак посреди дня был порождением неведомого бога, чей идол горделиво возвышался в последние месяцы в центре когда-то забытого, а теперь восстановленного святилища. Духом своим, а точнее, тем, что было у него на этом месте, неведомый бог почувствовал, где сердце солнечноликого Дажьбога, и сжал его.
Вскрикнул бог Солнца от боли и удивления и оступился на привычной дороге, исхоженной за прошлую вечность и размеченной на вечность будущую.
Пока Дажьбог выпрямлялся, недоумевая, тьма окутала Тмутаракань, и неведомый возрадовался, поскольку светлые души присмирели, а темные стали еще чернее.
Близился день гнева.
День поражения живого.
День восстановления справедливости, как говорил сам себе неведомый бог.
* * *
– Что это было? – спросил Миронег у черепа.
– Солнечное затмение. Обычное солнечное затмение, одно из многих… Испугался?
– Да.
Миронег был достаточно смел, чтобы признаться в своих страхах. Но боялся он не за себя.
– О чем хотели предупредить боги? И кого?
Череп, как и положено, ухмылялся, глядя пустыми глазницами в лицо человека. И молчал.
– Ты не хочешь отвечать, богиня?
Череп потек, неуловимо, но явно меняясь. Миронег так и не смог уследить, когда вместо выбеленной кости стал смотреть на голову богини; маленькую, с кулак, лишенную тела, но живую.
– Можешь считать это знамением для себя, хранильник, – проговорила Хозяйка. – Или твой учитель не открыл, как хранить самого себя?
– Он учил, что нельзя избежать опасности, прячась от нее. Зло – что охотничий сокол, все равно разыщет.
– Ты хочешь боя?
– Я хочу истины…
– Желание не человека, но бога… Не возносись слишком высоко, хранильник!
Богиня смотрела на Миронега с досадой и нежностью.
– Ты любопытен, человек… Но всего на свете не знают и боги… Хочешь, скажу, что вижу в твоей судьбе? Чтобы понял, что мы не всеведущи?
– Скажи.
– Будет праздник, хранильник, и скоро. Будет радостный пир и веселые гости на пиру. И ты там будешь, но не будет в тебе веселья… Будет много крови, злобы и предательств, будет большая битва, но это не твой бой, и меч твой останется в ножнах.
– Дойду ли я до Тмутаракани, богиня? И что за зло там объявилось?
– Кто знает, хранильник? Кто знает?
И снова в лицо Миронегу скалится череп.
Женщины… Кто может получить от них ответ на свои вопросы?
Что ждет хранильника князя Игоря в Половецком поле? С чем встретятся наши герои?
Степь – тоже женщина, она загадочна…
Но постараемся найти ответы. Наше с тобой путешествие, читатель, еще не закончено.
Седлайте коней, дорога на Тмутаракань будет долгой!
* * *
А в далеком Киеве, забытый на дальней полке большой княжеской библиотеки, потек кровавыми каплями «Некрономикон».
Кровь капала равномерно, словно в водяных часах-клепсидре.
Часах, отсчитывавших последние мгновения определенного срока.
Близится судный день!
Назад: 8. Дорога на Донец – город Корачев. Конец апреля 1185 года
На главную: Предисловие