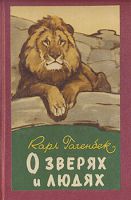Глава четырнадцатая
С ногайских степей пахнуло знойным августом, белые вершины недоступных гор задымились зыбким маревом, а французские гости и студент Петрашка и не думали покидать станицу Стодеревскую. Двое не спешили на родину, будто нашли в крохотном раю под стылым хребтом Большого Кавказа что-то такое, от чего нельзя было оторваться, не оставив здесь части своей души, третий же, Петрашка, тоже маялся нудной болью, испепелявшей его изнутри. Многочисленные члены семьи лишь поглядывали на них, но ни о чем не спрашивали. Все было ясно и без расспросов. Мадемуазель Сильвия и месье Буало даже помогали по хозяйству, всячески стремясь не быть обузой для большого семейного клана. Впрочем, их никто не прогонял, а в последнее время даже стали принимать за своих.
Студент старался реже попадаться на глаза отцу, целыми днями пропадая на рыбалке и на охоте. Он помнил о строгом наказе батяки после отпуска отправляться за границу. Но полковник будто забыл о своем обещании, окунувшись в заботы, которых с увеличением семьи заметно прибавилось.
Глядя на страдальцев, и Захарка с Ингрид, которую здесь все быстро стали звать Иришкой, не торопились отправляться в Санкт-Петербург. Их с французами связывала какая-то тайна, которую они не переставали обсуждать, уединяясь в дальние углы хаты, заставлявшая их переносить сроки совместного отъезда.
Прощание гостей с домом Даргановых постоянно откладывалось. Все словно ждали развязки запутанного любовного узла, от которого старшая из сестер Аннушка тоже спала с лица, позволив под темными своими глазищами образоваться лиловым кругам. Или смелого поступка кого-то из участников любовного треугольника, в результате которого был бы разрублен этот узел, соединявший столь многих людей. Но этого не происходило и могло вообще никогда не произойти из-за сурового казачьего уклада жизни, во многом схожего с горским. И когда наступил бы последний срок, молодые люди, источенные чувствами как спелое яблоко червяками, разъехались бы в разные стороны влачить свою судьбу дальше. Только звездный плащ жизни, весь в прорехах от неразделенной любви, уже не согревал бы их как вначале пути, он ниспадал бы с плеч рубищем нищего, для которого и медный грош за счастье.
Надвигалась очередная операция русских войск по зачистке от многочисленных банд абреков Большой Чечни и примыкающего к ней Дагестана. Казалось бы, что еще горцам нужно было доказывать, если Азербайджан, Армения, Грузия, некоторые районы Ирана и Турции считались уже законными владениями Российской империи, а чеченцы с дагестанцами проживали в ее глубоком тылу. Но неуловимый Шамиль снова собирал под знамена ислама отряды своих соплеменников и направлял их на караваны, на палаточные солдатские лагеря, контролируя ущелья и дороги вплоть до грузинского Крестового перевала и господствуя на заоблачных вершинах гор до границ тех же Турции с Ираном. Мощное государство не могло пока справиться с басурманом и предать его суду, куда более снисходительному, чем тот, который он сам учинял русским солдатам и офицерам, попавшим к нему в плен. А может, никто из столичных чинов и не думал унимать разбойника, потому что тогда упали бы доходы купцов и заводчиков, снабжавших армию всем необходимым. Капитал дробил косточки невинных людей, превращая их в звонкую золотую монету и бумажные ассигнации, тем же золотом обеспеченные. И это больше походило на правду.
Полковник Дарганов завершал объезд постов, выставленных вдоль левого берега Терека от въезда в станицу до выезда из нее. Эту обязанность он всегда исполнял сам, если из штаба казачьих войск в Моздоке приходила цидулка об усилении мер предосторожности. Она значила, что скоро солдаты начнут наводить деревянные переправы через горную реку, интенданты подтянут к ней обозы с продовольствием и с амуницией, а потом наступит черед стрелковым ротам переходить на правую сторону Терека и скорым маршем углубляться в горные теснины, эти цитадели неуловимых разбойников.
Станичному атаману, возглавлявшему сейчас небольшой отряд казаков, оставалось заглянуть на кордон, не так давно перешедший под начальство племяша Чигирьки, и отбывать домой. Набеги разбойников на усадьбу за спрятанными в ней сокровищами пока не возобновлялись, но это могло случиться в любой момент. Данное обстоятельство тоже добавляло хлопот хозяину дома, заставляя его наперед заботиться о безопасности семьи и гостей. Дорога тянулась по лесу, изредка в кустах подавали голоса разные чакалки. Подумав о том, как быстро летит время, Дарган усмехнулся в усы. Надо же, еще вчера Чигирька ходил в малолетках и мечтал о чине урядника, а теперь станичники сами избрали его своим командиром и настояли на присвоении ему звания подхорунжего. Огладив бороду, атаман покачал головой и осмотрелся вокруг.
Казаки выехали из леса, кони тряской рысью заспешили по лугу со сметанным в стожки пахучим сеном. За лугом темнела стена камыша с коричневыми махалками, полными созревших семян, за ней возвышалась деревянная вышка, на которой стоял наблюдатель. Уже можно было различить, как он перегнулся через перила и прокричал что-то вниз, наверное, предупреждал секретчиков о приближении начальства. В этот момент от одного из дальних стожков донесся сдавленный стон, заставивший казаков моментально натянуть поводья. Двое терцев из атаманского сопровождения взяли то место на прицел.
Дарган прислушался, по-животному потянул воздух тонкими ноздрями, пытаясь уловить запахи дыма и жареного мяса, которые часто исходили от абреков, но ничего подобного не обнаружил. Атаман уже хотел подъехать к копне поближе, чтобы разобраться в причине на месте, когда тишину разорвал заполошный женский вопль. Он хлестко резанул по ушным перепонкам казаков, заставив их дать шпоры коням и вихрем подлететь к придавленному жердинами стожку. От него уже отбегала женщина с задранным подолом и измазанными кровью ногами, испуганное лицо ее было перекошено гневом.
— Ту сэ кушри… — выбросила она из себя короткую фразу и повторила, глядя в середину копны: — Кушри…Кушри!
Дарган потянулся было сначала к пистолету, но затем пальцы его правой руки машинально обхватили рукоятку шашки. Он еще не понимал, что произошло с девушкой и кто тот человек, к которому она обращается, но память услужливо начала подсказывать ему, что кое в чем подобном он и сам когда-то был виноват.
Солнце закатилось за пушистое облако, по лугу побежали торопливые тени, усиливая картины прошлого. Меж тем молодая женщина вдруг скорчилась от боли и попыталась затолкать конец подола платья между ног, не переставая сыпать чужими проклятьями. Она по-прежнему не замечала остановившегося невдалеке от нее казачьего разъезда, видимо, находилась в полной прострации. Станичники недоуменно переглядывались, не торопясь приближаться к потерпевшей и не сводя глаз со стожка сена, сильно взлохмаченного сбоку.
— Сэ фашер контре… кушри… — продолжала бессвязно бормотать незнакомка, не зная, за что приниматься. — Жуир де… луттер контре… Ту сэ кушри! Напряжение возрастало, из углубления в копне до сих пор не доносилось ни единого звука, а это наталкивало служивых на мысли, что девушка или сама напоролась на что-то острое, или решила разыграть перед разъездом жуткий спектакль. Но к чему она его затеяла и какую выгоду искала, никто из казаков не мог себе представить. Да и как она очутилась вдали от станицы в тревожную для всех пору? Станичные скурехи никогда не выходили по одной за околицу, они знали, что за каждым их шагом с горных круч следят джигиты, готовые умыкнуть юных казачек и сделать их или женами, или пожизненными рабынями на своих скудных полях среди заоблачных скал.
Наконец Дарган громко звякнул ножнами о стремена и кашлянул в кулак.
— Милая, ты бы сначала развернулась к нам передом, — с нотами сожаления в голосе попросил он. — А потом мы хотели бы послушать, что с тобой приключилось.
Девушка вздрогнула и быстро обернулась, на ее удлиненном лице отразилась новая волна испуга. Дарган на мгновение замер в седле, затем непроизвольно сунулся вперед, стараясь получше рассмотреть незнакомку, укрытую копной растрепанных волос. В глазах у него заплясал блеск недоумения, а на скулах принялись перекатываться крепкие желваки. Молодая женщина тоже громко вскрикнула и прижала руки к груди, по ее внешнему виду можно было определить, что подобной встречи она тоже не ожидала.
— Никак французская мамзелька, — ошалело протянул один из верховых. — Похоже, Дарган, что это гостья с твоего подворья.
— А зачем она сюда притащилась? — с сомнением пожал плечами другой казак. — Дома, что ли, не сиделось?
— Тараска, а ну глянь под копну, — вступил в разговор третий. — Не видно ли там и француза? Они же вдвоем к нам в станицу прибыли.
Но шустрый малолетка, к которому обратился старослужащий, ничего сделать не успел, потому что из углубления в копне показался молодец в черкеске и при оружии. Он оправил на себе платье, сдвинул папаху на затылок и только после этого развернулся лицом к станичникам. Глаза патрульных округлились от удивления, они как по команде посмотрели на своего командира, который оторопел от увиденного больше всех остальных. Это был его младший сын Петрашка.
Сначала у Даргана скакнули вверх брови, затем сам собой раскрылся рот. Он одурело покрутил головой, снова воззрился на незнакомку, по-прежнему стоящую перед ним с задранным подолом платья и с потеками крови по ногам, перевел взгляд на молодца И вдруг одним разом сломал черты своего мужественного лица, превратив его в маску хищного зверя, увидевшего жертву. Правая рука полковника рванула из ножен клинок, а левая дернула на себя поводья, принудив кабардинца подняться на дыбы. Ему оставалось послать коня вперед, к появившемуся из стожка казаку, и пустить острое как бритва лезвие под его подбородок, чтобы подравнять без того прямые плечи.
И тут раздался громкий возглас провинившегося, в котором несмотря ни на что чувствовалось внутреннее спокойствие:
— Батяка, она сама пошла со мной! — Петрашка облизал вмиг пересохшие губы. — Француз для нее никто, а мы друг друга любим.
Но было уже поздно, атаманский жеребец, ведомый твердой рукой, взвился над стерней, на мгновение распластался над ней будто в полете и опустился в вершке от возмутителя спокойствия. Шашка со свистом описала полукруг, готовясь обрушиться на его голову, лезвие уже пересекло ту незримую черту, после которой можно было бы заказывать поминальную молитву. В этот момент молодец бросил свое гибкое тело под грудь скакуна, на котором сидел его отец, он изловчился схватиться за уздцы и с силой завернуть его морду вверх. Кабардинец взвизгнул, дробно заплясал на месте, припадая на все четыре ноги и выворачивая шею на бок. Полковничий клинок сделал в воздухе немыслимое сальто и опустился к стремени седока, едва не поранив лошадиную шкуру.
— Батяка, на мне вины нет, — оскалился казак на родного отца. В его темных глазах запылал огонь, говоривший о том, что терпения у парня может и не хватить. — Она отдалась мне по доброй воле. Я тоже люблю ее, по-настоящему.
— Прочь с дороги! — рычал атаман, уязвленное самолюбие которого требовало немедленных действий. — Зар-рублю паршивца! Честь рода Даргановых надумал опозорить!?
— Чести нашей семьи никто не затронул, — Петрашка продолжал выкручивать холку скакуну. — Я сказал тебе правду.
— А ты знаешь, поганец, что после твоего паскудства по станице пойдут пересуды? Тогда куда прикажешь нам деваться?
— Не будет пересудов, у нас все полюбовно.
— А про ее кавалера забыл? Он за эту девку тебя шпагой проткнет.
— Буало с Сильвией — люди чужие. Мы с ней хотим быть вместе, навсегда.
Последнее слово, произнесенное с напором, будто отрезвило Даргана, он хапнул воздух полной грудью, откинулся назад и застыл на спине жеребца, наконец-то вырвавшегося из цепких рук молодца и принявшегося громко фыркать. Так продолжалось несколько томительных мгновений, пока бледное лицо полковника не осветил луч солнца, выскочившего из-за облака. Атаман шумно перевел дыхание и обвел окружавших его станичников бессмысленным взглядом.
— Месье Дарган, — послышался робкий голос девушки, по-прежнему стоявшей в напряженной позе в стороне от всех. — Месье Дарган, же се венье…
— Ты посмотри, она еще что-то соображает, — усмехнулся один из верховых казаков.
— А чего с ней станется. Все они живучие как кошки, — откликнулся его товарищ. — Что наши, что французские.
Сильвия сделала шаг вперед и воздела руки вверх, она будто не замечала задранного подола и голых своих ног. Впрочем, было заметно, что она не собиралась одергивать своего платья, этим как бы намекая, что сделанного уже не переиначишь:.
— Месье, камараде… же венье… Симпазис авес, — тужилась она что-то сказать, напрочь забыв те немногие русские слова, которые успела заучить за время пребывания в гостях у казаков.
— Видал ты, Петрашка ее снасиловал, как это по-ванзейски, невинность привер. А она про симпатию гутарит.
— Так и есть. Ей бы надо, это… адмир, что она такая красивая.
— А Петрашка-то наш ловок. Взял девку, не мытьем так катаньем. Он эту мамзельку с первого дня обхаживал.
Француженка повернулась на голоса казаков, ее тонкие брови сошлись к переносице. Видимо, девушке не понравилось обсуждение их с ее возлюбленным поведения. Вскинув ладонь, она вмиг превратилась в женщину, поступки которой не имеют права на их обсуждение:.
— Же протест контре… — твердо проговорила она и повторила, — Же протест! — затем снова указала рукой на своего насильника и опять попыталась улыбнуться. — Же… симпазис авес, месье, камараде. Ла мур…
— Ну иноземка! У нее кровь по ногам бежит, а она заладила про любовь, — удивился Тараска.
— Ламур для дур… Бабы, что с них взять, — хохотнул его сосед.
— Как говорится, ума нет — считай калека, — со смехом подхватил другой патрульный. — Станичники, заворачивай коней, у нас такое случается чуть не перед каждой свадьбой, только шума никакого. А если у них по-серьезному, как намекнул Петрашка, то пускай сами между собой и разбираются.
Дарган всадил шашку в ножны, затем втянул воздух через ноздри и, выхватив из-за голенища ноговицы нагайку, принялся охаживать ею своего младшего, враз пригнувшегося под ударами. Он трудился так старательно, что по лицу побежали ручьи пота, но казаки, знавшие толк в этом деле, видели, что и взмахи были не те, и оттяжки не такие, какими им положено быть в подобных случаях. В сознании атамана все отчетливее проявлялся образ молодой француженки, которую точно так же он подмял под себя на далеком острове Ситэ, который находился посередине реки Сены, в центре города Парижа. И чем ярче вырисовывался этот образ, тем быстрее сила из мускулов переливалась в его скулы, заставляя издавать зубовный скрежет. И чем дольше казак нахлестывал студента, тем оживленнее становились лица станичников, тем испуганнее таращилась на него француженка. В конце концов она не выдержала, подбежала к полковнику, вырвала у него витую плеть и отбросила ее в сторону. По лугу разнесся раскатистый казачий гогот, в котором не было ни тени фальши.
Ранним утром Дарган, набросив на себя лишь рубашку, поспешил на конюшню, занимавшую всю заднюю сторону широкого база. Он не поцеловал, как обычно, полусонную Софьюшку, вместе с ним настроившуюся на домашние дела, потому что со вчерашнего дня огромный дом превратился в растревоженный улей. Он вообще не желал никого видеть и ни с кем говорить.
Все разговоры в доме шли о поступке Петрашки, лишившего невинности французскую мадемуазель. Панкрат, ухмыляясь в усы, скрывал свое веселое настроение за отрывистыми фразами, его жена Аленушка выглядывала из-за ситцевой занавески, отделяющей их спальню от общей горницы, и когда замечала проходящего мимо Петрашку, пыталась ему подмигнуть. Захар с Иришкой старались держаться особняком — сразу после трапезы они отправлялись гулять по станичной улице. Так же вела себя и самая младшая в семье, Марьюшка. Она убегала к скурехам, собиравшимся полузгать семечки на площади перед лавкой.
Лишь Аннушка посматривала на домашних испуганным, вопрошающим взглядом, в котором можно было угадать самое сокровенное ее желание. Мол, она тоже не прочь была бы отчебучить что-нибудь эдакое, лишь бы потом не остаться в дурах. Но когда ей доводилось встречаться глазами с Буало, девушка тут же опускала голову и упиралась зрачками в пол.
Сам кавалер, как ни странно, отнесся к этому известию более чем спокойно, он не схватился за шпагу, не стал заряжать свой пистолет, даже не подскочил к Петрашке с кулаками. Узнав о произошедшем, Буало подошел к спутнице и молча поцеловал ее в щеку, словно благословлял бывшую свою невесту на супружество с терским казаком. И этот его поступок еще больше разрядил напряженную поначалу обстановку в доме, предоставив всем членам семьи возможность отдаться ночному отдыху без пересудов и ругани.
Осмотрев стойла и подсыпав коням овса, Дарган подошел к своему любимому золотистому жеребцу, сунул в его мягкие губы присыпанную солью корку хлеба и зарылся пальцами в жестких волосах на холке, будто выкрашенных в желтые и коричневые полосы. Постояв немного, он приткнулся лбом к звездочке на лошадиной морде:
— Такие вот дела, Эльбрус, придется нам расстаться с алычиной, которую я вплел в твою гриву, — негромко проговорил он. — Она понадобилась французскому народу. А мы с тобой таскали этот дивный алмаз как обыкновенный оберег, освещенный станичным уставщиком.
Кабардинец шумно вздохнул и покосился на хозяина выпуклым лиловым глазом. Переступив задними ногами, он пошарил по лицу Даргана толстыми губами и в знак солидарности коротко всхрапнул. Атаман похлопал его по холке, затем нащупал талисман и начал распутывать жесткие волосы. Когда тяжеленький и твердый комок очутился у него на ладони, он снова склонился к конской холке.
— Кто его знает, спасал нас этот алмаз от бед и несчастий или нет, но нам с ним было спокойнее. Хотя мы с тобой знали, что это обыкновенный камень, разве что блеску будет побольше, — неуверенно пробормотал Дарган и добавил, как бы успокаивая себя: — Чужой он, понимаешь? А ежели не наш, то и нам не нужный.
Верховая лошадь покивала и потянулась к кормушке с овсом, на крепких ее зубах захрустели плотные зерна. Убедившись в очередной раз, что скакуну все равно, что его хозяин вплетет ему в гриву, атаман повертел амулет перед своими глазами, чтобы еще раз полюбоваться исходящим из него светом. Но в конюшне было темновато, лучи солнца врывались только в дверь да пробивались сквозь редкие прорехи в крытой чаканом крыше.
Дарган прошел к выходу, нашарил в кармане складной ножик и принялся соскабливать с алычины толстый слой грязи. Скоро серебряные проволочки, опутывавшие плотное ядро, отозвались голубоватым свечением, они заискрились сложными переплетами, мешая рассмотреть то, что скрывалось за ними. Дарган набрал слюны и плюнул на сетку, сбивая блеск, одновременно размягчая затвердевший между ячейками навоз. Наткнулся взглядом на ведро с водой, стоящее в углу конюшни, опустил туда оберег и пополоскал его в нем, постукивая по железным бокам. Работа пошла веселее, грязь начала вываливаться кусками. Когда ее почти не осталось, полковник снова сунул амулет в ведро, долго ковырял ногтями проволочную сетку, потом вытащил свой талисман из воды и протер его насухо подолом рубашки. Он хотел передать драгоценную вещь французам во всей ее красе, чтобы у них и мысли не возникло о том, что камень может быть не настоящим. Он-то знал, каким светом осколок незнакомой жизни может осветиться, как умеет завораживать глаза и делать мешковатым тело. Но когда Дарган закончил протирание и подставил ладонь с лежащей на ней алычиной под упругий солнечный поток, дыхание у него надолго свернулось в кубок внутри груди. Показалось, что весь мир, который переливался перед ним разноцветными красками, пропитался одним голубым сиянием, искристым и холодным, проникающим тонкими иглами в самое сердце, даже протыкающим его насквозь. Он почувствовал эти уколы везде — от макушки до самых ступней, они пробирались вовнутрь живота, в бедра, в шею. Даже в мозги, заставляя их подчиняться неведомой силе и мечтать только об одном, о том, откуда пути назад уже не было. Огромным усилием воли Дарган сумел захлопнуть веки и опустить ладонь вниз, но манящие голубые звезды с искрами вокруг них и не думали исчезать, они продолжали водить хоровод внутри него, стараясь затянуть душу в свою леденящую метель и вместе с нею оставить там навсегда и его самого. Казачий атаман ощущал, как раскачивает его из стороны в сторону, словно много дней подряд он не слезал с седла, как наполняется его плоть холодом, становясь сосулькой в храме из голубого мрамора. Их было много, этих обыкновенных сосулек, в просторных залах, заполненных лишь мерцающим воздухом. И там было приятно, как ни странно и противоречиво, еще и тепло. Оставалось сделать всего один шаг, чтобы присоединиться к бездуховности и заледенеть в ней навеки.
— Дарган!..
Казак встрепенулся, стараясь уяснить, откуда послышался голос. Чтобы поскорее вернуться к привычным заботам, полковник заставил себя набрать полную грудь пропитанного солнцем воздуха, и сразу пришло облегчение, в нос ударили привычные запахи, а в волосах загудела муха, запутавшаяся в них.
— Дарган, что ты там делаешь? — вновь спросила Софьюшка.
— А что такое? — стряхивая с себя остатки наваждения, посмотрел он в ее сторону. — Я задавал коням овса.
Софьюшка подошла поближе, заглянула мужу в глаза, затем взяла его за руку и негромко проговорила:
— Ты в дом один сейчас не заходи, — она помолчала, поправляя под мышкой какой-то предмет, приподнялась на носках чувяков, пошарила губами по заросшей щетиной щеке супруга, по открытой его шее и ласково шепнула в ухо: — Мы с тобой через порог вместе перейдем.
— Ну, как скажешь, — согласился он, приминая пальцами к ладони твердый амулет, и подумал о том, что женщины везде одинаковые. Скорее всего, наступил какой-нибудь праздник и нужно соблюсти старинный обряд. — А я вот камушек выплел из гривы коня, бриллиант этот, который из короны короля Людовика. Как раз твоим землякам его и отдадим.
В горнице Софьюшка, всегда пропускавшая Даргана вперед, вдруг выскользнула из-за его спины и встала с ним рядом. Атаман поморгал, давая глазам привыкнуть к свету, приглушенному занавесками на окнах, и вдруг в ноги к нему кинулась Аннушка, она обхватила ноговицы руками и сунулась лицом к отцовским ступням. Дарган покрутил головой и недоуменно уставился на супругу, он никак не мог понять, в чем провинилась старшая дочь, и неожиданно заметил, что Софьюшка выставляет перед собой икону, которой когда-то благословлялась на замужество его мать, а перед ней — его родная бабка. Старообрядческая икона была намоленная, она переходила из поколения в поколение.
— Что это с ней? — не отрываясь от лика святого и одновременно указывая рукой на дочь, спросил Дарган у жены.
Он снова осмотрел горницу и заметил кавалера в шляпе, в ботфортах и при шпаге, на пальцах у него посверкивали несколько богатых перстней. По обе стороны от него пристроились члены семьи, на лицах их отражалась значимость события, о котором полковник еще не догадывался. Петрашка с французской мамзелькой прижимались друг к другу, по их напряженным фигурам ощущалось, что они тоже, несмотря на великую провинность перед казачьим укладом жизни, хотят что-то сказать.
Атаман повернулся к родным.
— Да что сегодня с вами?
И вдруг услышал робкий голос Аннушки:
— Благословите, батюшка с матушкой. Не могу я без него.
— Без кого ты не можешь, доча? — в который раз за последнее время ошалел Дарган.
— Без Буалка этого, француза в высоких сапогах. Люблю я его, проклятого.
Пока атаман метался взглядом по кругу, не зная, на ком его остановить, кавалер подкрутил усы, затем снял шляпу, прижал ее к груди и встал рядом с Аннушкой. В его глазах отражалась светлая озабоченность, он даже не подумал посмотреть в сторону своей недавней невесты и спутницы в одном лице.
— Я тоже желаю, чтобы вы, месье д'Арган, и вы, мадам Софи, по казачьему обычаю освятили мой союз с вашей дочерью мадемуазель Анной, — уверенно заявил он и так же без сомнений добавил: — Я полюбил эту девушку, как только переступил порог вашего дома. Обязуюсь заботиться о ней и уважать Анну до конца своих дней.
Не успел Дарган осознать, что происходит в его доме, как рядом с первой объявилась вторая пара. Теперь московский студент, как минуту назад кавалер, склонил перед отцом с матерью свой непокорный чуб, а его подруга опустилась на одно колено.
В этот момент послышался негромкий шепот Аленушки, обращенный к мужу:
— Надо было не Аннушке, а нашему Захарке с Иришкой встать под благословение первыми. За ними Петрашка с француженкой, а потом уже сестрице твоей.
— А ты бы сумела упредить Аннушку? — одернул ее Панкрат, не дававший баловаться своим детям, стоявшим рядом с ним. — За ней сам черт никогда не угонялся.
Больше никто из домашних не обратил внимания на невольное отступление от казачьих правил, потому что все они принимали участие в обряде, подоспевшем как тесто для подового хлеба.
Тут и Петрашка наконец прочистил горло и с дрожью в голосе произнес, тоже с нарушением очереди:
— Батяка и мамука, благословите и нас на совместную жизнь. Я полюбил Сильвию, она ответила мне взаимностью.
— Ви, месье д'Арган, — эхом откликнулась девушка и добавила, с трудом подбирая русские слова. — Я люблю своего Пьера, я хочу за него замуж.
Дарган машинально потянулся рукой к пуговицам, до него только сейчас дошло, что он красуется перед детьми в рубашке и в заправленных в ноговицы брюках. Папаха, черкеска, пояс с оружием и даже неизменный казачий атрибут на все случаи жизни — нагайка — остались лежать в комнате. Он повернулся в сторону двери, ведущей в их общую с Софьюшкой спальню, собираясь поспешить туда, но жена одернула мужа. Она сдавила его локоть пальцами и снова молча воззрилась перед собой, ожидая продолжения обряда.
И оно не заставило себя ждать. Вслед за Петрашкой и Сильвией пред родительскими очами предстали Захар и Ингрид, до сей поры как бы со стороны наблюдавшие за происходящим. Новая пара присоединилась к двум другим, в глазах у них горел тот же негасимый огонь любви. У полковника в мозгах замутилось окончательно, к такому повороту событий он совсем не был готов. Захар снял с головы папаху и склонил белобрысый чуб, его шведская пассия последовала примеру французской мадемуазели, она грациозно опустилась на одно колено и уставилась в раскрытые перед собой ладони, словно принялась читать Библию.
— Отец наш и мать, мы тоже становимся под ваше благословение, — торжественно сказал Захар. — Я люблю Ингрид и без нее не представляю своей жизни.
— Господин Дарган и госпожа Софи, мой суженный сказал правду, — с едва заметным акцентом тихим голосом пролепетала шведка. — Я очень люблю Захара, одного из ваших сыновей и моего жениха, и хочу выйти за него замуж.
Аленушка, державшая за руку Павлушку, собралась было прыснуть в кулак, ей, привыкшей к жестким горским законам, было неудобно наблюдать за братьями и сестрой мужа, которые не соблюдали никаких правил.
— У них все получилось шиворот-навыворот, — ткнулась она смеющимся ртом в плечо супруга.
— В нашей семье все происходит как надо, — не поддержал ее Панкрат. Он поднял правую руку, перекрестился и поставил точку в разговоре с женой: — Значит, так было угодно самому Богу.
Наконец Дарган опомнился, провел ладонью по лицу и внимательно присмотрелся к выстроившимся перед ним молодым парам.
Прежде чем взять икону из рук Софьюшки, он спросил, ни к кому не обращаясь:
— А какой у нас сегодня день?
— Яблочный Спас, батяка, — хором ответили сыновья.
— Яблочный Спас, Дарган, — подтвердила Софьюшка. — Самый любимый в народе летний праздник.
Атаман взял у жены икону и поднял ее на уровень груди. Все три пары тут же опустились на колени.
— На яблоки нынешний год был урожайным, — как бы про себя сказал Дарган, затем согнал с лица все сомнения и загудел по примеру станичного уставщика: — Благословляю Захарку с Сильвой, Петрашку с Иришкой, Буалка с Аннушкой на счастливую совместную жизнь. Пусть она будет у вас такой же полной, как этот урожайный год, и пусть в ваших семьях никогда не смолкают детские голоса. Отцу и сыну и святому духу, аминь.
— Аминь! — эхом отозвалась большая семья.
В августе у православных верующих столько праздников, сколько их не наберется ни в каком другом месяце года. Тут и Илья Пророк, который лишь в свой день мочился в воду, отчего она становилась холодной и купаться в ней было уже нельзя, и Почаевская, и Смоленская, и Иуда Маккавей — этот к православию вообще был сбоку припеку. Здесь и Успенский пост с Яблочным Спасом с созревшими овощами и фруктами, за которым следовала сама Пречистая. Гуляй, если на то есть желание, и благословляй Господа, давшего людям столько радостных дней.
Не обошел стороной знойный август и семью Даргановых, одарив ее сразу несколькими знаменательными событиями — приездом сыновей, набегом неведомых ранее родственников по линии Софьюшки, а под конец еще и тройной свадьбой. По такому случаю гудел не только дом станичного атамана, гуляла вся станица Стодеревская. Наехали в гости казаки из других станиц по Кизлярско-Моздокской линии, заглядывали русские солдаты и офицеры, даже горцы и степняки. Были и турки с греками, промышлявшие по правому берегу Терека разными товарами.
Но всех притягивало к дому Даргановых не хлебосольное раздолье, такое на Кавказе было не в новинку, и даже не то, что хозяином праздника являлся сам станичный атаман, а то, что в одном доме в один день праздновалось сразу три свадьбы. О подобном терские казаки никогда не слышали, потому что жизнь по соседству с воинственными горскими народами сплошь состояла из опасностей. И чтобы все три сына как один дожили до своих свадеб, такого тоже припомнить никто не мог. Добавляло грусти лишь то обстоятельство, что все виновники торжества скоро должны были уезжать из гостеприимного дома. Это играло роль той самой плетки, заставлявшей гостей пить вино восьмистаканными чапурами и закусывать питье свиными окороками и бараньими лопатками. Через месяц ведь не придешь и не напомнишь Даргановым, какую услугу пришлось оказать, когда свадьба катилась по станичной улице колесом от цыганской брички. Казаки и прочие гости вволю пили, громче обычного славили молодоженов и показывали свою удаль в песнях и танцах.
Урожайный август подкатился к концу, вместе с ним все дальше уходили русские полки и приданные им казачьи сотни. Они углублялись на территорию горной Чечни и заоблачного Дагестана, оставляя позади себя, казалось бы, мирные аулы с присмиревшими горцами. В этот раз ни один из членов большой семьи Даргана Дарганова не пошел воевать, зато в поход отправились Чигирька и Тараска, сыновья родного брата атамана, подъесаула Савелия, да подросшие наследники его кумовьев. На свекров судьба полковничий дом обделила, эти близкие родственники жили далеко, в Европе. Но и без отцов иноземных жен, окрученных с братьями Даргановыми, родни на просторном атаманском базу, как и снаружи его, было достаточно. Именно один из своих, крестник Панкрата, и летел сейчас на дончаке вдоль станичной улицы, распушив полы рубашки и нахлестывая лошадь нагайкой. Мальчик лет десяти спешил прямо к воротам.
— Хорошо держится, стервец, — заметив его, с удовлетворением буркнул себе под нос Панкрат, который как раз собирался побывать на дальних кордонах. — Как только Чигирька вернется из похода, надо будет этого мальца приставить к нему.
В конюшне за спиной сотника возились со своими лошадьми Захарка и Петрашка, рядом с ними приводил в порядок тарантас кавалер. Он решил на этой коляске увезти Аннушку в далекую Францию, не подозревая, что терская казачка чуть ли не с рождения прекрасно умела держаться в седле.
— Крестный Панкрат! — еще издали заблажил пацаненок. — Крестный, абреки выкрали вашу тетку Марью с меньшим твоим Басаем.
— Кого выкрали!? — все так же тихо переспросил сотник, чувствуя, как в груди у него начинает разрастаться пузырь ледяного холода. — Что ты там городишь, Никитка?
Мысли Панкрата заметались, пытаясь устремиться в нужное русло. Он помнил, что после обеда Марьюшка вместе с его младшим сыном пошла на площадь перед ларьком, где собирались девки. Скоро она должна была вернуться, потому что солнце уже коснулось горных вершин и время подошло к ужину. Аленушка давно не единожды выглядывала в окно.
Сотник прильнул к жердинам плетня, малец натянул поводья как раз напротив него.
— Что ты сказал, Никитка? — посмотрел на пацана Панкрат. — Повтори, а то я не расслышал. Дюже далеко было.
— Тетку Марью с Павлушкой абреки забрали в полон, — захлебываясь словами и слюнями, крикнул казачонок. — Они вышли за околицу встречать стадо, а тут налетели разбойники, отбили их от пастуха и привязали к своим лошадям.
Панкрат невольно отшатнулся, не в силах сдержать ярости, он рявкнул в пространство:
— Кто их туда посылал, этих неслухов? — он схватился рукой за луку седла. — Где абреки сейчас?
— Наверное, уже через реку перешли, — оглаживая танцующего под ним скакуна, пояснил малец. — Разбойники захватили пленных и шибко побежали к Тереку.
— Вы с пастухом узнали хоть кого из них? — уже в седле спросил есаул.
— Кажись, их главарь похож на сына одного из убиенных братьев Бадаевых. Это мне Ефимушка передал.
— А где тот Ефимушка сам?
— Стрелили его, прямо на дороге лежит.
Панкрат краем глаза заметил батяку, вышедшего на площадку крыльца. Атаман успел услышать рассказ Никитки.
Он повернулся к конюшне и крикнул возившимся там мужчинам:
— Захарка, седлай моего Эльбруса, — Дарган сбежал со ступенек, на ходу застегивая ремень с оружием, и оглянулся на выскочившую из дома жену. — Софьюшка, подай ружье. На конь, сынки!
Пятеро всадников перешли в бешеный намет прямо от воротных столбов, они проскочили станичную площадь и помчались по направлению к лугу. По мере их продвижения к околице к ним присоединялись все новые верховые, одетые кто во что горазд, но все как один при оружии. Всех их успел всполошить тот самый Никитка. Курени остались позади, под копыта коней легла успевшая подрасти луговая стерня с небольшими копнами просушенного сена. Скоро перед мордами скакунов выросли махалки прибрежных камышей. Прорвав узкую полосу сухостоя, всадники вылетели на берег Терека и остановились как вкопанные. В лучах заходящего солнца был виден другой берег, тихий и пустынный, с заснеженными вершинами гор за ним. Словно не было там ничего кроме корявых зарослей чинарового леса чеченского аула, темнеющего своими плоскими крышами, да этих ледяных пиков.
— Абреки не могли уйти далеко, — высказал кто-то догадку. — Они спрятались где-то поблизости.
Панкрат рывком завернул морду своего кабардинца, перекинул ружье на грудь:
— Батяка, надо переправиться на ту сторону и прочесать лес. Они схоронились в нем, — крикнул он в запале. — Посчитай сам, сколько времени прошло с их появления возле станицы.
Дарган покусал конец уса, нервно потеребил уздечку. Ему тоже хотелось поскорее встретиться лицом к лицу с врагом, но трезвые мысли мешали бросить коня в упругие водяные струи, чтобы продолжить погоню. Он понимал, что время упущено.
— На том берегу мы успеем разве что войти в чащу, как солнце закатится за вершины гор. Ты об этом подумал, сынок? — сдерживая кипевшую в нем ярость, сказал он. — Даже если абреки и вправду поскакали лесом, то в нем тоже две дороги. Одна ведет к аулу, а вторая — к входу в пещеру, которая проходит под горным хребтом.
— Тогда зачем мы теряем время? — вскинулся сотник. — Надо разделиться на две группы и встретить разбойников на тех выходах из леса.
Дарган подъехал к старшему сыну.
— Посмотри на небо, Панкрат, — указал он рукой вверх. — Я говорил тебе о потерянном времени, а теперь скажу о наших кровниках. Не сомневаюсь, что это дело рук выросших сыновей братьев Бадаевых, решивших отомстить нам за своих отцов. Оба ночхоя давно разговаривают со своим аллахом и по твоей воле тоже.
— Что предлагаешь ты? — скрипнул зубами сотник. Он не в силах был удержать в себе тревогу за сына и свою младшую сестру. — Говори скорее, отец, иначе солнце и правда успеет скрыться за гребнем.
Атаман медленно огладил ладонью бороду.
— Сначала нам нужно отпустить в путь-дорогу наших гостей. Я не хочу подставлять их под разбойничьи пули. Я уверен, их судьба будет намного лучше нашей.
— Правильно говоришь, батяка, — глухо процедил старший сын.
— Лишь после этого мы займемся вызволением Марьюшки и Павлушки из татарского плена. Я знаю, в каких саклях живут семьи Бадаевых, — Дарган посмотрел в сторону чеченского аула, и в глазах у него сверкнул мстительный огонек. — На этот раз пощады им не будет. Никому!..
Захарка кашлянул в кулак и нарушил тишину, присевшую было на концы казачьих усов:
— Я не уеду отсюда до тех пор, пока моя сестра с племяшом не вернутся под отчий кров, — упрямо сказал он.
— Я тоже не собираюсь покидать станицу, не исполнив своего семейного долга, — подключился к нему Петрашка.
— Семья моей супруги Аннушки является и моей семьей. Господа казаки, вы можете смело на меня рассчитывать. — с сильным французским акцентом сказал Буало. — Мне спешить уже некуда, тем более что мы с Захаром знаем, где находится то, за чем я приехал сюда.
— Прости, Буало, но о том, у кого могут находиться французские сокровища, я высказал всего лишь предположение, — повернул к нему Захар свое лицо. — Вполне возможно, что во мне говорило лишь мстительное чувство к моему бывшему сопернику.
— Ничего вы еще не знаете, а разговоры про прыткого шведа Карлсона и его сестру, так это всего лишь ваши догадки, — грубо оборвал кавалера и среднего сына атаман, который был в курсе всех их дел. — Чаще бывает, что искомое находится там, откуда за ним начали охотиться.
— Простите, месье д'Арган, что вы пожелали этим сказать? — насторожился было кавалер.
— Только то, что вам нужно отправляться по своим домам. И немедленно, — непримиримо сдвинул брови полковник. — Прощайте, сынки и ты, Буалок. Экскюзе муа, чи как у вас там во Франции. Тут мы справимся и без вас.
Атаман дернул за уздечку, направляя кабардинца в мутные воды горной реки. Старший из сыновей Панкрат поняв, что задумал отец, встрепенулся и, кивнув братьям и новоиспеченному зятю, пристукнул своего коня каблуками. За ним без раздумий тронулись остальные станичники. Скоро весь отряд уже выбирался на противоположный берег реки. Лучи заходящего солнца вплетались в струи воды, стекающие с лошадиных крупов, окрашивая их в малиновые тона. Кому-то могло показаться, что казаки надумали раствориться в розовато-красном закате навсегда. Но это было не так. Слишком прямо сидели станичники в седлах и слишком уверенно направляли они вперед своих коней.
На левом берегу Терека остались три всадника, на их лицах отразилось замешательство, смешанное с обидой. Но это состояние тревожило их недолго. Скоро все трое молча переглянулись и как по команде пустили коней к воде. Крутые волны торкнулись в бока послушных животных, стараясь смыть с них пот и налипшую дорожную пыль.
Назад: Глава тринадцатая
На главную: Предисловие