Книга: Мельница на Флоссе
Назад: Книга первая Брат и сестра
Дальше: Глава XI МЭГГИ ПРОБУЕТ УБЕЖАТЬ ОТ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ
Глава VII НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТЕТУШКИ И ДЯДЮШКИ
Семейство Додсонов, бесспорно, отличалось благообразием, и миссис Глегг была отнюдь не хуже своих сестер. Глядя на нее, когда она сидела в гостиной миссис Талливер, ни один беспристрастный наблюдатель не стал бы отрицать, что для ее пятидесяти лет у нее весьма недурны лицо и фигура; только Том и Мэгги считали свою тетушку Глегг образцом уродства. Что правда, то правда — она презирала наряды, и хотя, как она частенько говорила, ни одна женщина не могла бы потягаться с ней по части туалетов, не в ее привычках было надевать новое платье, пока не износилось старое. Другие женщины могли, если им угодно, отдавать свои лучшие кружева в стирку каждую неделю, но когда миссис Глегг умрет, все узнают, что в правом ящике комода, в спальне с крапчатыми обоями, у нее хранятся кружева подороже тех, что когда-либо носила сама миссис Вул из Сент-Огга, хотя миссис Вул надевает свои кружева, еще не успев за них заплатить. То же самое можно было сказать и об ее накладных локонах: несомненно, в ящиках у миссис Глегг хранились сверкающие глянцем, круто завитые каштановые накладки, а также локоны, более или менее развившиеся; но каждый день взирать на мирр из-под глянцевитой, волосок к волоску, накладки было бы немыслимым, даже кощунственным смешением суетного и святого. Правда, изредка, отправляясь на неделе с визитом, миссис Глегг надевала одну из своих третьесортных выходных накладок, но, конечно, не тогда, когда собиралась навестить какую-либо из сестер, особенно миссис Талливер, которая оскорбила миссис Глегг в ее лучших чувствах тем, что и после замужества продолжала носить собственные волосы, хотя, как заметила миссис Глегг в разговоре с миссис Дин, от матери семейства, да еще при муже, который вечно таскается по судам, можно было бы ожидать побольше благоразумия. Но Бесси никогда не отличалась характером!
Так что если в этот день накладка миссис Глегг имела вид более всклокоченный, чем обычно, тут таился определенный умысел: это должно было служить острым и язвительным намеком на белокурые локоны миссис Талливер, спущенные согласно моде того времени на уши из-под гладко расчесанных на прямой пробор волос. Миссис Талливер пролила не одну слезу из-за нападок миссис Глегг на эти не подобающие замужней женщине кудряшки, но сознание того, что они ей к лицу, естественно, поддерживало ее дух. В этот день миссис Глегг предпочла не снимать шляпки (правда, она развязала ленты и слегка сдвинула ее назад); миссис Глегг часто практиковала это когда ей случалось отправиться с визитом в дурном настроении. Мало ли какие сквозняки могли случиться в чужом доме! По этой самой причине на ней был небольшой соболий палантин, едва прикрывавший плечи и с трудом сходившийся на мощной груди, а ее длинную шею защищали chevaux de frise из множества оборок. Нужно было быть хорошо знакомым с модами тех времен, чтобы понять, как далеко отстало от них ее шелковое платье стального цвета, но, судя по созвездиям желтых пятнышек, раскиданных по ткани, и по источаемому им затхлому запаху, наводящему на мысль о сыром сундуке для белья, оно, по всей вероятности, принадлежало к числу одеяний столь давнего геологического периода, что скоро снова могло войти в моду.
Держа в руке большие золотые часы и несколько раз обмотав цепочку вокруг пальцев, миссис Глегг заметила, обращаясь к миссис Талливер, только что вернувшейся после очередного визита на кухню, что сколько бы там ни показывали чужие часы, хоть карманные, хоть стенные, по ее часам уже половина первого.
— Не знаю, что сталось с сестрой Пуллет, — продолжала она. — Раньше у нас и в заводе не было, чтоб один приезжал позже другого — во всяком случае, при нашем покойном отце, — чтоб одна сестра полчаса сидела и ждала, покуда пожалуют остальные! Но коли все порядки в семье перевернутся, это уж будет не моя вина — я то ни за что не стану входить в дом, когда другие из него уже выходят. Я удивляюсь сестре Дин — она всегда поступала так же, как я. Но мой тебе совет, Бесси, не задерживать обеда; лучше начни чуть раньше, чтоб неповадно было опаздывать.
— Господи, боже мой! Нечего бояться, что они не поспеют, сестрица, — сказала миссис Талливер присущим ей мягко-раздражительным тоном. — Обед будет не раньше половины второго. А ежели ты проголодалась, давай я принесу тебе ватрушку и стакан вина.
— Ну, Бесси, — с горькой усмешкой сказала миссис Глегг, чуть заметно покачав головой, — пора бы лучше знать свою сестру. Я никогда в жизни не ела между завтраком и обедом и не намерена теперь начинать. Хотя, конечно, глупо обедать в половине второго, когда можно обедать в час. Тебя не в таких правилах воспитывали, Бесси.
— Да что ж я могу поделать, Джейн? Мистер Талливер не любит обедать раньше двух, я и так из-за вас велела подавать на полчаса раньше.
— Да, да, я знаю, как оно с мужьями — они все на свете рады отложить. Они отложат обед до чая, коли их жены по слабости потакают таким штучкам. Жаль мне тебя, Бесси, не хватает тебе характера. Боюсь, твои детки хлебнут горя из-за этого… Я надеюсь, ты не вздумала готовить парадный обед — не стала из-за нас входить в лишние расходы; твои сестры скорей согласятся грызть сухую корку, чем пособлять твоему разорению. Удивляюсь, почему ты не берешь пример с сестры Дин — она куда благоразумнее. Ведь у тебя на руках двое детей, а муженек порастряс все твое состояние на тяжбы, да и свое, верно, скоро спустит. Кусок отварной говядины, чтоб вышла еще похлебка для слуг, — добавила миссис Глегг безапелляционным тоном, — да простой пудинг без специй, с ложкой сахара, были бы куда уместней.
Ну, и веселенький обещал быть денек, раз сестрица Глегг в таком расположении духа! Миссис Талливер так же трудно было заподозрить в желании ссориться с миссис Глегг, как цаплю, которая в целях самозащиты вытянула вперед одну ногу, можно заподозрить в желании ссориться с мальчишкой, кидающим в нее камни. Но вопрос об обеде был вопрос наболевший, поднимавшийся не в первый раз, и миссис Талливер могла ответить то же, что и всегда:
— Мистер Талливер говорит, что у него для друзей всегда найдется хороший обед, покуда он в состоянии заплатить за него, и он волен распоряжаться в своем доме, сестрица.
— Как знаешь, Бесси; только я не моту оставить твоим детям достаточно, чтобы уберечь их от разорения. А получить хоть что-нибудь из денег мистера Глегга тебе и надеяться нечего; хорошо, коли я не отправлюсь на тот свет раньше его — в их семье все живут долго, — а ежели ему судьба умереть первым, так он обеспечит меня только пожизненно, а там все его деньги перейдут к его родне.
Шум экипажа, прервавший речь миссис Глегг, к великому облегчению миссис Талливер положил конец неприятному разговору, и она поспешила на крыльцо встретить сестрицу Пуллет, — судя по стуку колес, это не мог быть никто иной, ибо только сестрица Пуллет ездила в фаэтоне.
При мысли о фаэтоне миссис Глегг вскинула голову и с кислым видом поджала губы. У нее на этот счет было вполне определенное мнение.
Когда одноконный экипаж остановился у двери, миссис Талливер увидела, что сестрина Пуллет сидит вся в слезах и, судя по всему, испытывает потребность еще немного поплакать, ибо, не двигаясь с места, печально покачивает головой, глядя сквозь слезы в пространство, хотя ее муж и мистер Талливер стоят, готовые помочь ей сойти.
— Что с тобой, не случилось ли чего, сестрица? — забеспокоилась миссис Талливер.
Она не отличалась богатым воображением, но тут ей пришло в голову, что, может статься, опять разбили большое зеркало на туалетном столике в парадной спальне миссис Пуллет.
Ничего не ответив и все еще покачивая головой, миссис Пуллет медленно вышла из экипажа, кинув предварительно взгляд на мистера Пуллета, дабы убедиться, что он следит, как бы не пострадало ее нарядное шелковое платье. Мистер Пуллет был низенький человечек с носом пуговкой, маленькими моргающими глазками и тонкими губами; на нем был свежевыглаженный черный костюм и белый галстук, завязанный чрезвычайно туго, по-видимому в соответствии с принципами более высокими, чем личное удобство. Рядом со своей статной, красивой женой в платье с буфами, в широкой мантилье и большой, обильно украшенной лентами и перьями шляпке он выглядел как маленькое рыбачье суденышко рядом с бригом, распустившим все паруса.
Сколь трогательное зрелище и сколь поразительный пример того, как изощрила наши чувства цивилизация, являет собой охваченная горем дама, одетая по последней моде. Какой длинный ряд переходных ступеней от скорби готтентотки до скорби дамы в платье с пышными рукавами, с множеством браслетов на обеих руках, в завязанной изящными лентами шляпке — настоящем произведении архитектурного искусства! У просвещенного детища цивилизации непосредственность чувств, свойственная горю, находится под контролем рассудка и проявляется в таких неуловимых и разнообразных черточках, что это может представить интерес для аналитического ума. Если бы сокрушенная горем, почти ничего не видя из-за слез, дама, проходя в дверь, отклонилась от прямого курса, она могла бы сокрушить и свои рукава, — и таящаяся в глубине сознания мысль об этом создает то самое равновесие сил, которое помогает ей благополучно миновать дверной косяк. Чувствуя, что по щекам ее катятся слезы, она развязывает на шляпе ленты и томно отбрасывает их назад — трогательный жест, говорящий, что даже в момент глубочайшего уныния она не теряет надежды на будущее, когда слезы ее высохнут и ленты от шляпки вновь обретут былое очарование. Но вот рыдания ее понемногу стихают, и, откинув голову ровно настолько, чтобы не повредить шляпки, она осознает, что наступил тот ужасный миг, когда горе, притупившее радость жизни, начинает притупляться само; тогда она в задумчивости взглядывает на браслеты и приводит в порядок застежки с той прелестной намеренной непреднамеренностью, которая порадовала бы ее душу, если бы она была в более спокойном и здравом состоянии.
Миссис Пуллет с большим изяществом обмахнула оба косяка своими широчайшими рукавами (в ту пору женщина была в глазах строгих ценителей поистине смешной, если не достигала полутора ярдов в плечах) и, войдя в гостиную, где сидела миссис Глегг, снова приготовилась плакать.
— Поздно, поздно изволили пожаловать, сестрица. Что там еще стряслось? — довольно резко проговорила миссис Глегг, когда они поздоровались.
Миссис Пуллет села, осторожно приподняв сзади мантилью, и только тогда ответила: «Она покинула нас», бессознательно применив выразительную риторическую фигуру.
«Значит, на этот раз не зеркало», — подумала миссис Талливер.
— Умерла третьего дня, — продолжала миссис Пуллет. — И ноги у нее были с меня толщиной, — немного помолчав, добавила она с глубокой скорбью. — Счету нет, сколько раз ее кололи, чтоб выпустить воду, но воды было, говорят, хоть плавай в ней.
— Ну, Софи, тогда ее счастье, что она умерла, кто б она ни была, — отозвалась миссис Глегг с быстротой и категоричностью, свойственными ее от природы ясному и решительному уму, — хотя что до меня, понятия не имею, о ком ты толкуешь.
— Но я-то имею, — вздохнула миссис Пуллет, покачивая головой, — в приходе еще не бывало такой водянки. Мне-то известно, что это старая миссис Саттон из Твентиленда.
— Ну, она тебе не родня и, насколько я знаю, не так уж близко знакома, — заявила миссис Глегг, которая проливала столько слез, сколько положено, если что-нибудь приключалось с ее «родней», но никогда не плакала в других случаях.
— Уж так близко, что я видела ее ноги, когда они раздулись, как пузыри… Старая леди, а до последней минуты сама всем заправляла, и пускала в оборот свои деньги, и всегда хранила все ключи под подушкой… Да, не много теперь осталось в приходе таких, как она.
— А уж сколько лекарств она выпила! Говорят, в целый фургон не вместились бы, — вставил мистер Пуллет.
— Ах, — вздохнула миссис Пуллет, — она много лет страдала от другого недуга, прежде чем у нее началась водянка, а доктора не могли выяснить, что это такое. И она сказала мне, когда я навестила ее на рождество: «Миссис Пуллет, если у вас когда-нибудь будет водянка, вспомните обо мне». Так вот и сказала, — добавила миссис Пуллет, снова принимаясь горько плакать, — собственные ее слова. И ее хоронят в воскресенье, Пуллет приглашен на похороны.
— Софи! — воскликнула миссис Глегг, не в силах больше сдерживать естественное негодование. — Я удивляюсь тебе, Софи: волноваться и подрывать свое здоровье из-за чужих людей! Твой бедный отец никогда так не поступал, и тетушка Фрэнсис тоже, ни о ком из семьи не скажешь ничего подобного. Ты не могла бы волноваться сильнее, ежели б вдруг стало известно, что кузен Эббот скоропостижно скончался и не оставил завещания.
Миссис Пуллет замолчала, ей пришлось унять слезы, но она была скорей польщена, чем рассержена тем, что ее укоряют в излишней чувствительности. Не каждый мог позволить себе так убиваться по людям, которые не оставили вам ничего по завещанию, но миссис Пуллет вышла замуж за джентльмена-фермера и располагала досугом и деньгами, чтобы во всем, что она делает, даже в скорби, доходить до самых вершин респектабельности.
— Но миссис Саттон-то завещание оставила, — вмешался мистер Пуллет со смутным ощущением, что слова его подтверждают законность слез его жены. — Приход у нас богатый, но, говорят, никто еще не оставлял столько денет, как миссис Саттон. И она не стала их делить… так только, сущие пустяки… и отказала все целиком племяннику мужа.
— Тогда что толку было иметь много денег, — проговорила миссис Глегг, — коли ей некому было их оставить, кроме как мужниной родне. Плохо дело, ежели только ради этого ты во всем себе отказываешь. Оно, конечно, приятно, чтобы после твоей смерти у тебя нашли больше денег, отданных под проценты, чем полагали, а все ж скверная это история, когда деньги уходят из семьи.
— Право, сестрица, — сказала миссис Пуллет, успокоившись настолько, что могла снять и аккуратно сложить вуаль, — он славный человек, тот, кому миссис Саттон оставила свои деньги: он страдает астмой и каждый вечер ложится спать в восемь часов. Оп сам рассказал мне об этом — да еще тат; откровенно, — когда был однажды в воскресенье в нашей церкви. Он носит под рубашкой заячью шкурку и немного заикается — настоящий джентльмен. Я сказала ему, что редкий месяц обхожусь без врача. И он ответил: «Миссис Пуллет, могу вам посочувствовать». Так и сказал, этими самыми словами. Ах! — вздохнула миссис Пуллет, покачивая головой при мысли, что мало кто мог похвастать таким богатым опытом по части белой микстуры и розовой микстуры, сильно действующих лекарств в маленьких бутылочках и слабо действующих лекарств в больших бутылях, облаток — шиллинг за дюжину — и пластырей по полтора шиллинга.
— Ну, сестрица, теперь я могу пойти и снять шляпку…
Вы не видели, вынули из коляски картонку с чепцом? — добавила она, оборачиваясь к мужу.
У мистера Пуллета это почему-то совершенно выскочило из головы, и, мучимый угрызениями совести, он поспешил во двор, чтобы исправить свою оплошность.
— Ее принесут наверх, сестрица, — сказала миссис Талливер, стремясь уйти, пока миссис Глегг не принялась выражать свои чувства по поводу пагубного для здоровья пристрастия Софи к лекарствам: никто из Додсонов сроду их в рот не брал.
Для миссис Талливер было большим удовольствием подняться с сестрицей Пуллет в спальню, осмотреть со всех сторон ее чепчик, прежде чем она его наденет, и обсудить вопрос о головных уборах вообще. Это было одной из слабостей Бесси и возбуждало в миссис Глегг сестринское сострадание: Бесси слишком любила наряжаться, и была слишком горда, чтобы надевать на Мэгги те отличные вещи, которые сестра Глегг извлекала из доисторических пластов своего гардероба. Стыд и срам покупать хоть что-нибудь для этой девочки, разве что башмаки. Тут миссис Глегг была, однако, несправедлива к своей сестре: миссис Талливер прилагала величайшие усилия, чтобы заставить Мэгги носить шляпку из итальянской соломки и крашеное шелковое платье, перешитое из платья тетушки Глегг, но результаты были таковы, что миссис Талливер пришлось похоронить их в своем материнском сердце. Мэгги, объявив, что платье пахнет гадкой краской, постаралась залить его соусом от жаркого в первое же воскресенье, когда мать ей его надела, и, обнаружив, что это достигло своей цели, немного погодя окатила украшенную зелеными лентами шляпку водой из насоса, так что та стала похожа на шалфейный сыр, гарнированный увядшим латуком. В оправдание Мэгги я должен сказать, что Том смеялся над ней, когда она ходила в этой шляпке, и сказал, что она вылитая старуха Джуди. Тетушка Пуллет тоже дарила им разные вещи, но они были всегда так красивы, что нравились и Мэгги и ее матери. Из всех своих сестер миссис Талливер, безусловно, больше всех любила сестрицу Пуллет, и та платила ей взаимностью, хотя и сетовала, что у Бесси такие непослушные и нескладные дети; она, понятно, сделает для них все, что может, но жаль, что они не такие примерные и хорошенькие, как дочка сестры Дин. Мэгги и Том, со своей стороны, считали тетушку Пуллет сносной, главным образом потому, что она не была тетушкой Глегг. Том и к той и к другой отказывался ходить чаще одного раза за каникулы, хотя и получал от дядюшек по монетке, но, поскольку в подвале у Пуллетов жили жабы и в них можно было кидать камнями, Том предпочитал тетушку Пуллет. Мэгги при виде жаб начинало трясти, ее потом мучили ночью кошмары, но ей нравилась музыкальная табакерка дядюшки Пуллета… Сестры миссис Талливер в ее отсутствие сходились на том, что кровь Талливеров плохо смешивается с кровью Додсонов, что, по сути, дети бедняжки Бесси — чистые Талливеры и что Том, несмотря на додсоновский цвет лица, обещает стать таким же «супротивником», как и его отец. Что до Мэгги, то она — копия тети Мосс, сестры мистера Талливера, ширококостной женщины, вышедшей замуж до крайности неудачно; у нее даже не было сервиза, а муж ее едва-едва выплачивал аренду… Однако, когда миссис Пуллет оставалась наедине с миссис Талливер, сестры, естественно, принимались обсуждать слабости миссис Глегг, и в сегодняшней конфиденциальной беседе они пришли к единодушному мнению, что трудно представить, каким пугалом сестра Джейн вырядится в следующий раз.
Их тет-а-тет был нарушен появлением миссис Дин с крошкой Люси, и миссис Талливер с молчаливой завистью наблюдала, как приводятся в порядок белокурые локоны ребенка. Чтобы у миссис Дин, самой худой и бледной из всех мисс Додсон, была такая дочь! Да она куда больше похожа на миссис Талливер. И Мэгги рядом с Люси выглядит в два раза смуглей, чем обычно.
В этом можно было еще раз убедиться, когда дети пришли из сада с отцом и дядюшкой Глеггом. Мэгги кое-как стащила с головы капор, и волосы ее рассыпались прямыми растрепанными прядями; войдя в комнату, она сразу кинулась к Люси, стоявшей рядом с матерью. Что и говорить, контраст между двоюродными сестрами был разителен, и на первый взгляд не в пользу Мэгги, хотя знаток, возможно, увидел бы в ней «стати», сулящие в будущем куда больше, нежели аккуратная завершенность Люси. Они выглядели рядом как взлохмаченный черный, непомерно вытянувшийся щенок и белый котенок. Люси подставила изящный розовый ротик, чтобы Мэгги ее поцеловала. В ней все было изящно — округлая шейка в коралловом ожерелье, прямой, ничуть не вздернутый носик, четко очерченные бровки, значительно темнее локонов, как раз под стать карим глазам, которые застенчиво, но с удовольствием глядели на Мэгги, переросшую ее на голову, хотя между ними не было и года разницы. Мэгги всегда любовалась Люси. Она любила представлять себе такой мир, где все люди не старше, чем дети их возраста, и королевой его она видела девочку — точь-в-точь Люси, с маленькой короной на голове и скипетром в руках… только королевой была сама Мэгги.
— Ах, Люси, — выпалила она, поцеловав кузину, — ты останешься с Томом и со мной, ладно? Ах, поцелуй ее, Том.
Том тоже подошел к Люси, но целовать ее он не собирался, нет; он подошел к ней, потому что, в общем, это казалось легче, чем сказать «здравствуйте» всем этим тетушкам и дядюшкам. Он стоял, ни на кого не глядя, не зная, куда девать руки и ноги, покраснев от смущения и неопределенно улыбаясь, как это свойственно застенчивым мальчикам в обществе — будто они появились там случайно и застали всех в самом неприличном неглиже.
— Хорошенькое дело! — громко и отчетливо произнесла тетушка Глегг. — Где это видано, чтобы маленькие мальчики и девочки, входя в комнату, не здоровались со своими дядюшками и тетушками? Когда я была маленькой девочкой, у нас такой повадки не было.
— Подойдите и поговорите со своими тетушками и дядюшками, голубчики, — сказала миссис Талливер с озабоченным и грустным видом. Ей хотелось потихоньку приказать Мэгги пойти наверх и причесаться.
— Ну, как же вы поживаете? Я надеюсь, вы хорошие детки? — спросила миссис Глегг все таким же громким и отчетливым голосом; она притянула их к себе за руки так, что сделала им больно своими массивными кольцами, и поцеловала в щеки совершенно вопреки их желанию. — Подними глаза, Том, подними глаза. Мальчики, поступающие в пансион, должны высоко держать голову. Ну-ка, взгляни на меня. — Том, видимо, решил уклониться от этого удовольствия, так как постарался вырвать у нее руку. — Убери волосы за уши, Мэгги, и поправь на плече платье.
Тетушка Глегг всегда говорила с ними особым голосом, как будто считала их глухими или, возможно, немножко идиотами. Она надеялась этим заставить их почувствовать, что они должны отвечать за свои поступки, и думала этим благотворно воздействовать на них и сдержать их дурные наклонности. Дети Бесси так избалованы, просто необходимо, чтобы кто-нибудь внушил им чувство долга.
— Ах, мои душечки, — сказала тетушка Пуллет сострадательным тоном, — удивительно, как вы быстро растете… Боюсь, как бы они от этого не ослабели, — добавила она, меланхолически поднимая глаза на миссис Талливер. — Мне кажется, у девочки слишком много волос… На твоем месте, сестрица, я бы подстригла ее покороче. Это вредно для Здоровья. Я бы не удивилась, если бы мне сказали, что именно потому она такая смуглая… Как ты думаешь, сестрица Дин?
— Вот уж не знаю, сестрица, — ответила миссис Дин и снова поджала губы, глядя на Мэгги критическим взором.
— Чепуха, — сказал мистер Талливер, — девочка совершенно здорова… у нее нигде ничего не болит. Бывает белая пшеница, бывает и красная, коли уж о том речь зашла, и многим темное зерно больше по вкусу. Но неплохо бы, Бесси, постричь ее покороче, чтоб волосы не торчали в разные стороны.
В душе у Мэгги зрел ужасный замысел, но привести его в исполнение мешало желание узнать у тетушки Дин, оставит ли она у них Люси. Тетушка Дин так редко привозила ее к ним. Исчерпав все резоны для отказа, миссис Дин обратилась к самой Люси:
— Неужели ты захочешь здесь остаться без мамы, а, Люси?
— Да, мамочка, пожалуйста, — робко промолвила Люси, и у нее даже шейка залилась краской.
— Молодец, Люси!.. Пусть остается, миссис Дин, пусть остается, — сказал мистер Дин, крупный подвижной мужчина, с внешностью, равно типичной для всех слоев английского общества, — лысина на макушке, рыжие бакенбарды, выпуклый лоб, плотное, но не грузное телосложение. Вы можете встретить пэров этого типа и подобных же торговцев бакалейным товаром или поденщиков. Но такие проницательные карие глаза, как у него, вы увидите куда реже. Он крепко держал в руке серебряную табакерку и время от времени обменивался понюшкой табаку с мистером Талливером, табакерка которого была только посеребренной; это служило поводом для постоянно повторявшейся шутки: мистер Талливер пытался обменяться с мистером Дином и табакеркой. Табакерка мистера Дина была преподнесена ему вместе с паем в деле старшими компаньонами фирмы, где он был управляющим, в знак признания его ценных услуг. Ни одного человека в Сент-Огге не ставили так высоко, как мистера Дина, и были люди, которые предсказывали, что, возможно, настанет день, когда мисс Сюзан Додсон, сделавшая, по общему суждению, самую невыгодную партию из всех сестер, будет ездить в лучшей карете и жить в лучшем доме, чем даже ее сестра Пуллет. Трудно заранее сказать, чего может достигнуть человек, ставший компаньоном такой большой фирмы, как фирма Гест и К0, владеющая мельницами, и кораблями, и даже собственным банком. А миссис Дин, как отмечали ее закадычные подруги, была дама честолюбивая и «загребущая». Уж она-то не даст своему муженьку стоять на месте, сумеет его как следует пришпорить.
— Мэгги, — поманив дочку к себе, тихо сказала миссис Талливер, когда вопрос, останется ли у них Люси, был разрешен, — пойди причешись… Ну же, как тебе не стыдно! Ты прекрасно знаешь, что я велела тебе сперва подняться к Марте.
— Том, пойдем со мной, — шепнула Мэгги, проходя мимо брата, и потянула его за рукав; Том с готовностью последовал за ней.
— Пойдем со мной наверх, — зашептала она, как только они очутились за дверью. — Я хочу сделать до обеда одну вещь.
— Нам ни во что не успеть поиграть, — сказал Том, с нетерпением ожидавший обеда и неспособный представить себе, что можно чем-нибудь заняться в оставшееся время.
— О, это мы успеем; ну, пойдем.
Том последовал за Мэгги в комнату матери и увидел, что сестра сразу же подошла к комоду и вынула из ящика большие ножницы.
— Зачем они тебе, Мэгги? — спросил Том с пробуждающимся любопытством.
Вместо ответа Мэгги схватила переднюю прядь волос и обрезала ее у самого лба.
— Ой, Мэгги! Ну, и влетит тебе! — воскликнул Том. — Ты лучше больше не режь.
Чик — снова щелкнули ножницы, и Том не мог не согласиться, что это неплохая забава: Мэгги будет выглядеть такой потешной!
— Ну-ка, Том, обрежь мне их сзади, — сказала Мэгги, опьяненная собственной смелостью и стремясь поскорей завершить свой подвиг.
— И попадет же тебе, знаешь, — оказал Том, предостерегающе покачивая головой, и нерешительно взял ножницы.
— Неважно, побыстрей! — крикнула Мэгги, топая ногой.
Щеки ее пылали.
Черные пряди были так густы; трудно было найти что-нибудь более соблазнительное для мальчишки, уже вкусившего запретной радости стричь гриву пони. Я обращаюсь к тем, кто знает, какое наслаждение сомкнуть лезвия ножниц, преодолевая тугую массу волос. Один упоительный взмах, затем второй и третий — и задние пряди тяжело упали на пол; Мэгги стояла, остриженная неровной «лесенкой», но при этом испытывала такое чувство полной свободы, словно она вышла из лесу на открытую равнину.
— Ой, Мэгги, — воскликнул Том, прыгая вокруг нее и с хохотом хлопая себя по коленям, — ой, не могу, до чего ж ты смешная! Посмотри на себя в зеркало; ты похожа на того дурачка, в которого мы в школе кидали скорлупу от орехов.
Мэгги ощутила неожиданный укол в сердце. Раньше она думала прежде всего об избавлении от надоевших ей волос и не менее надоевших замечаний по их поводу и — чуточку — о победе, которую она одержит над матерью и тетками благодаря такому решительному образу действий. Она не стремилась к тому, чтобы ее волосы выглядели красиво, об этом не могло быть и речи; она только хотела, чтобы люди считали ее умной маленькой девочкой, а не находили в ней одни недостатки. Но сейчас, когда Том стал над ней смеяться и сказал, что она похожа на дурачка, все это предстало пред ней совсем в ином свете. Она посмотрела в зеркало — Том все еще смеялся и хлопал в ладоши, — и ее раскрасневшиеся щеки побледнели, губы дрогнули.
— Ой, Мэгги, тебе придется идти сейчас к обеду, — сказал Том. — Ой, не могу!
— Не смейся надо мной, — топая ногой, гневно закричала Мэгги и толкнула его; из глаз ее потоком хлынули сердитые слезы.
— Ну-ну, потише, злюка, — сказал Том. — Для чего ж ты их тогда обстригла? Ну, я иду, нюхом слышу, что сейчас будет обед.
Он поспешил вниз и оставил Мэгги ro власти горького чувства, что сделанного не воротишь, — чувства, которое терзало ее детское сердечко чуть не каждый день. Она уже ясно видела, что учинила глупость и что теперь ей придется больше чем когда-либо слышать о своих волосах. Мэгги всегда поступала не подумав, под влиянием порыва, а затем во всех мельчайших подробностях, подсказанных живым воображением, представляла не только последствия своего поступка, но и что было бы, если бы она его не совершила. Том, обладавший удивительной врожденной способностью чуять, что ему на пользу, что во вред, никогда не делал таких глупостей, как Мэгги, и хотя был куда более своеволен и упрям, чем сестра, мать редко бранила его за непослушание. А уже если Тол совершал какой-нибудь промах, он держался твердо, ему все было нипочем. Если он испортил отцовский кнут, нахлестывая ворота, он-то чем виноват? — нечего кнуту застревать в петле. Раз Том Талливер стегает ворота, значит, поступок этот оправдан тем, что стегает их не кто другой, а именно он, Том Талливер, и он не намерен ни в чем раскаиваться… Но Мэгги, стоявшая в слезах перед зеркалом, чувствовала, что она просто не в состоянии сойти вниз и вынести суровые слова и взоры тетушек и смех, которым встретят ее Том, и Люси, и Марта, прислуживающая за столом, а возможно, даже отец и дядюшки, — раз Том смеялся, ясно — все остальные тоже будут. Ах, если бы она не трогала своих волос! Она сидела бы сейчас вместе с Томом и Люси и ела рулет с абрикосовым вареньем и дрочену. Что ей еще оставалось, как не плакать? Глядя на темные пряди срезанных волос, она была в таком же отчаянии, так же нуждалась в помощи, как Аякс, глядящий на перебитых им овец. Возможно, закаленные невзгодами смертные, которым приходится думать о новогодних счетах, о погибшей любви и разбитой дружбе, назовут ее терзания пустыми, но для Мэгги они были не менее, а может быть и более мучительными, чем те, что в противовес им называют истинными огорчениями зрелых лет. «Ах, дитя мое, скоро тебя ждут настоящие печали, не то что теперь», — успокаивали нас в детстве, и мы, в свою очередь, став взрослыми, успокаиваем так других детей. Кому из нас не случалось, потеряв в незнакомом месте мать или няню, жалобно всхлипывать, глядя на свои голые ножки в маленьких носочках; но мы не можем теперь вызвать в памяти острую боль той минуты и поплакать над ней, как мы плачем над памятными до сих пор страданиями, испытанными каких-нибудь пять или десять лет назад. Каждая из таких горьких минут оставила свой неизгладимый след, но следы эти уже невозможно распознать под более поздними напластованиями поры нашей юности и зрелых лет; вот почему мы смотрим на горести детей с улыбкой, не верим в реальность их мучений. Можем ли мы, оглядываясь на далекое детство, вспомнить не только то, что мы делали и что с нами случалось, что нам нравилось и что не нравилось, когда мы ходили в коротком платьице или штанишках, но и проникнуть духовным взором в те чувства, которые владели нами, когда так далеко было от одних летних каникул до других, можем ли возродить в сознании все пережитое, когда школьные товарищи не хотели с нами больше играть потому, что мы просто из упрямства неправильно подавали мяч; или когда в дождливый день, не зная, чем заняться, мы от безделья принимались за проказы, от проказ переходили к открытому непослушанию, от непослушания к угрюмой мрачности; или когда мать наотрез отказывалась сшить нам взрослое платье к новому полугодию, хотя добрая половина наших сверстников давно вышла из курточек? Я уверен, если бы мы заново могли изведать горечь тех первых обид, тех неясных предчувствий, то ощущение полной безнадежности, которое во сто крат усугубляло эту горечь, мы бы не относились с таким пренебрежением к печалям наших детей.
— Мисс Мэгги, вам велено сейчас же идти вниз, — сказала Кезия, поспешно входя в комнату. — Батюшки! Что вы натворили! В жизни такого пугала не видела.
— Перестань, Кезия, — сердито сказала Мэгги. — Уходи.
— Но, говорю вам, мисс, вам велено сейчас же идти вниз — так приказала ваша матушка, — повторила Кезия, подходя к Мэгги и беря ее за руку, чтобы поднять с полу.
— Уйди, Кезия, я не хочу обедать! — крикнула Мэгги, отталкивая ее руку. — Не пойду я вниз.
— Ну, как знаете, мне недосуг вас ждать. Я должна прислуживать за столом, — ответила Кезия, выходя из комнаты.
— Мэгги, глупая, — сказал Том, заглядывая в дверь минут десять спустя, — почему ты не идешь обедать? Там целая куча сластей, и мама велит, чтобы ты шла. Ну чего ты ревешь, — экая ты нюня.
О, это ужасно! Том так жесток и бессердечен! Если бы оп сидел на полу и плакал, Мэгги тоже заплакала бы вместе с ним. И обед, наверно, вкусный, а она так хочет, так хочет есть. Ах, как ей тяжело!
Однако Том был не так уж жесток. Он не собирался плакать, и горе Мэгги не мешало ему с удовольствием предвкушать сладкое, но он подошел к ней и, прижав ее голову к своей, тихо сказал, стараясь ее утешить:
— Значит, не придешь, Мэгги? Хочешь, я привесу тебе кусочек рулета, когда съем свой, и драчену, и разных разностей?
— Хочу-у-у, — протянула Мэгги, чувствуя, что жизнь становится несколько более сносной.
— Хорошо, — сказал Том, выходя. Но у самых дверей он снова обернулся и добавил: — А все же лучше спускайся, знаешь. Там на десерт — орехи и настойка из буквицы.
Когда Том ушел, Мэгги перестала плакать и задумалась. Его участливые слова немного смягчили ее горе, а орехи и настойка стали предъявлять свои законные права.
Медленно поднялась она с пола, усыпанного прядями срезанных волос, медленно спустилась вниз. Здесь, прислонившись плечом к косяку, она заглянула внутрь, когда дверь в столовую приотворилась. Она увидела Тома, и Люси, и пустой стул между ними, а рядом на столике дрочену. Это было выше ее сил. Она проскользнула в комнату и направилась к своему месту. Но не успела она сесть, как пожалела об этом, и ей снова захотелось очутиться наверху.
При виде ее миссис Талливер чуть не хватил удар: тихонько вскрикнув, она уронила большую ложку, которой набирала подливку, прямо в блюдо — с самыми неприятными последствиями для скатерти. Кезия, не желая волновать хозяйку в то время, когда та режет мясо, не открыла ей истинной причины того, почему Мэгги отказалась спуститься вниз, и миссис Талливер думала, что речь идет не более чем о приступе упрямства, за которое Мэгги сама себя наказала, лишившись половины обеда.
Возглас миссис Талливер заставил все глаза обратиться туда, куда был устремлен ее взор; щеки и уши Мэгги запылали огнем, а дядюшка Глегг, седой добродушный джентльмен, воскликнул:
— Ну и ну! Что это за маленькая девочка? Да я совсем ее не знаю. Уж не на дороге ли вы ее подобрали, Кезия?
— Гляди ты, ведь это она сама обрезала себе волосы, — вполголоса сказал мистер Талливер мистеру Дину и от души рассмеялся. — Видели вы такую негодницу?
— Ну, мисс, и смешной же у тебя теперь вид, — заметил дядюшка Пуллет; и, вероятно, ни разу в жизни слова его никому не причиняли такой острой боли.
— Фи, как не стыдно! — громко произнесла тетушка Глегг тоном самого сурового порицания. — Маленьких девочек, которые стригут себе волосы, следует сечь и сажать на хлеб и воду, а не пускать за стол вместе с дядюшками и тетушками.
— Да, да, — подхватил дядюшка Глегг, желая обернуть эту угрозу в шутку, — я думаю, ее нужно отправить в тюрьму, там ей остригут остальные волосы — вот и подравняются.
— Она стала еще больше похожа на цыганку, чем раньше, — сказала тетушка Пуллет с жалостью в голосе. — Какая обида, сестрина, что девочка такая смуглая; мальчик-то беленький, ничего не скажешь. Боюсь, как бы ей это не повредило в жизни.
— Она гадкая девочка и хочет разбить своей маме сердце, — проговорила миссис Талливер со слезами на глазах.
На Мэгги сыпался град упреков и насмешек. Сперва ее щеки вспыхнули от гнева, который на некоторое время, очень ненадолго, дал ей силы для внутреннего отпора, и Том решил, что, вдохновленная появлением рулета и дрочены, она стойко все перенесет. Под этим впечатлением он шепнул: «Ой, не могу, Мэгги, говорил я тебе, что влетит». Он сказал это из дружеских чувств, но Мэгги подумала, что Том радуется ее позору. И без того слабое сопротивление рухнуло, к горлу подкатил какой-то ком, и, вскочив со стула, она подбежала к отцу, уткнулась лицом ему в плечо и громко расплакалась.
— Полно, полно, девонька, — принялся утешать ее отец, прижимая к себе, — ну что за беда; твое право было их обрезать, коли они тебе мешали. Брось плакать, отец не даст тебя в обиду.
Целительный бальзам нежности! Мэгги не забыла ни одного из этих случаев, когда отец «не давал ее в обиду»; она хранила их в своем сердце и думала о них многие годы спустя, когда все толковали, что мистер Талливер плохо выполнил свой долг по отношению к детям.
— Ох, и балует же твой муж этого ребенка, Бесси! — громко произнесла «в сторону» миссис Глегг. — Это ее погубит, ежели ты не примешь мер. Мой отец так своих детей не воспитывал, иначе не бывать бы нашей семье такой, какая она есть.
К этому времени расстройство миссис Талливер из-за семейных неприятностей достигло, видимо, того предела, за которым наступает полное безразличие. Не обратив внимания на слова сестры, она откинула назад ленты чепчика и с немой покорностью судьбе принялась раскладывать рулет. Десерт принес Мэгги полное избавление, так как детям разрешили взять настойку и орехи в беседку, — день был очень теплый, — и с живостью букашек, выбравшихся из-под направленного на них зажигательного стекла, они выбежали из дома и помчались наперегонки по саду, где только-только стали набухать на кустах почки.
У миссис Талливер были особые основания отпустить детей. Теперь, когда покончили с обедом и мысли больше не были заняты едой, наступил подходящий момент, чтобы сообщить о планах мистера Талливера относительно Тома, и самому Тому при этом лучше было не присутствовать. Дети привыкли, что о них говорят так свободно, словно они птицы и ничего не понимают, как бы они ни вытягивали свои шейки и ни прислушивались; но в данном случае миссис Талливер проявила необычную осмотрительность, так как за последнее время по некоторым признакам убедилась, что учение у пастора для Тома — перспектива столь же малоприятная, как, например, обучение у констебля. Миссис Талливер со вздохом признавалась себе, что ее муж все равно сделает по-своему, что бы там ни говорили сестрица Глегг или сестрица Пуллет, но, во всяком случае, если дело обернется худо, никто не сможет ее упрекнуть, что она согласилась на безрассудный поступок мужа, ни слова не сказав своей родне.
— Мистер Талливер, — прервала она беседу своего мужа с мистером Дином, — не пора ли уже рассказать тетушкам и дядюшкам, что ты решил насчет Тома?
— Ладно, — довольно резко ответил мистер Талливер, — я готов кому угодно сказать, что я решил с ним сделать. Я решил, — продолжал он, глядя на мистера Глегга и мистера Дина, — я решил послать его к мистеру Стеллингу, пастору в Кинг-Лортоне… Очень, говорят, сведущий человек, он Тома на ум наставит.
Среди присутствующих пронесся шепот удивления, как это бывает в сельской церкви, когда священник коснется с кафедры житейских дел своей паствы. Для тетушек и дядюшек было полной неожиданностью узнать, что планы мистера Талливера как-то связаны с пастором. Что до дядюшки Пуллета, он вряд ли был бы больше сбит с толку, если бы мистер Талливер заявил, что собирается послать Тома к лорду-канцлеру. Мистер Пуллет принадлежал к тому ныне вымершему классу английских йоменов, которые одевались в тонкое сукно, платили высокие налоги и подати, исправно ходили в церковь и уничтожали по воскресеньям праздничный обед, столь же твердо веря в то, что между британской церковью и государством нет никакого различия, как в то, что солнце вертится вокруг земли. Печально, но факт — у мистера Пуллета было смутное представление, что епископ — это нечто вроде баронета, который может быть, а может и не быть священнослужителем, и так как пастор его прихода был человек родовитый и состоятельный, мысль о том, что священник выступает в роли учителя, настолько противоречила всем его понятиям, что совершенно не укладывалась в голове. Я знаю, в наш просвещенный век трудно поверить в столь глубокое невежество, но поразмыслите, каких блестящих результатов может достигнуть при благоприятных условиях человек, одаренный природными способностями. А дядюшка Пуллет отличался как раз исключительной природной способностью к невежеству. Он-то первый и выразил вслух свое недоумение.
— Что? Зачем вам понадобилось посылать его к пастору? — спросил он, изумленно помаргивая, и поглядел на мистера Глегга и мистера Дина, чтобы увидеть, понимают ли они хоть что-нибудь.
— Да затем, что пасторы, как я смекаю, — лучшие учителя, — сказал бедный мистер Талливер, который в лабиринте нашего мудреного света с величайшей готовностью крепко хватался за любую путеводную нить. — Джейкобз, у которого был Том, не пастор, а что толку? Ничему он Тома не выучил. Вот я и решил — уж коли посылать Тома к учителю, так чтоб не был вроде Джейкобза. А этот мистер Стеллинг, судя по всему, как раз такой человек, какой мне нужен. Я собираюсь отправить к нему Тома после Иванова дня, — решительно закончил он, постучав по крышке табакерки, и заложил в нос понюшку табаку.
— Вам тогда придется оплатить солидный счет за полгода, э, Талливер? Пасторы имеют о себе довольно высокое понятие, — заметил мистер Дин, с шумом втягивая табак, что он проделывал во всех тех случаях, когда хотел остаться в стороне.
— И вы думаете, сосед Талливер, пастор научит его различать с первого взгляда, какая пшеница хорошая, какая плохая? — засмеялся мистер Глегг; он любил пошутить и считал, что теперь, когда он удалился от дел, ему не только простительно, но даже подобает видеть вещи с их смешной стороны.
— Да я, понимаете, задумал тут кой-что насчет Тома, — начал мистер Талливер, но, сделав это заявление, умолк и поднес к губам стакан.
— Ну, ежели мне дозволят раскрыть рот — а это не часто бывает, — с горькой многозначительностью вмешалась миссис Глегг, — я хотела бы узнать, какой толк дать мальчику воспитание не по средствам.
— Видите ли, — продолжал мистер Талливер, глядя не на миссис Глегг, а на мужскую половину своей аудитории, — я решил пустить Тома по другой части. Я уж давненько об этом подумывал, а как посмотрел на Гарнета и его сына, так и сомневаться перестал. Хочу определить его к какому-нибудь делу, где бы он мог начать без капитала; вот и надо отдать его в науку, чтоб он не уступал законникам и всяким таким людям и меня мог при случае надоумить.
Не разжимая губ, на которых играла не то жалостливая, не то презрительная улыбка, миссис Глегг издала громкое «гм».
— Было бы куда лучше для иных людей, — произнесла она после столь многообещающего введения, — кабы они оставили законников в покое.
— Значит, он стоит во главе средней классической школы, этот пастор — вроде той, что на Маркет-Бейли? — спросил мистер Дин.
— Нет… вовсе нет, — обернулся к нему мистер Талливер. — Он возьмет не больше двух-трех учеников, так что у него будет достаточно времени для каждого из них.
— А-а, и он их быстрее выучит. А то им трудно учиться, когда их так много, — заметил дядюшка Пуллет, чувствуя, что наконец проник в самую суть этого трудного вопроса.
— Но он, верно, и деньги спросит хорошие?.. — осведомился дядюшка Глегг.
— Да, добрых сто фунтов в год… не меньше, — произнес мистер Талливер, немало гордясь своим решительным образом действий. — Но это опять же не выброшенные деньги; образование для Тома будет тот же капитал.
— Да, это имеет свой смысл, — заметил мистер Глегг. — Что ж, сосед Талливер, может, вы и правы, может, вы и правы.
Коль нет земли и нет ни пенни,
То в пору взяться за ученье.
Я, помню, видел эти две строчки на витрине в Бакстоне. Но нам, неученым, лучше приберечь свои денежки, а, сосед Пуллет? — И мистер Глегг с довольным видом потер колени.
— Дивлюсь я вам, мистер Глегг, — заявила его супруга. — Не к лицу это человеку вашего возраста и положения.
— Что не к лицу, миссис Глегг? — спросил мистер Глегг, весело подмигивая окружающим. — Новый синий костюм, который я сегодня надел?
— Мне жаль вас, мистер Глегг: как можно проявлять такую слабость характера! Я говорю, не к лицу вам шутить, когда ваша родня очертя голову несется к разорению.
— Коли это вы обо мне, — отозвался мистер Талливер, задетый за живое, — так обо мне можете не беспокоиться, я справлюсь со своими делами без посторонней помощи.
— Как это я забыл, — сказал мистер Дин, благоразумно переводя разговор на другую тему, — ведь я слышал от кого-то, что Уэйкем тоже собирается послать своего сына — Этого калеку — к пастору. Ты не помнишь, Сюзан? — обратился он к своей супруге.
— Ничего не могу об этом сказать, ровно ничего, — ответила миссис Дин и снова крепко сжала губы. Кто-кто, но уж никак не миссис Дин станет ввязываться в перебранку, где того и гляди достанется тебе самому.
— Что ж, — сказал мистер Талливер преувеличенно весело, чтобы миссис Глегг видела, что он и думать о ней забыл. — Уж коли Уэйкем хочет послать сына к пастору — будьте уверены, я не промахнусь, когда сделаю то же. Уэйкем — самая продувная бестия, какую породил нечистый, но уж он-то насквозь видит всякого, с кем имеет дело. Да, да, скажите мне, кто мясник Уэйкема, и я скажу вам, где покупать мясо.
— Но сын адвоката Уэйкема — горбун, — заметила миссис Пуллет со смутным ощущением, что вся эта история принимает несколько похоронный характер, — натуральнее послать его к пастору.
— Да, — вмешался мистер Глегг, опрометчиво подхватывая слова миссис Пуллет, — не забывайте об этом, сосед Талливер. Сын Уэйкема вряд ли пойдет по деловой части. Уэйкем сделает из него джентльмена, из бедного мальчонки.
— Мистер Глегг, — прервала его миссис Глегг тоном, свидетельствующим, что, хотя она решила крепко закупорить свое негодование, оно помимо ее воли с шумом просачивается наружу, — придержите лучше язык, мистер Талливер не желает знать ваше мнение, равно как и мое. Иные люди сами лучше всех все знают.
— Ну, коли судить по вашим словам, так это к вам как раз и относится, — отрезал мистер Талливер, снова начиная кипятиться.
— О, я молчу, — саркастически промолвила миссис Глегг. — Моего совета не спрашивали, я и не даю его.
— Редкий случай, — сказал мистер Талливер. — Советы — единственное, что вы даете, даже чересчур охотно.
— Давать, может, я ничего и не даю, зато охотно ссужаю, — отпарировала миссис Глегг. — Я одалживала деньги кой-кому, кто, может статься, заставит меня пожалеть, что я ссужала собственную родню.
— Полно, полно, полно, — пытался успокоить их мистер Глегг.
Но ничто не могло удержать мистера Талливера от резкого ответа:
— Ну, так вы, сдается мне, имеете долговое обязательство и получаете своп пять процентов, родня это или не родня.
— Сестрица, — умоляюще промолвила миссис Талливер, — выпей настойки и возьми хоть немножко миндаля и изюма.
— Бесси, мне жаль тебя, — обернулась к ней миссис Глегг; она сильно напоминала дворняжку, которая обрадовалась случаю оставить в покое прохожего с палкой и облаять безоружного. — Не к чему сейчас толковать мне о миндале да изюме.
— О боже, сестрица Глегг, не надо ссориться, — простонала миссис Пуллет, роняя слезу. — Да еще после обеда. Тебя может хватить удар — смотри, ты вся красная сделалась… а мы только-только сняли траур и уложили в сундуки платья с крепом. Так сестры не поступают.
— Надо думать, не поступают, — отрезала миссис Глегг. — Хорошенькие настали времена, ежели одна сестра приглашает к себе в дом другую нарочно, чтобы затеять ссору и оскорблять ее.
— Легче, легче, Джейн, не горячись, — вступился мистер Глегг.
Но не успел он договорить, как мистера Талливера, ни в коей мере еще не излившего свой гнев, снова прорвало.
— Да кто тут затевает ссоры? — вскричал он. — Вы сами не можете оставить людей в покое и вечно всех грызете. Я ни за что не стану ссориться с женщиной, ежели она знает свое место.
— Свое место! Еще чего? — повысила голос миссис Глегг. — И поважнее вас были люди, мистер Талливер, — они давно уже спят вечным сном, — а обращались со мной поуважительней, чем вы… хотя, конечно, мой муж сидит тут, словно воды в рот набрал, и смотрит, как меня оскорбляют. И кто? Тот, кто и думать бы об этом не посмел, когда бы некоторые члены нашей семьи не вышли замуж невесть за кого.
— Уж коли об этом речь зашла, — отпарировал мистер Талливер, — так моя семья не хуже вашей… и даже лучше — в ней нет женщины с таким вздорным характером.
— Отлично, — заявила миссис Глегг, поднимаясь, — не знаю, может, вы, мистер Глегг, думаете, что так и надо — сидеть здесь и слушать, как меня поносят, но только я и минуты не останусь в этом доме. Вы можете оставаться и ехать домой в двуколке, я пойду пешком.
— Ах ты, господи, ах ты, господи, — горестно промолвил мистер Глегг, выходя из комнаты вслед за своей половиной.
— Ну, как ты мог это сказать? — со слезами на глазах проговорила миссис Талливер.
— Скатертью дорожка, — проворчал мистер Талливер, слишком разгоряченный, чтобы его могли охладить даже ручьи слез. — Пусть уходит, и чем скорее, тем лучше. В другой раз подумает, прежде чем указывать мне.
— Сестрица Пуллет, — растерянно обратилась к сестре миссис Талливер, — как ты полагаешь, выйдет что, ежели ты пойдешь за ней и попробуешь ее урезонить?
— Лучше не надо, лучше не надо, — сказал мистер Дин. — Уладите это в другой раз.
— Тогда, сестрицы, пойдем посмотрим, что делают дети, — предложила миссис Талливер, вытирая глаза.
Ни одно предложение не могло быть более кстати. Когда сестры вышли из комнаты, мистер Талливер вздохнул с облегчением: ну и надоели ему эти женщины — хуже мух. Одним из наибольших удовольствий мистер Талливер полагал беседу с мистером Дином, но тот был настолько занят, что видеться им удавалось очень редко. Мистер Талливер считал мистера Дина самым «смыслящим» из своих знакомых, к тому же тот обладал бойким и злым языком, чего так недоставало самому мистеру Талливеру, у которого любовь к острому словцу не находила себе членораздельного выражения. И теперь, когда женщины ушли, они могли наконец завести серьезный разговор, не опасаясь, что их прервут из-за каких-нибудь пустяков. Они могли обменяться мнениями насчет герцога Веллингтона, позиция которого в католическом вопросе показала его в совершенно новом свете, и выразить снос презрение к тому, как он вел себя во время битвы при Ватерлоо, которую он ни за что бы не выиграл, если бы в его распоряжении не было многочисленной английской армии, не говоря уже о Блюхере и пруссаках, подоспевших, как слышал мистер Талливер от весьма осведомленного человека, в самый последний момент. Тут, правда, между ними возникло небольшое разногласие, ибо мистер Дин заметил, что не склонен слишком доверять пруссакам — форма их морских судов и неудовлетворительный характер сделок с данцигскими пивоварами заставляют его придерживаться весьма низкого мнения о пруссаках вообще. Потерпев поражение в этом вопросе, мистер Талливер принялся сетовать на то, что не бывать уже стране такой, какой она была когда-то; однако мистер Дин, связанный с фирмой, доходы которой с каждым годом росли, естественно, не так мрачно смотрел на будущее и привел несколько примеров насчет состояния экспорта, в частности экспорта кож и технического цинка, которые несколько успокоили страхи мистера Талливера и отодвинули в более отдаленное будущее те времена, когда страна окончательно станет добычей папистов и радикалов и честным людям трудно будет пробиться в жизни.
Дядюшка Пуллет сидел и, помаргивая глазками, слушал, как они обсуждают эти высокие материи. Сам он в политике ничего не смыслил, считая, что тут нужен особый талант, но, судя по тому, что они говорили, этот герцог Веллингтон совсем не подходил для своего поста.
Глава VIII МИСТЕР ТАЛЛИВЕР ПРОЯВЛЯЕТ СЛАБОСТЬ
— А что, ежели сестрица Глегг потребует обратно свои деньги?.. Тебе будет не так легко раздобыть сейчас пятьсот фунтов, — сказала в тот вечер миссис Талливер своему супругу, перебирая в памяти все события этого горестного дня.
Миссис Талливер прожила с мужем тринадцать лет, однако в полной неприкосновенности сохранила с первых дней супружеской жизни способность говорить вещи, которые побуждали его делать как раз обратное тому, что ей хотелось. Удивительно, как некоторые умы ухитряются не потерять своей первозданной свежести; так золотая рыбка, дожив до самого преклонного возраста, по-видимому, продолжает питать юношескую иллюзию, что она может проплыть прямо сквозь стенку аквариума. Миссис Талливер была милой рыбкой этого рода и в течение тринадцати лет, натыкаясь лбом на одну и ту же стенку, каждый раз снова пыталась прошибить ее все с тем же рвением.
Замечание миссис Талливер немедленно склонило мистера Талливера к убеждению, что ему вовсе не трудно будет раздобыть пятьсот фунтов, а когда она стала довольно настойчиво спрашивать, как же это он их раздобудет, не закладывая мельницу и землю — чего, он, по его словам, никогда не сделает, — ведь в наши дни люди не очень-то охотно ссужают деньги без залога, — мистер Талливер, разгорячась, объявил, что миссис Глегг вольна поступать как ей угодно, деньги он вернет, потребует она их или нет. Он не желает быть обязанным ни одной из своячениц. Когда мужчина берет жену из семьи, где целая куча баб, ему со многим приходится мириться, коли он на это пойдет. Но он, мистер Талливер, не пойдет.
Миссис Талливер тихонько всплакнула, надевая ночной чепец, но очень скоро погрузилась в целительный сон, убаюканная мыслью, что завтра она переговорит обо всем с сестрицей Пуллет в Гэрум-Фёрзе, куда она была приглашена с детьми к чаю. Не то чтобы она ожидала каких-нибудь определенных результатов от этого разговора, но, хотя сделанного не воротить, не может быть, чтобы ничего не изменилось, если как следует поплакаться.
Муж ее не мог заснуть довольно долго — он тоже думал о визите, который нанесет на следующий день, и его размышления на этот счет имели далеко не такой неопределенный и утешительный характер, как мысли его любезной половины.
Под горячую руку мистер Талливер был способен на самые опрометчивые поступки, хотя это и может показаться несовместимым с тем опасливым недоверием к мудреной, удивительной природе человеческих отношений, которое было ему свойственно в минуты более спокойных раздумий. Однако вполне возможно, что между этими, как будто противоположными, чертами в действительности есть прямая связь: мне часто приходилось замечать, что нет лучшего способа запутать моток пряжи, как дернуть за одну нитку…
Вот почему на следующий день, вскоре после обеда (мистер Талливер не жаловался на пищеварение), он направлялся верхом в Бассет — повидать свою сестру Мосс и се мужа. Дело в том, что, как только он бесповоротно решил вернуть взятые им взаймы у миссис Глегг пятьсот фунтов, ему, естественно, пришло в голову, что у него есть долговая расписка на триста фунтов, которые он ссудил своему зятю Моссу, и если бы вышеназванный Мосс ухитрился отдать деньги в ближайшее время, это в значительной степени опровергло бы ошибочное представление, будто мистер Талливер попал в затруднительные обстоятельства, — представление, которое его смелый поступок мог бы вызвать у слабых людей, непременно желающих в точности знать, как будет сделано то или иное, прежде чем они поверят в возможность благополучного исхода.
Мистер Талливер находился в положении, в котором не было ничего нового и примечательного, но, подобно многому другому, оно могло в конце концов привести к весьма плачевным результатам: его считали куда более состоятельным человеком, чем он был на самом деле. А так как все мы склонны верить тому мнению, которое составили о нас другие, то он обычно думал о банкротстве и разорении с тем же чувством, с каким поджарый, долговязый человек слышит, что полнокровного коротышку, его соседа, хватил удар: «Очень жаль, но уж мне-то это не грозит». Он привык к милым шуткам о том, какая важная он персона — хозяин мельницы и владелец хорошего участка земли, и эти шутки, естественно, поддерживали в нем ощущение, что он человек со средствами. Они придавали особо приятный вкус стакану вина, который он выпивал с друзьями в рыночный день, и если бы не нужно было каждые полгода производить очередную выплату процентов, мистер Талливер и правда забыл бы, что его заманчивый для многих участок заложен за две тысячи фунтов. Но разве он так уж в этом виноват? Тысячу он должен был выделить сестре в приданое, а как может рассчитывать выплатить деньги по закладной человек, соседи которого непременно хотят с ним судиться, в особенности если он пользуется хорошей репутацией у приятелей, которые предпочитают взять сотню фунтов взаймы, не оставляя в залог каких-то грязных бумажонок? В натуре нашего друга Талливера было много доброты, и ему неприятно было резко отказывать даже сестре, которая не только, как это свойственно сестрам, появилась на свет без малейшей в том надобности и послужила причиной того, что пришлось заложить землю, но к тому же неудачно вышла замуж и увенчала свои прегрешения восемью детьми. Мистер Талливер знал, что проявляет слабость, но, оправдывался он перед собой, — бедняжка Гритти была такая хорошенькая до того, как вышла за Мосса… иногда тут у него даже голос дрожал. Однако в это утро он был в настроении более приличествующем деловому человеку, и пока он ехал по изрытым глубокими колеями проселкам Бассета, расположенного так далеко от города, что доставка на рынок продуктов и подвоз удобрений поглощали добрую половину доходов, которые давала бедная бассетская земля, — он достиг должной степени раздражения против Мосса, человека без средств, человека, который, если только случались падеж или засуха, непременно получал свою долю, человека, который, чем больше вы стараетесь вытащить его из болота, тем глубже в нем увязает. Это ему только на пользу пойдет, коли придется раздобыть триста фунтов: это заставит его не быть таким растяпой и не сделать в нынешнем году такой же глупости с шерстью, как в прошлом. Да что там, он, мистер Талливер, был слишком снисходителен к своему зятю, а раз он два года не спрашивал с него даже процентов, тот, верно, подумал, что об основном долге и тревожиться нечего. Но мистер Талливер больше не собирается помогать таким людям, что сами на ногах не стоят, и поездка по дорогам Бассета вряд ли могла улучшить его настроение и поколебать эту решимость. Время от времени, когда лошадь спотыкалась, попадая в глубокие выбоины, оставленные подковами в самые грязные дни зимы, мистера Талливера подбрасывало в седле, и с уст его срывались отрывистые проклятья по адресу праотца законников, который так или иначе приложил свое копыто к этим дорогам; а заросшие сорняками земли и полуразвалившиеся изгороди, то и дело попадавшиеся ему на глаза, хотя и не имели отношения к хозяйству его зятя, Мосса, все же еще больше способствовали недовольству мистера Талливера этим незадачливым хлебопашцем. Пусть это поле чужое, но оно с успехом могло бы принадлежать и Моссу. Весь Бассет на один лад: нищенский приход. Так полагал мистер Талливер, и полагал, конечно, не без основания. В Бассете была скудная почва, скверные дороги, бедный, не проживающий в своем поместье лендлорд, бедный, не проживающий в своем приходе священник и не менее бедный помощник священника — один на два прихода. Если кто-нибудь, убежденный в способности человеческого духа торжествовать над обстоятельствами, станет утверждать, что прихожане Бассета при всем том могут быть превосходными людьми, мне нечего возразить против этого абстрактного положения: я знаю одно — в действительности духовный облик Бассета находился в полном соответствии с его обстоятельствами. Глинистые, заросшие травой или покрытые жидкой грязью проселки, которые, казалось, не вели никуда, разве что друг к другу, на самом деле терпеливо шли к пролегавшей в отдалении большой дороге; однако жители Бассета куда чаще направляли свои стопы к средоточию беспутной жизни, официально именовавшемуся «Маркиз из Грэнби», а среди завсегдатаев известному как «Дикисонов кабачок». Большая низкая комната с посыпанным песком полом, пропитанная застарелым табачным духом, к которому примешивался запах прокисшего пива, унылое прыщавое лицо мистера Дикисона, прислонившегося к дверному косяку и выглядевшего при дневном свете столь же неуместно, как оплывший огарок с ночной пирушки, — все это может показаться не слишком заманчивым воплощением соблазна, но для большинства бассетских мужчин, проходивших мимо в зимние сумерки, здесь таилось роковое очарование. И если какая-нибудь из хозяек в Бассете хотела доказать, что муж ее не прожигатель жизни, вряд ли она могла сделать это более убедительно, чем заявив, что от одного троицына дня до другого он не оставил у Дикисона ни шиллинга. Миссис Мосс не раз говорила это о своем муже, когда брат ее был расположен находить в нем одни недостатки — как, например, сегодня… А тут еще ворота на ферму… Не успел мистер Талливер толкнуть их рукояткой хлыста, как они сорвались с верхних петель и чуть не ушибли и его самого и лошадь; ничто не могло так усилить его раздражение. Мистер Талливер уже собрался было спешиться и провести лошадь по жидкой грязи двора, покрытого тенью от мрачных деревянных строений, к длинному полуразрушенному жилому дому, стоящему в более высокой, мощеной части участка, но тут своевременно появился пастух, и это избавило его от необходимости нарушить твердое намерение не слезать с коня во время этого визита. Если человек хочет быть непреклонным, ему лучше оставаться в седле, чтобы не видеть ничьих умоляющих глаз, и говорить, обозревая далекий горизонт… Миссис Мосс услышала лошадиный топот и, когда брат подъехал, уже стояла перед кухонной дверью, устало ему улыбаясь; на руках у нее сидел черноглазый младенец. Миссис Мосс похожа была на брата, но лицо ее поблекло, — пухленькая ручонка малыша, прижавшаяся к ее увядшей щеке, казалось, еще резче подчеркивала это.
— Рада видеть тебя, братец, — сказала она с нежностью в голосе. — Я не ждала тебя сегодня. Как поживаешь?
— О, неплохо, миссис Мосс, неплохо, — холодно обронил брат, как будто с ее стороны было изрядной дерзостью задать этот вопрос. Она сразу поняла, что брат не в духе. Он звал ее миссис Мосс, только когда на нее сердился или когда они были на людях. Но она считала вполне естественным, что бедных каждый может унизить. Миссис Мосс не придерживалась той точки зрения, что все люди равны. Это была безропотная, чадолюбивая, мягкосердечная женщина.
— А что, мужа твоего, видно, нет? — добавил мистер Талливер после нескольких минут угрюмого молчания, во время которого из дому, как цыплята из лукошка вслед за исчезнувшей вдруг наседкой, высыпали четверо ребятишек.
— Да, но он близко, на картофельном поле… Джорджи, сбегай быстренько на Фар-Клоус, скажи отцу, что приехал твой дядя… Ты не сойдешь с лошади, братец, не перекусишь чего-нибудь?
— Нет, нет, не могу. Мне надо будет сразу же ехать домой, — ответил мистер Талливер, глядя в пространство.
— А как миссис Талливер и дети? — смиренно спросила миссис Мосс, не решаясь настаивать на своем приглашении.
— О, как нельзя лучше. Том с Иванова дня идет в новую школу… Сильно потратиться придется. Скверное дело, когда надобно дожидаться своих денег.
— Будь добр, отпусти как-нибудь Тома и Мэгги в гости к их братишкам и сестренкам. Мои малыши ждут не дождутся своей сестрички… А ведь я ее крестная и так ее люблю… Уж такую они вокруг нее суету поднимут, все, что есть, принесут. И я знаю, ей нравится у нас бывать — такое любящее сердечко, а уж до чего шустрая да умненькая, и не расскажешь.
Будь миссис Мосс не воплощенное простодушие, а хитрей из хитрецов, и тогда она не могла бы придумать ничего более удачного, чтоб умилостивить брата, нежели эта похвала по адресу Мэгги. Он редко слышал, чтобы кто-нибудь по собственному почину хвалил «маленькую»; обычно отстаивать ее достоинства приходилось ему самому. Но у тети Мосс Мэгги всегда показывала себя в наилучшем свете. Это была ее Элсейшия, куда не достигала рука закона: если она что-нибудь опрокидывала, пачкала башмаки или рвала платье — в доме тети Мосс это считалось в порядке вещей. Взор мистера Талливера помимо его воли смягчился, и, отвечая, он уже не отвел глаз от сестры.
— Да, ты ей, видать, куда больше по сердцу, чем другие тетушки. Она в нашу семью пошла, ни вот столечко на мать не похожа.
— Мосс говорит, она — вылитая я в молодости, — сказала миссис Мосс, — но я никогда не была такая шустрая и такая охотница до книг. Я думаю, моя Лиззи в нее — вот она, и верно, смышленая… Подойди сюда, Лиззи, голубка, пусть дядя на тебя посмотрит. Он тебя и не узнает, так ты выросла.
Лиззи, черноглазая девчушка лет семи, казалась немного испуганной, когда мать подтолкнула ее вперед: маленькие Моссы испытывали благоговейный трепет перед своим дядей с Дорлкоутской мельницы. Девочка настолько уступала Мэггп в живости характера и выразительности лица, что сравнение могло только польстить отцовской гордости мистера Талливера.
— Да, они немного похожи, — сказал он, благожелательно глядя на фигурку в замусоленном передничке. — Обе пошли в пашу мать. У тебя хватает девчонок, Гритти, — добавил он полусострадательным, полуукоризненным тоном.
— Четверо, благослови их господь, — со вздохом отозвалась миссис Мосс, поглаживая Лиззи по головне, — столько же, сколько и мальчиков. На каждого брата по сестре.
— Да, но им придется самим пробивать себе дорогу, — сказал мистер Талливер, чувствуя, что твердость его поколеблена, и стремясь поддержать ее этим полезным намеком. — Они не должны рассчитывать только на своих братьев.
— Это верно; но, я надеюсь, братья будут любить бедняжек и не забудут, что их один отец с матерью породили. Парнишки от этого бедней не станут, — поспешно проговорила миссис Мосс, робко вспыхивая, как полупогасший огонь.
Мистер Талливер слегка ударил лошадь по крупу, затем придержал ее и сердито крякнул: «Но, ты, балуй у меня!» — к величайшему удивлению этого невинного животного.
— И чем их больше, тем больше они должны любить друг друга, — наставительно молвила миссис Мосс, глядя на детей. Но затем, снова поворачиваясь к брату, добавила: — Хотя, бог даст, и твой парнишка всегда будет хорош с Мэгги, пусть их только двое, как нас с тобой, брат.
Эта стрела попала мистеру Талливеру прямо в сердце. Он не обладал слишком живым воображением, но мысль о Мэггп никогда не покидала его, и ему не требовалось особого труда, чтобы представить себе «маленькую» на месте ее тети Мосс. Неужели она будет когда-нибудь бедовать, и Том не пожалеет ее?
— Да, да, Гритти, — сказал мельник с неожиданной мягкостью в голосе. — Но ведь я всегда делал для тебя все, что мог, — добавил он, словно оправдываясь.
— Я не спорю, брат, я не какая-нибудь неблагодарная, — согласилась бедная миссис Мосс, слишком измученная тяжким трудом и детьми, чтобы сохранить силы еще для гордости. — Но пот и отец… Ну и долго ты, Мосс!
— Долго, говоришь? — обиженно молвил мистер Мосс, едва переводя дыхание. — Я всю дорогу бежал… Что же вы не сойдете с лошади, мистер Талливер?
— Пожалуй, сойду; пройдем-ка в сад, я хочу кой о чем потолковать с вами, — сказал мистер Талливер, рассчитывая, что в отсутствии сестры он скорее выдержит характер.
Он спешился и последовал за мистером Моссом к старой беседке под тисом, а сестра осталась на месте, похлопывая младенца по спинке и задумчиво глядя им вслед.
Их появление в беседке вспугнуло нескольких кур, наслаждавшихся купанием в пыли; громко кудахтая и хлопая крыльями, куры тут же бросились врассыпную. Мистер Талливер сел на скамью, с недоверчивым видом постукал рукояткой хлыста по земле, будто ожидая, что под ней вдруг окажется яма, и ворчливо начал:
— Что это, я вижу — у вас опять пшеница на Корнер-Клоус, и хоть бы горсть удобрений в земле. Ничего у вас и в этом году не выйдет.
Мистер Мосс, до женитьбы на мисс Талливер считавшийся первым щеголем Бассета, сейчас был покрыт щетиной недельной давности и имел уныло-безнадежный вид заезженной клячи. Он ответил терпеливым и вместе раздраженным тоном:
— Что ж поделаешь? Нам, бедным фермерам, приходится изворачиваться, как можем. Пусть, у кого есть шальные деньги, зарывают в землю половину того, что хотят от нее взять.
— Уж не знаю, у кого шальные деньги, как не у тех, кто берет взаймы и не платит процентов, — проворчал мистер Талливер, стремясь затеять ссору: это было бы самым простым и легким предлогом потребовать назад свои триста фунтов.
— Знаю, я запоздал с процентами, — сказал мистер Мосс, — но мне так не повезло с шерстью в прошлом году, а тут еще хозяйка моя прихворнула, все и пошло не как у людей.
— Да уж, — проворчал мистер Талливер, — у нас вечно все не как у людей; пустой мешок прямо стоять не будет.
— Ну, я не знаю, в чем вы можете меня упрекнуть, мистер Талливер, — запротестовал мистер Мосс, — ни один поденщик так не работает, как я.
— А что с того толку? — резко возразил мистер Талливер — Женится человек без гроша за душой, а с одного приданого ферму не поставишь. Я был против этого с первого дня; да разве вы, вы оба, меня слушали? А я не могу больше дожидаться своих денег, я сам должен пять сотенных миссис Глегг, а тут еще на Тома потратиться придется; мне и так концы с концами не снести, даже коли я сполна получу, что мне причитается. Вы должны пораскинуть мозгами — как вернуть мне триста фунтов.
— Ну, ежели вы к этому вели, — отозвался мистер Мосс, безучастно глядя в одну точку, — лучше нам все пустить с молотка и покончить разом; мне придется продать весь скот, до последней головы, чтобы расплатиться с вами и с лендлордом.
Кто станет спорить, что от бедных родственников — одна досада? Что до нас, лучше бы их совсем не было на свете; к тому же почти всегда они сами во всем виноваты. Мистер Талливер дошел в своем раздражении до такого накала, что ему уже ничего не стоило, поднимаясь с места, сердито сказать:
— Ну, делайте что хотите. У меня нет денег для каждого встречного и поперечного. Я должен заботиться о собственных делах и о собственной семье. Не могу я больше дожидаться своих денег, извольте-ка раздобыть их, да поскорей.
С этими словами мистер Талливер, круто повернувшись, вышел из беседки и, не оглядываясь на мистера Мосса, направился к кухонной двери дома, где старший сын Мосса держал под уздцы его лошадь и ждала миссис Мосс. Ее недоумение и тревогу не могло вполне рассеять даже ласковое воркование малыша, разыгрывавшего пальчиками музыкальные пассажи на ее увядшем лице. У миссис Мосс было восемь детей, и все же она никак не могла примириться с тем, что не выжили еще и близнецы. Мистер Мосс полагал, что их отбытие в лучший мир имеет свою утешительную сторону.
— Ты разве не зайдешь, брат? — спросила она, тревожно глядя на мужа, медленно подходившего к ним. Мистер Талливер уже вдел ногу в стремя.
— Нет, нет, прощайте, — сказал он, натягивая поводья и трогаясь с места.
Он чувствовал себя твердым как кремень, пока не выбрался за ворота фермы и не проехал немного по изрезанной глубокими колеями дороге; но прежде чем он достиг следующего поворота, который скрыл бы от его глаз полуразрушенные строения фермы, его, казалось, поразила какая-то неожиданная мысль. Он придержал коня и, стоя на месте, погрузился в горестное раздумье, склоняя голову то к одному плечу, то к другому, словно рассматривая какой-то трудный вопрос с разных сторон. По-видимому, после сделанного сгоряча шага он снова проникся мыслью, что живем мы в мудреном мире. Он повернул лошадь и, стегнув ее, медленно направился обратно, дав выход чувствам, заставившим его изменить свои намерения, в словах: «Бедная девчушка! У нее, может статься, не будет никого, кроме Тома, когда я помру»!
Мистер Талливер еще издали был замечен младшими Моссами, которые тут же поспешили с этим волнующим известием к матери, и не успел мистер Талливер подъехать, миссис Мосс снова была на пороге. Она, видимо, плакала, но когда брат взглянул на нее, внешне никак не проявила своего горя и, убаюкивая на руках младенца, сказала только:
— Отец снова в поле. Он тебе нужен, братец?
— Нет, Гритти, нет, — мягко промолвил мистер Талливер. — Ты не тревожься… Вот и все, что я хотел сказать… Я пока как-нибудь обойдусь с деньгами… Только вы должны хозяйничать поразумней и экономить каждое пенни.
Эта нежданная доброта снова вызвала слезы у миссис Мосс, и она не могла произнести ни слова.
— Полно, полно! А Мэгги к вам приедет. Я привезу ее как-нибудь вместе с Томом, прежде чем он отправится в школу. Ты не горюй, я всегда буду тебе добрым братом.
— Спасибо тебе, брат, на этом слове, — вытирая слезы, промолвила миссис Мосс и, обернувшись к Лиззи, сказала: — Ну-ка, сбегай, принеси крашеное яичко для сестренки Мэгги.
Лиззи вбежала в дом и скоро вернулась, держа в руке бумажный пакетик.
— Оно сварено вкрутую, братец, и покрашено цветными нитками, — очень хорошенькое. Мы сделали его нарочно для Мэгги. Не возьмешь ли ты его с собой?
— Хорошо, хорошо, — сказал мистер Талливер, осторожно опуская яйцо в боковой карман. — Прощай.
И вот достойный мельник едет обратно по проселкам Бассета, снова ломая голову, как ему изыскать необходимые деньги, но вместе с тем с чувством, что он избежал какой-то опасности. Он не мог отделаться от мысли, что обойдись он плохо с сестрой, это неведомо как в отдаленном будущем приведет к тому, что Том плохо обойдется с Мэгги, когда уже не будет отца, чтобы встать на ее защиту. Простым людям вроде нашего друга мистера Талливера свойственно объяснять благородные порывы сердца мнимыми мотивами, и именно таким вот туманным образом он пытался оправдать любовью к дочке и беспокойством за ее судьбу вспыхнувшую вдруг в его душе нежность к сестре.
Глава IX ВИЗИТ В ГЭРУМ-ФЁРЗ
В то время, как ум отца занимали треволнения, ожидавшие Мэгги в будущем, сама она вкушала горести настоящего. В детстве нас не тревожат дурные предчувствия, зато и не утешают воспоминания о печалях, оставшихся позади.
Что и говорить, день начался для Мэгги невесело. Удовольствие, которое она получала от общества Люси, и перспектива послеобеденного посещения Гэрум-Фёрза, где она будет слушать музыкальную шкатулку дядюшки Пуллета, было омрачено уже в одиннадцать часов утра прибытием сент-оггского цирюльника, который в самых резких выражениях отозвался о том, в каком виде он застал ее волосы. Поднимая одну неровно обрезанную прядь за другой, он повторял тоном, в котором боролись отвращение и жалость: «Вы только посмотрите! Ай-ай-ай!» — и для Мэгги это было равносильно открыто выраженному общественному порицанию. Мистер Рэппит, цирюльник, с густо напомаженными волнистыми волосами, которые венцом поднимались вверх, подобно языкам пламени на надгробных урнах, казался Мэгги в эту минуту самым грозным из современников; уж она постарается вовек не зайти на ту улицу в Сент-Огге, где помещается его заведение.
К тому же, поскольку приготовления к визиту всегда считались в семействе Додсонов делом серьезным. Марте было приказано убрать комнату миссис Талливер на час раньше обычного, чтобы можно было загодя достать из шкафа лучшие наряды, не откладывая сборов до последней минуты, как это часто бывает в семьях с менее строгими правилами, где никогда не закатывают лент от шляпок, ничего не заворачивают в папиросную бумагу и где взять да вынуть воскресное платье кажется самым обыкновенным делом. Уже в двенадцать часов миссис Талливер была облачена в свой парадный туалет, который защищало сооружение из сурового полотна, — точь-в-точь обтянутое атласом кресло, закрытое от мух чехлом; Мэгги, несмотря на увещания матери: «Не надо, Мэгги, милочка… ну, не дуйся», — хмурилась и дергала плечами, стараясь по возможности не соприкасаться с жестко накрахмаленным стоячим воротничком; пышущие ярким румянцем щеки Тома казались особенно под стать его лучшему синему костюму, к которому он относился с полным равнодушием, добившись после небольших пререканий единственного, что было для него важно, — разрешения переложить содержимое карманов будничной куртки в ту, что он надел сегодня.
Что касается Люси, она была такая же хорошенькая и аккуратненькая, как и накануне. С ее платьями никогда ничего не случалось, ей всегда в них было удобно, и она с удивлением и жалостью глядела, как Мэгги, надув губы, ежится от раздражающего ее воротничка. Мэгги, конечно, содрала бы его с себя, если бы не воспоминание о пережитом недавно унижении из-за срезанных волос. Ей ничего не оставалось, как только злиться, дергать плечами и капризничать, пока они строили до обеда карточные домики — занятие это считается наиболее подходящим для девочек и мальчиков в праздничном платье. У Тома получались целые пирамиды, а Мэгги не удавалось уложить даже крышу. Так всегда бывало у Мэгги, и Том вывел из этого заключение, что девчонки вообще ничего не способны построить. Но Люси оказалась очень искусной; движения ее были так мягки, она так легко клала карты одну на другую, что Том удостоил ее домики высокой похвалы, наравне со своими, — с тем большей охотой, что он сам учил ее по ее просьбе. Мэгги тоже восхищалась бы домиками Люси и, бросив свои неудачные попытки, любовалась бы ими, если бы воротничок не натирал ей шею и она не была в плохом настроении, и если бы Том неосмотрительно не смеялся, когда падал ее домик, и не называл ее «бестолочь».
— Не смейся надо мной, Том, — вспыхнула она, — я не бестолочь. Я знаю много вещей, которых не знаешь ты.
— О, еще бы, мисс Злючка! Я бы не хотел быть вроде тебя… Вечно ворчишь и строишь такие противные рожи. Люси так не делает. Мне Люси нравится больше. Я бы хотел, чтобы Люси была моей сестрой.
— Гадко и жестоко говорить так, — крикнула Мэгги, быстро вскакивая с пола и обрушивая по пути удивительную пагоду Тома. Она вовсе этого не хотела, однако косвенные улики свидетельствовали против нее. Том побелел от гнева, но ничего не сказал. Он бы ударил ее, но он знал, что бить девочку — подло, а Том Талливер никогда не сделает подлости.
Мэгги застыла в смятении и ужасе. Том поднялся с пола и пошел прочь от развалин своей пагоды, а Люси молча глядела, как котенок, переставший лакать молоко.
— О, Том, — наконец проговорила Мэгги, делая к нему несколько шагов, — я не хотела опрокидывать… честное, честное слово, не хотела!
Не обращая на сестру никакого внимания, Том вытащил из кармана несколько сухих горошинок и стал щелчком посылать их одну за другой в окно… сперва так просто, а затем уже с определенным намерением попасть в престарелую навозную муху, которая грелась на весеннем солнышке, явно наперекор природе, избравшей Тома и горох для скорейшего уничтожения этой немощной особи.
Итак, утро было отравлено для Мэгги, и упорная холодность Тома во время их пути в Гэрум-Фёрз испортила все удовольствие от солнца и свежего воздуха. Том позвал Люси посмотреть на недостроенное птичье гнездо, даже не подумав показать его Мэгги, и очистил для себя и Люси по ивовому прутику, а для Мэгги — лет. Люси сказала: «Мэгги, а ты не хочешь такого?» — но Том был глух.
Все же вид павлина на стене гумна, который в самый подходящий момент, как раз когда они приближались к Гэрум-Фёрзу, распустил хвост, отвлек на время ее мысли от личных бед. И павлин был только первой из диковинок Гэрум-Фёрза. Вся живность на ферме была диковинная — пестренькие, с хохолками бентамки, фрисландские куры с перьями, торчащими в разные стороны, цесарки, которые летали, громко крича и роняя свои хорошенькие, в крапинку, перышки, зобатые голуби и ручная сорока; мало того, там были еще коза и удивительная пятнистая собака, помесь мастиффа и бульдога, огромная как лев. И повсюду белые решетки, и белые воротца, и сверкающие флюгера самых разных фасонов, и на дорожках в саду красивые узоры из цветных камешков — все в Гэрум-Фёрзе было необычно. Том полагал, что необыкновенные размеры жаб — просто дань общей необычности, отличающей владения дядюшки Пуллета, джентльмена-фермера. Жабы, вынужденные вносить арендную плату, естественно, более поджары… Дом был не менее примечателен. От центральной его части выступали вперед два крыла с зубчатыми башенками, и весь он сверкал белой штукатуркой.
Дядюшка Пуллет, увидев гостей издали в окно, поспешил снять засовы и цепочки с парадной двери, которую держали в таком забаррикадированном состоянии из страха перед бродягами, — а вдруг они узнают о выставленной в холле стеклянной витрине с чучелами птиц и, ворвавшись в дом, унесут ее на головах? Тетушка Пуллет тоже появилась на пороге и, как только сестра приблизилась настолько, что могла ее слышать, закричала:
— Ради бога, Бесси, останови детей… Не давай им подняться на крыльцо. Сэлли сейчас вынесет старый половик и тряпку, чтоб обтереть им башмаки.
Половики у парадной двери в доме миссис Пуллет ни в коей мере не предназначались для вытирания ног; даже железный скребок у входа имел заместителя для выполнения его грязной работы. Ничто так не возмущало Тома, как необходимость вытирать ноги, — он считал это умалением его мужского достоинства. И это было только начало неприятностей, с которыми было сопряжено пребывание в доме тетушки Пуллет, где ему однажды обмотали башмаки полотенцами и велели так сидеть — факт, который может заставить отказаться от слишком поспешного вывода, будто посещение Гэрум-Фёрза — большое удовольствие для молодого джентльмена, который любит животных… то есть любит кидать в них камнями.
Следующей неприятности подверглись только дамы. Им пришлось подняться по полированной дубовой лестнице, для которой существовали очень красивые дорожки, но они, скатанные в трубку, хранились в запасной спальне, так что восхождение по этим скользким ступеням в варварские времена служило бы искусом, из которого только незапятнанной добродетели дано выйти с целыми конечностями. Слабость Софи к этой полированной лестнице всегда вызывала яростное возмущение миссис Глегг; но миссис Талливер не позволила себе никаких замечаний и только возблагодарила в душе господа, когда оказалась с детьми в безопасности на верхней площадке.
— Миссис Грей прислала мне новую шляпку, Бесси, — с чувством произнесла миссис Пуллет, в то время как миссис Талливер приводила в порядок свой чепчик.
— Правда, сестрица? — отозвалась миссис Талливер весьма заинтересованным тоном. — Ну и как, нравится она тебе?
— Конечно, вынимать да укладывать обратно — только портить вещи, — продолжала миссис Пуллет, извлекая из кармана связку ключей и глядя на них с задумчивым видом, — но жаль было бы, если б ты не посмотрела на нее. Мало ли что может случиться.
Это серьезное соображение заставило ее покачать головой и отделить от связки один ключ.
— Я боюсь, тебе хлопотно доставать ее, сестрица, — сказала миссис Талливер, — а очень бы хотелось взглянуть, какую она тебе сделала тулью.
Миссис Пуллет поднялась и с меланхолическим видом отперла створку сверкающего полировкой шкафа, где, как вы, вероятно, предполагаете, она хранила новую шляпку. Ничуть не бывало! Такое опрометчивое предположение могло возникнуть только при очень поверхностном знакомстве с обычаями семейства Додсонов. Из этого шкафа миссис Пуллет достала нечто настолько маленькое, что его и не увидеть среди стопок белья. Это был ключ от двери.
— Ты должна пойти со мной в парадную комнату, — произнесла миссис Пуллет.
— Можно детям тоже пойти, сестрица? — спросила миссис Талливер, увидев по глазам Люси и Мэгги, что им очень этого хочется.
— Что ж, — сказала миссис Пуллет, подумав, — пожалуй, спокойней будет, если они пойдут с нами; а то начнут тут что-нибудь трогать, если их оставить.
И вот они двинулись гуськом по начищенному до блеска скользкому коридору, тускло освещенному только верхней полукруглой створкой прикрытого ставней окна. Все это было очень торжественно. Тетушка Пуллет остановилась и отперла дверь; и взорам их предстало нечто еще более торжественное, чем коридор, — темная комната, где в еле брезжившем свете вырисовывались очертания столов и стульев в белых саванах. Все, что не было под чехлом, стояло ножками кверху. Люси схватилась за платье Мэгги, у самой Мэгги часто-часто забилось сердце. Тетушка Пуллет приоткрыла ставню и с грустной медлительностью, так гармонирующей с погребально-торжественным колоритом всей сиены, отперла шкаф. Восхитительный запах розовых лепестков, исходивший оттуда, еще увеличивал удовольствие, которое получали девочки, глядя, как разворачивают один за другим бесконечные листы папиросной бумаги, но кульминационный момент — появление шляпки — принес Мэгги разочарование: она предпочла бы увидеть что-нибудь более сверхъестественное. Однако на миссис Талливер вряд ли какой-нибудь иной предмет мог произвести столь сильное впечатление. Несколько минут она молча осматривала шляпку со всех сторон, затем с чувством проговорила:
— Ну, сестрица, в жизни больше ничего не скажу против высоких тулий.
Это была серьезная уступка. Миссис Пуллет оценила это и почувствовала, что должна достойно ответить.
— Ты хотела бы, сестрица, посмотреть, какова она на мне? — печально промолвила она. — Я еще немного приоткрою ставень.
— Конечно, ежели тебе не трудно снять чепчик, сестрица, — попросила миссис Талливер.
Миссис Пуллет сняла чепец, открыв взорам коричневую шелковую накладку с выступающими вперед кудряшками — предмет в те времена весьма распространенный среди наиболее здравомыслящих женщин зрелых лет, — и, водрузив шляпку на голову, медленно повернулась, как манекен в модной лавке, чтобы миссис Талливер не упустила ни одной детали.
— Что-то мне кажется, с левой стороны многовато лент. Как ты думаешь, сестрица? — спросила миссис Пуллет.
Миссис Талливер склонила голову набок и внимательно осмотрела указанное место.
— Не знаю, пожалуй, оставь, как есть; начнешь мудрить, так потом еще пожалеешь.
— Это верно, — согласилась миссис Пуллет, снимая шляпку и разглядывая ее с задумчивым видом.
— Интересно, сколько она могла взять с тебя за нее, сестрица? — спросила миссис Талливер, прикидывая в уме, нельзя ли создать скромную копию этого шедевра из лоскута шелка, который есть у нее дома.
Миссис Пуллет, поджав губы, покачала головой.
— За нее заплатил Пуллет, — полушепотом произнесла она, — он сказал, что у меня должна быть лучшая шляпка в Гэрумской церкви, а следующая за моей пусть будет чья угодно.
Она не спеша принялась приводить в порядок отделку, чтобы положить шляпку обратно в шкаф, и ее мысли, повидимому, приняли грустный оборот, так как она несколько раз покачала головой.
— Ах, — вздохнула она наконец, — кто знает, сестрица, вдруг мне и не придется больше ее надевать.
— Не говори так, Софи, — прервала ее миссис Талливер, — авось ты будешь лучше чувствовать себя этим летом.
— Ах, но ведь может случиться, кто-нибудь из семьи умрет, — как в тот раз, когда я сделала себе зеленую атласную шляпку. Кузен Эббот может покинуть нас, а траур по нему и думать нечего носить меньше, чем полгода.
— Вот уж некстати было бы, — подхватила миссис Тал-ливер, ясно представляя себе последствия такой несвоевременной кончины. — Совсем не то удовольствие носить шляпку на второй год, особенно, если не знаешь, какие тульи будут в моде — ведь каждое лето новые.
— Ах, так уж ведется на этом свете, — промолвила миссис Пуллет, кладя шляпку на место и запирая шкаф.
Она продолжала хранить молчание и только покачала головой, пока все они не вышли из мрачных покоев и не очутились снова в ее комнате. Тут, заплакав, она сказала:
— Сестрица, если ты не увидишь больше на мне этой шляпки до моей смерти, ты хоть будешь вспоминать, что я показала ее тебе сегодня.
Миссис Талливер понимала, что ей следовало бы растрогаться, но она была скупа на слезы; дородная и цветущая, она не могла с такой легкостью плакать, как ее сестрица Пуллет, и часто, когда ей случалось бывать на похоронах, чувствовала этот свой недостаток. Ее усилия выжать из себя хоть слезинку привели к тому, что лицо ее как-то странно исказилось. Мэгги, внимательно наблюдавшая за всем происходящим, решила, что со шляпкой тетушки Пуллет связана какая-то ужасная тайна, понять которую она по молодости лет якобы не может, и с возмущением думала, что прекрасно бы, как всегда, все поняла, если бы только ее в эту тайну посвятили.
Когда они спустились вниз, дядюшка Пуллет, с несвойственной ему проницательностью, заметил, что миссис, верно, показывала новую шляпку — вот почему они так долго пробыли наверху. Для Тома это время тянулось еще медленнее, так как после их ухода он просидел в томительной неподвижности на самом краешке дивана, прямо против дядюшки Пуллета, который рассматривал его своими мигающими глазками и время от времени обращался к нему: «Юный сэр».
«Ну-с, юный сэр, что вы учите в школе?» — было неизменным вопросом дядюшки Пуллета, на что Том всегда с глуповатым видом потирал лицо и говорил: «Не знаю». В общем, тет-а-тет с дядюшкой Пуллетом приводил его в такое смущение, что он даже не мог рассматривать гравюры на стенах, и мухоловки, и удивительные горшки с цветами; он видел одни только гетры своего дядюшки. Нельзя сказать, чтобы он испытывал благоговение перед умственным превосходством мистера Пуллета; по правде говоря, он решил, что вовсе не желает стать джентльменом-фермером, — кому охота быть таким тонконогим болваном, как его дядюшка Пуллет — форменный простофиля! Мальчишеская застенчивость ни в коей мере не показатель непреодолимого почтения, и зря вы, воображая, что мальчик подавлен вашими сединами и мудростью, всячески стараетесь его приободрить, — десять против одного, что он считает вас редким чудаком. Не знаю, утешит ли вас мое предположение, что эллинские мальчики точно так же смотрели на Аристотеля. Вот если вы справитесь с норовистой лошадью, или победите в рукопашной драке ломового извозчика, или будете разгуливать с ружьем в руках, то и застенчивые юнцы сочтут вас действительно достойным восхищения и зависти. Во всяком случае, чувства Тома Талливера по этому поводу не вызывают сомнений. В самом нежном возрасте, когда из-под его шапочки еще выглядывала кружевная оборочка, он уже стоял, бывало, у перекладины ворот, грозя пальчиком овцам, и, картавя, выкрикивал что-то непонятное, но вряд ли лестное по их адресу, стараясь поразить их и вселить страх в их души, — признак того, что уже тогда он стремился первенствовать над низшими животными, и домашними и дикими, включая майских жуков, соседских собак и маленьких сестренок, что во все времена способствовало процветанию человеческого рода. Ну, а дядюшка Пуллет если и ездил верхом, то лишь на низкорослом пони и был самым миролюбивым человеком, убежденным, что оружие — вещь опасная, еще выстрелит само по себе, когда никто и не ждет. Так что у Тома были довольно веские основания в конфиденциальной беседе с приятелем назвать дядюшку Пуллета «бабой», хотя он не преминул в то же время отметить, что у него «денег куры не клюют».
Облегчало тет-а-тет с дядюшкой только то, что у него в карманах всегда водились мятные лепешки и леденцы от кашля, и, когда он затруднялся продолжать беседу, он извлекал их, заполняя паузу, к обоюдному удовольствию собеседников.
Вопрос «Вы любите мятные лепешки, юный сэр?» требовал только молчаливого кивка, если слова эти сопровождались подношением вышеупомянутого предмета.
Появление девочек навело дядюшку Пуллета на мысль еще об одной усладе, и он достал несколько пирожных, целый запас которых он держал под замком для личного употребления в дождливые дни; но не успели дети взять в руки соблазнительное лакомство, как тетушка Пуллет приказала им подождать, пока не принесут поднос и тарелки, не то они сплошь засыплют пол крошками. Люси это не очень огорчило: пирожное было такое миленькое, ей казалось даже жалко его есть; но Том, воспользовавшись минутой, когда старшие занялись разговором, поспешно набил рот пирожным и украдкой сжевал его. Что до Мэгги, то, зачарованная, как обычно, гравюрой «Одиссей и Навсикая» — дядюшка Пуллет купил ее в качестве «хорошенькой сценки из священного писания», — она уронила пирожное на пол и, неловко повернувшись, раздавила его ногой. Это вызвало такое волнение у тетушки Пуллет и ввергло Мэгги в такую немилость, что она отчаялась услышать в этот день музыкальную табакерку, пока, поразмыслив, не рассудила, что Люси-то ведь у всех в фаворе и может попросить, чтобы пустили музыку. Она шепнула об этом Люси, и та, никогда не отказывавшая в услуге, тихонько подошла к дядюшке и, зардевшись как маков цвет, теребя от смущения бусы, сказала: — Пожалуйста, дядюшка, сыграйте нам песенку. Люси думала, что табакерка играет такие прекрасные мелодии благодаря особому таланту дядюшки Пуллета, да, по правде говоря, так смотрели на это и большинство его соседей. Начать с того, что мистер Пуллет приобрел табакерку, кроме того, он умел ее заводить и заранее знал, какую она сейчас будет играть песню. В общем, обладание этой «музыкой» доказывало, что мистер Пуллет вовсе не такое уж полное ничтожество, каким его можно было счесть. Но дядюшка Пуллет, когда его просили показать свое искусство, никогда не обесценивал его слишком поспешным согласием. «Посмотрим», — обычно отвечал он и хотя бы несколько минут ничем не обнаруживал намерения выполнить просьбу. У дядюшки Пуллета была заготовлена программа на все торжественные случаи — таким образом он ограждал себя от тягостного замешательства при необходимости что-либо решать.
Возможно, ожидание только усилило удовольствие, и когда волшебная музыка наконец началась, Мэгги первый раз за день совсем забыла, что у нее тяжело на душе, что Том на нее сердится; она сидела не дыша, крепко сжав руки, а когда зазвучала песня: «Умолкни, милых пташек хор», на ее счастливом личике появилось то сияющее выражение, которое вызывало у ее матери утешительное чувство, что, несмотря на смуглую кожу, ее дочка иной раз может быть даже хорошенькой. Как только чудесная музыка прекратилась, Мэгги вскочила с места и, подбежав к брату, обвила руками его шею:
— О, Том, правда, прелесть?
Чтобы вы не думали, будто новый приступ гнева из-за этой неуместной и непонятно чем вызванной ласки доказывает отвратительную черствость Тома, необходимо упомянуть, что он держал в руке стакан с настойкой и от толчка пролил половину на пол. Он был бы последней тряпкой, если бы не сказал в сердцах: «Ты что — ослепла?», тем более что его досада на Мэгги была, так сказать, поддержана всеобщим неодобрением ее поступка.
— И почему ты не можешь посидеть спокойно, Мэгги? — простонала ее мать.
— Маленьким девочкам нечего и приходить ко мне, если они так себя ведут, — подхватила миссис Пуллет.
— Очень уж вы неуклюжи, юная мисс, — прибавил дядюшка Пуллет.
Бедная Мэгги снова села на место; музыка была изгнана из ее души, и там опять водворились все семь маленьких демонов.
Миссис Талливер, не ожидая от детей ничего, кроме неприятностей, пока они в доме, воспользовалась первой возможностью предложить, чтобы теперь, когда они отдохнули с дороги, им разрешили пойти поиграть на свежем воздухе. Тетушка Пуллет дала на это свое согласие, с одним условием — гулять только по мощеным дорожкам в саду и, если они хотят смотреть, как кормят птицу, не подходить слишком близко, а стоять на скамеечке, с которой садятся на лошадь; требование это стали им предъявлять после того, как Том был пойман с поличным, когда он гонялся за павлином в иллюзорной надежде, что от страха тот вдруг потеряет перо.
Искусство модистки и материнские огорчения временно отвлекли мысли миссис Талливер от ссоры с миссис Глегг, но теперь, когда самое интересное — обсуждение шляпки — осталось позади и больше не мешали дети, вчерашние тревоги снова овладели ее душой.
— У меня прямо камень на сердце, — начала она разговор, — что сестрица Глегг ушла от нас вчера в такой обиде. Видит бог, у меня и в мыслях не было обижать родную сестру.
— А, — откликнулась миссис Пуллет, — никогда не знаешь, что выкинет Джейн. Я не сказала бы об этом никому чужому, разве что доктору Тэрнбуллу, но я считаю — Джейн живет ниже своих средств. Я не раз говорила об этом Пуллету, он знает.
— Ну да, вы сказали это в прошлый понедельник, когда мы приехали домой после того, как пили у них чай; сегодня как раз неделя будет, — подтвердил мистер Пуллет, принимаясь поглаживать свое колено и укрывать его носовым платком, что он обычно делал, когда разговор принимал интересный оборот.
— Верно, так и было, — сказала миссис Пуллет, — вы лучше меня помните, когда я что скажу. У него замечательная память, у Пуллета, — продолжала она с чувством, глядя на сестру. — Мне бы плохо пришлось, если бы его вдруг хватил удар: он всегда помнит, когда мне время принимать лекарство, а у меня сейчас три разных.
— Пилюли «как прежде» через день… новые капли в одиннадцать часов и в четыре… и «горячительная микстура по надобности», — перечислил мистер Пуллет, посасывая в паузах мятную лепешечку.
— Ах, для сестрицы Глегг, может, тоже было бы лучше, ежели бы она ходила иногда к доктору, а не жевала турецкий ревень, когда у нее что заболит, — заметила миссис Талливер, естественно сводя все эти медицинские вопросы к тому, что занимало ее ум.
— Да, страшно подумать, — воскликнула миссис Пул-лет, всплеснув рунами, — как это люди так играют своим здоровьем. Это значит — просто судьбу искушать. Зачем тогда доктора, если не пользоваться их услугами? И когда у людей есть деньги, чтобы заплатить доктору, это просто неприлично, я тысячу раз говорила Джейн. Мне из-за нее перед знакомыми стыдно.
— Ну, нам-то нечего стыдиться, — заметил мистер Пуллет, — с тех пор как умерла миссис Саттон, у доктора Тэрнбулла нет в нашем приходе другой такой больной, как вы.
— Знаешь, Бесси, Пуллет хранит все склянки от моих лекарств, — сказала миссис Пуллет. — Ни за что ни одной не продаст. Он говорит — пусть, мол, люди увидят их после моей смерти. Уже две длинные полки в кладовой заставлены, — добавила она, принимаясь плакать, — хорошо, если на третью достанет. Я могу отойти прежде, нежели закончу дюжину этих новых. Коробочки от пилюль в стенном шкафу, что в моей комнате, — ты не забудешь, сестрица? — а вот от больших облаток и показать нечего, разве что счета.
— Не говори о своей смерти, сестрица, — прервала ее миссис Талливер, — кто вступится тогда за меня перед сестрой Глегг? И ты одна только можешь заставить ее помириться с мистером Талливером — сестрица-то Дин никогда на мою сторону не станет, а ежели бы и стала, разве может она говорить как те, у кого есть свои деньги?
— Знаешь, Бесси, твой муж, и правда, неладный какой-то, — заметила миссис Пуллет, готовая, по доброте души и свойственной ей склонности к меланхолии, повздыхать и над чужой бедой. — Он никогда не относился хорошо к нашей семье, а должен бы; и дети в него — мальчик озорной, всегда убегает от своих дядюшек и тетушек, а девочка грубит и такая смуглая. Тебе не повезло, Бесси; мне очень тебя жаль, ты ведь моя любимая сестра, и нам всегда нравился одинаковый узорчик на платье.
— Я знаю, Талливер горяч и говорит лишнее, — согласилась миссис Талливер, вытирая скупую слезинку, — но, видит бог, как мы поженились, он никогда и слова не сказал против того, чтоб я звала к нам моих родных.
— Я тебе вредить не стану, Бесси, — сочувственно проговорила миссис Пуллет, — боюсь, у тебя и без того горя хватит; да еще у твоего мужа на шее эта бедная сестра и ее дети, и тяжбы заводить он, говорят, охотник. Боюсь, как бы он не оставил тебя без гроша, когда помрет. Чужому кому я, конечно, и словечком об этом не заикнулась бы.
Такой взгляд на ее обстоятельства вряд ли мог утешить миссис Талливер. Нелегко было расшевелить ее воображение, но раз уж другие думают, что случай ее действительно тяжелый, — как же ей самой этого не думать?
— Но я-то чем виновата, сестрица? — промолвила она. Опасение, что ожидающие ее несчастья могут быть сочтены заслуженной карой за грехи, побудило ее произвести исчерпывающий обзор всех своих деяний за последнее время — Уж не знаю, кто больше старается для своих детей. О благовещении убирались, все пологи с кроватей снимали — так я работала за двоих, видит бог; а какую настойку из бузинного цвета я сделала — диво! Я подаю ее вместе с хересом, хотя сестрица Глегг всегда твердит, что я слишком много трачу. А ежели я люблю, чтоб у меня платье было в порядке, и не хожу по дому пугалом, так зато никто в приходе про меня не скажет, что я сплетни развожу или сею раздоры, потому что я никому худа не желаю; и коли кто пришлет мне пирог с мясом, в накладе не останется, — мои пироги поспорят с лучшими из соседских. И белье всегда в таком порядке, что, умри я завтра, мне не было бы стыдно. Ни одной женщине не дано сделать больше того, что она может.
— Но все это, знаешь, ни к чему, — вздохнула миссис Пуллет, склонив голову набок и с чувством глядя на сестру, — если твой муж порастрясет все деньги. Оно, конечно, если вас пустят с торгов и чужие люди купят вашу мебель, приятно думать, что ты протирала ее как следует. А твое белье с девичьей меткой может разойтись по всей округе. Печально это будет для нашей семьи. — Миссис Пуллет медленно покачала головой.
— Но что я могу поделать, сестрица? — повернулась к ней миссис Талливер. — Мистер Талливер не такой человек, чтобы ему указывать… даже пойди я к пастору и слово в слово заучи, что сказать мужу для его же пользы. Да я и не смыслю, бог свидетель, как это давать деньги на проценты и всякое такое. Я никогда не разбиралась в мужских делах, как сестрица Глегг.
— Ну, ты в этом вроде меня, Бесси, — заметила миссис Пуллет. — Я думаю, было бы куда приличнее, если бы Джейн почаще протирала зеркало в простенке — оно все в пятнах, я видела в прошлое воскресенье, — а не указывала людям, у которых доходы больше, чем у нее сроду бывало, что им делать со своими деньгами. Но мы с Джейн никогда ни в чем не сходились: она все носила только в полоску, а я люблю в крапинку. Ты тоже любишь в крапинку, Бесси, мы всегда в этом заодно были.
Растроганная этим воспоминанием, миссис Пуллет с чувством посмотрела на сестру.
— Да, Софи, — подтвердила миссис Талливер, — я помню, у нас обеих были одинаковые платья, голубые в белую точечку, — у меня и сейчас есть такой лоскут в одеяле; и ежели б ты пошла к сестрице Глегг и уговорила ее помириться с мистером Талливером, ты так бы меня одолжила. Ты всегда была мне хорошей сестрой.
— Ну, по-настоящему Талливер сам должен пойти к ней, и извиниться, и сказать, что наговорил все это сгоряча. Если он занял у нее деньги, нечего ему так высоко себя ставить, — заметила миссис Пуллет, симпатии которой не могли поколебать ее принципов: она не забывала, как должно рассуждать людям с независимым состоянием.
— Что об этом толковать, — чуть не со слезами проговорила бедная миссис Талливер, — даже стань я перед Талливером голыми коленями на камни, он бы все равно этого не сделал — слишком он гордый.
— Ну, не хочешь ли ты, чтоб я уговаривала Джейн просить у него прощения? — сказала миссис Пуллет. — К ней и так-то подступу нет; хорошо, если норов не доведет ее до сумасшедшего дома, хотя в нашей семье никто еще не сходил с ума.
— У меня и в мыслях нет, чтобы она просила прощения, — отозвалась миссис Талливер. — Только бы она оставила все это без внимания и не требовала назад свои деньги— неужто сестра не может попросить об этом сестру? А там время все сгладит, и Талливер забудет о ссоре, и они снова станут друзьями.
Как видите, миссис Талливер не подозревала о бесповоротном решении мужа выплатить миссис Глегг ее пятьсот фунтов; да она просто не в состоянии была бы этому поверить.
— Ладно, Бесси, — печально промолвила миссис Пул-лет, — уж кому-кому, но не мне помогать твоему разорению. Я всегда выручу тебя, если это только в моих силах. И мне не хочется, чтобы люди говорили, что у нас в семье раздоры. Я скажу это Джейн, и мне нетрудно заехать к ней завтра, если Пуллет согласен… Как вы на это смотрите, мистер Пуллет?
— Что ж, ничего не имею против, — ответил мистер Пуллет; ему было безразлично, какой бы оборот ни приняла ссора, лишь бы мистер Талливер не обращался за деньгами к нему. Мистера Пуллета очень волновал вопрос помещения капиталов, и он не мыслил себе, как человек может быть спокоен за свои деньги, если они не вложены в землю.
Они поговорили еще немного насчет того, не следует ли миссис Талливер сопровождать их к сестре Глегг, а затем миссис Пуллет, заметив, что уже время пить чай, достала из ящика буфета салфетку из камчатного полотна и проколола ее спереди наподобие фартука. И действительно, дверь скоро отворилась, но вместо подноса с чаем их взорам предстало нечто столь поразительное, что обе они, и миссис Пуллет и миссис Талливер, вскрикнули не своим голосом, заставив дядюшку Пуллета проглотить леденец от кашля — в пятый раз за всю его жизнь, как он позднее заметил.
Глава X МЭГГИ ВЕДЕТ СЕБЯ ХУЖЕ, ЧЕМ САМА ОЖИДАЛА
Это поразительное «нечто», послужившее причиной такого знаменательного события в жизни дядюшки Пуллета, оказалось ни больше, ни меньше, как крошкой Люси, с самым жалостным видом протягивавшей к ним испачканные ручонки; с одной стороны вся она, от крохотной ножки до верхушки капора, была покрыта жидкой грязью. Чтобы объяснить эту небывалую в доме тетушки Пуллет картину, мы должны вернуться к тому моменту, когда дети пошли играть на воздух и маленькие демоны, с утра завладевшие сердцем Мэгги, после временного отсутствия вернулись со свежими силами. Все утренние неприятности снова встали перед ней во всей своей остроте, когда Том, сильнее прежнего сердясь на Мэгги, теперь уже из-за глупой истории с настойкой, сказал: «Слышь, Люси, пойдем-ка со мной», — и направился к подвалу, где водились жабы, с таким видом, словно Мэгги вообще не существует на свете. Мэгги осталась стоять поодаль, удивительно похожая на маленькую Медузу с обрубленными змеями. Люси была, естественно, довольна, что братец Том так мил с ней, ей было смешно смотреть, как он щекочет концом веревки толстую жабу, сидящую на безопасной дистанции в защищенном железной решеткой углублении перед подвальным окном. Все же Люси хотелось, чтобы Мэгги тоже получила удовольствие от этого зрелища, тем более что та, конечно, придумала бы для жабы имя и рассказала всю ее жизнь; Люси и верила и не верила восхитительным историям, которые Мэгги сочиняла обо всех живых существах, с какими они случайно сталкивались — например, как у миссис Уховертки была дома стирка и кто-то из ее детей упал в медный котел с кипятком, потому-то она и бежит так быстро — скорей позвать доктора. Том глубоко презирал весь тот вздор, что рассказывала Мэгги, и тут же давил уховертку каблуком, доказывая таким легким, хотя и неубедительным способом полную несостоятельность всей этой выдумки; но Люси никак не могла отделаться от мысли, что тут есть доля правды, и, во всяком случае, считала все это очень милой забавой. Поэтому, движимая сочувствием к Мэгги, к которому присоединялось желание узнать историю весьма представительной жабы, она подбежала к Мэгги со словами:
— Ах, там такая смешная толстая жаба, Мэгги! Ну, пойдем посмотрим на нее.
Мэгги ничего не ответила и, еще сильнее нахмурившись, отвернулась. Раз Том предпочитает ей Люси, Люси тоже виновата в его холодности. Совсем недавно Мэгги так же трудно было рассердиться на хорошенькую маленькую Люси, как жестоко обойтись с маленькой белой мышкой, — она и представить себе этого не могла. Но ведь раньше Том не проявлял к Люси никакого интереса, а Мэгги, напротив, ласкала и баловала ее. Теперь же она почувствовала, что не прочь бы даже отшлепать или ущипнуть Люси и довести ее до слез, только чтоб досадить Тому, бить которого, если бы она и осмелилась на это, не было никакого смысла — он и внимания не обратит. Мэгги знала, что не будь с ними Люси, Том куда бы скорее с ней помирился.
Щекотать жирную жабу, которая не обращает на это внимания, может наконец и прискучить, и вскоре Том стал оглядываться вокруг в надежде найти какое-нибудь другое занятие. Но в таком аккуратном садике, где им к тому же запрещали сходить с дорожек, выбор развлечений был довольно ограничен. Единственное удовольствие, которое ему оставалось, было удовольствие преступить все запреты, и Том стал обдумывать дерзкий поход на пруд, расположенный в конце поля за садом.
— Послушай, Люси, — начал он, снова сворачивая кольцом веревку и с многозначительным видом кивая головой, — как ты думаешь, что я собираюсь делать?
— А что, Том? — с любопытством спросила Люси.
— Я хочу пойти на пруд посмотреть на щуку, — объявил юный султан. — Можешь пойти со мной, если хочешь.
— А ты не боишься? — сказала Люси. — Тетушка не велела нам выходить из сада.
— А я выйду с другого конца, никто и не увидит. Да не велика беда, хоть бы и увидали; я убегу домой.
— Но я-то не могу убежать, — вздохнула Люси; никогда в жизни еще она не подвергалась такому жестокому искушению.
— Ну, это неважно, на тебя сердиться не станут, — возразил Том. — Скажешь, это я тебя взял.
Том направился к пруду, и Люси, робко наслаждаясь непривычной решимостью делать то, что не положено, засеменила рядом, взволнованная упоминанием о таинственной знаменитости — щуке, о которой она не могла бы с уверенностью сказать, рыба это или птица. Мэгги увидела, что они вышли из сада, и была не в силах устоять против соблазна последовать за ними. Гнев и ревность, так же как и любовь, всегда должны иметь перед собой свой объект, и мысль, что Том и Люси сделают или увидят что-нибудь, о чем она останется в неведении, была для Мэгги невыносима. Поэтому она поплелась в нескольких шагах сзади, не замечаемая Томом, который, только они подошли к пруду, забыл обо всем на свете, кроме щуки; о ней говорили, что она очень стара, огромна и обладает необыкновенным аппетитом, — исключительно интересное чудище. Щука, подобно другим знаменитостям, не показалась, когда ее ожидали, но Том заметил, как в воде что-то быстро двигается, и пошел по берегу пруда.
— Люси, Люси, — громким шепотом позвал он, — иди сюда. Осторожней! По траве иди, не ступай туда, где были коровы, — добавил он, указывая на мысок сухой травы, окаймленной с обеих сторон истоптанной копытами грязью. Одной из характерных черт, присущих девчонкам, о которых Том вообще был невысокого мнения, он считал их способность всегда шлепаться в грязь.
Люси осторожно подошла, куда ей было велено, и наклонилась взглянуть на то, что казалось издали золотым острием пущенной по воде стрелы. Это водяная змея, сказал ей Том, и Люси, рассмотрев наконец, спиралевидное движение тела, была несказанно удивлена, что змея может плавать… Мэгги подходила все ближе и ближе; она тоже должна увидеть, что там такое, чего бы ей это ни стоило, хотя удовольствия она не получит, раз Том не захотел ее позвать. Наконец она вплотную подошла к Люси, и Том, который уже давно заметил, что она к ним приближается, но не хотел показывать вида, пока не был к тому вынужден, обернулся и сказал:
— А ну, убирайся отсюда, Мэгги! Здесь на траве для тебя нет места. Тебя сюда никто не звал.
В душе Мэгги забушевали такие страсти, что это могло привести к трагедии, если бы для трагедии не требовалось ничего, кроме страстей, но основной в ее чувствах была жажда действия, и Мэгги сделала все, что могла, — яростным ударом смуглой руки она столкнула бедную молочно-розовую Люси прямо в растоптанную коровами грязь.
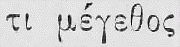
Тут уж Том не сдержался и, пробегая мимо, чтобы поднять беспомощно плачущую Люси, два раза шлепнул сестру по руке. Мэгги отступила под дерево в нескольких шагах от них и глядела оттуда, не испытывая ни малейшего раскаяния. Обычно она сразу же начинала сожалеть об опрометчивом поступке, но сейчас Том и Люси довели се до того, что она была рада испортить им удовольствие — рада досадить так, чтобы всем стало плохо. Чего ей раскаиваться? Том ведь никогда не торопится ее простить, как бы она пи сокрушалась о том, что сделала.
— Подожди, мисс Мэгг, я все расскажу матери, — громко и выразительно произнес Том, как только Люси поднялась и была в состоянии идти домой.
Том не имел привычки ябедничать, но здесь справедливость просто требовала, чтобы Мэгги была строжайшим образом наказана, хотя Тому, конечно, и в голову не приходило выражать свою точку зрения в такой отвлеченной форме; он никогда не употреблял слова «справедливость» и не имел ни малейшего понятия, что его стремление воздать каждому по заслугам может быть названо таким благородным именем. Люси была слишком потрясена постигшим ее несчастьем — ее хорошенькое платьице все испорчено, и так неприятно быть мокрой и грязной, — чтобы задумываться о причинах случившегося. Она совершенно не понимала, в чем ее вина, за что Мэгги могла на нее рассердиться; но ведь это гадко так делать, и Мэгги просто злюка; потому она и не стала великодушно умолять Тома, чтобы он не говорил о Мэгги, и только жалобно плакала, семеня рядом с ним; а Мэгги сидела под деревом и глядела им вслед, как маленькая Медуза.
— Сэлли, — сказал Том, когда они появились в кухонной двери перед служанкой, так и застывшей с вилкой для поджаривания гренков в руке и куском хлеба с маслом во рту, — Сэлли, скажи маме, что Мэгги толкнула Люси.
— Господи помилуй, где вы попали в этакую грязь? — воскликнула Сэлли, с гримасой отвращения наклоняясь, чтобы лучше разглядеть corpus delicti.
Том не обладал столь живым и богатым воображением, чтобы в числе последствий предвидеть и этот вопрос, но не успели ему его задать, как он понял, к чему это может привести: в этом деле обвиняемой будет не одна Мэгги. Он спокойно вышел из кухни, предоставив Сэлли удовольствие самой доискиваться истины, что, как известно, деятельные умы предпочитают готовому ответу.
Сэлли, как вы знаете, в ту же минуту повела Люси в гостиную, ибо держать столь грязный предмет в комнатах Гэрум-Фёрза — значило взять на себя ответственность, слишком тяжкую для одного человека.
— Боже милостивый! — издав нечленораздельный вопль, воскликнула тетушка Пуллет. — Не пускай ее дальше порога, Сэлли! Не давай ей сходить с клеенки, что бы там ни было!
— Батюшки, куда это она свалилась? — промолвила миссис Талливер, подойдя к Люси, чтобы посмотреть, насколько пострадало ее платье: она считала, что отвечает за это перед сестрой Дин.
— С вашего разрешения, мэм, это мисс Мэгги толкнула ее, — сказала Сэлли. — Мастер Том был здесь и рассказал мне; они, верно, ходили на пруд, больше им негде попасть в такую грязь.
— Видишь, Бесси! Что я тебе говорила? — произнесла миссис Пуллет грустно-пророческим тоном. — Вот они, твои дети; трудно себе представить, до чего они дойдут.
Миссис Талливер ничего не ответила; она чувствовала себя поистине несчастнейшей из матерей и по обыкновению мучилась мыслью, что люди сочтут все ее материнские горести заслуженной карой за грехи. Тем временем миссис Пуллет давала Сэлли сложные указания насчет того, как убрать грязь без серьезного урона для дома; кухарке велели подать чай в гостиную, а двое непослушных детей должны были быть с позором изгнаны на кухню. Миссис Талливер, полагая, что они где-нибудь поблизости, пошла побеседовать с ними, но, после некоторых поисков, нашла только Тома, который с довольно хмурым и независимым видом стоял, перегнувшись через белую ограду птичника, и концом веревки дразнил индюка.
— Том, гадкий мальчишка, где твоя сестра? — страдальческим тоном спросила миссис Талливер.
— Не знаю, — отрезал Том. Его горячее желание, чтобы Мэгги была наказана по заслугам, несколько остыло, поскольку он ясно увидел, что это вряд ли может быть осуществлено без незаслуженного осуждения его собственных поступков.
— Как, где же ты ее оставил? — заволновалась мать, оглядываясь по сторонам.
— Сидит под деревом возле пруда, — ответил Том, по-видимому безразличный ко всему, кроме индюка и веревки.
— Сию же минуту отправляйся и приведи ее сюда, гадкий мальчишка! И как ты только додумался пойти на пруд и завести сестру в такую грязь? Ты ведь знаешь, что она непременно что-нибудь натворит, дай ей только случай.
Так уж повелось у миссис Талливер — если она даже бранила Тома, виноватой так или иначе оказывалась Мэгги.
Мысль о том, что Мэгги сидит в одиночестве у пруда, пробудила в душе миссис Талливер привычный страх, и она взобралась на скамейку — удостовериться, что злополучное чадо цело и невредимо, а Том направился — не слишком поспешно — к пруду.
— Этих детей так и тянет в воду, — громко произнесла миссис Талливер, не заботясь о том, что ее никто не слышит, — ох, утонут они когда-нибудь! Лучше бы мы жили от реки подальше.
Однако, когда она не обнаружила Мэгги, а вдобавок еще увидела, что Том возвращается один, — страх, постоянно тяготевший над ней, завладел ею целиком, и она поспешила навстречу сыну.
— Мэгги у пруда нет, нигде нет, — сказал Том, — она ушла.
Можно представить себе, какое поднялось волнение, как все бросились на поиски Мэгги и с каким трудом удалось убедить ее мать, что Мэгги не утонула. Миссис Пуллет заметила, что, кто знает, ребенок, пожалуй, кончит еще хуже, если останется в живых, а мистер Пуллет, смущенный и подавленный таким нарушением установленного порядка — чай отложен, и птица напугана непривычной беготней взад-вперед, — взял лопату, в качестве орудия поисков, и вынул ключ, чтобы отпереть курятник, — а вдруг Мэгги там?
По прошествии некоторого времени Том (не сочтя нужным сообщить, что сам он при подобных обстоятельствах поступил бы так же) высказал предположение, что Мэгги ушла домой, и мать его ухватилась за эту мысль как за якорь спасения.
— Ради всего святого, сестрица, вели заложить коляску и отвезти меня домой; даст бог, нагоним ее по дороге. И Люси не может идти пешком в своем грязном платьице, — добавила миссис Талливер, глядя на невинную жертву, которая сидела на диване босая, закутанная в шаль.
Тетушка Пуллет была готова на все, лишь бы поскорее восстановить в своем доме порядок и спокойствие, и не прошло и получаса, как миссис Талливер уже ехала в фаэтоне, с тревогой глядя вдаль. Мысль о том, что скажет отец, если Мэгги потерялась, господствовала в ее душе над всем прочим.

