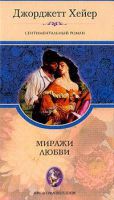Джеймс Генри
Европейцы
Генри Джеймс
Европейцы
Пер. - Л.Полякова.
1
Когда из окон хмурой гостиницы смотришь на тесное кладбище, затерявшееся в толчее равнодушного города, вид его ни при каких обстоятельствах не может радовать глаз, особенно же после унылого мокрого снегопада, словно изнемогшего в безуспешных попытках принарядить эти обветшалые надгробья и могильную сень. Но если в довершение всего календарь показывает, что вот уже шесть недель как наступила благословенная пора весны, а воздух между тем отягощен ледяной изморосью, тогда, согласитесь сами, в пейзаже этом представлено все, что способно нагнать тоску. По крайней мере так думала в некий день, точнее 12 мая, тому назад лет тридцать одна дама, стоя у окна лучшей гостиницы старинного города Бостона. Она стояла там никак не менее получаса - не подряд, конечно, - время от времени она отходила от окна и в нетерпении кружила по комнате. Камин пылал, над горящими углями порхало легкое синеватое пламя, а вблизи камина за столом сидел молодой человек и усердно работал карандашом. Перед ним лежали листы бумаги, небольшие одинаковой величины квадраты, которые он, судя по всему, покрывал рисунками - странного вида фигурками. Работал он быстро, сосредоточенно, порой откидывал назад голову и рассматривал рисунок, отодвинув его на расстояние вытянутой руки, и все время что-то весело напевал или насвистывал себе под нос. Кружа по комнате, дама всякий раз задевала его мимоходом; ее пышно отделанные юбки были необъятны. Но она ни разу не взглянула на его работу - взглядом она удостаивала лишь висевшее над туалетным столиком в противоположном конце комнаты зеркало. Перед ним она на мгновение останавливалась и обеими руками сжимала себе талию или, поднеся их - а руки у нее были пухлые, прелестные - к волосам, то ли поглаживала, то ли приглаживала выбивавшиеся из прически завитки. У внимательного наблюдателя могла бы, пожалуй, мелькнуть мысль, что пока дама урывками производила этот смотр, меланхолическое выражение исчезало с ее лица, но стоило ей только подойти к окну, и черты ее снова явственно отражали все признаки неудовольствия. Впрочем, откуда же было взяться удовольствию, если все вокруг к этому ничуть не располагало? Оконные стекла были заляпаны снегом, надгробные камни внизу на кладбище, казалось, покосились, чтобы как-то увернуться и сохранить лицо. От улицы их отделяла высокая чугунная ограда; по другую ее сторону, переминаясь с ноги на ногу в подтаявшем снегу, толпились в изрядном количестве бостонцы. Многие из них поглядывали то вправо, то влево, как бы чего-то дожидаясь. Время от времени к тому месту, где они стояли, подъезжал странного вида экипаж - дама у окна, при весьма обширном знакомстве с плодами человеческой изобретательности, никогда ничего подобного не видела: это был огромный приземистый ярчайшего цвета омнибус, украшенный, насколько она могла разглядеть, бубенчиками, который влачила по пробитым в мостовой колеям, подбрасывая на ходу, немилосердно громыхая и скрежеща, пара на диво низкорослых лошадок. Когда сей экипаж приближался к определенному месту, толпившиеся у кладбищенской ограды люди - а большей частью это были женщины с пакетами и сумками в руках, бросались к нему, словно движимые единым порывом, - так рвутся в спасательную шлюпку на море, - и исчезали в его необъятных недрах, после чего спасательная шлюпка, или спасательный вагон (как дама у окна в рассеянии окрестила его), подскакивая и позвякивая, отбывал на своих невидимых колесах, причем кормчий (человек у руля) управлял его ходом, стоя не на корме, а на носу, что было уже ни с чем не сообразно. Это необычное явление повторялось каждые три минуты, и поток женщин в плащах, с ридикюлями и свертками в руках, не иссякал: их убыль тут же самым щедрым образом пополнялась. По другую сторону кладбища тянулся ряд невысоких кирпичных домов, повернувшихся самым непринужденным и неприглядным образом спиной к зрителям. Напротив гостиницы, в наиболее удаленной от нее точке, высился покрашенный в белый цвет шпиль деревянной церкви, уходивший вверх и терявшийся в снежной мгле. Дама некоторое время смотрела на этот шпиль. По какой-то, ей одной ведомой, причине он казался ей бесконечно уродливым. Она просто видеть его не могла, она глубоко его ненавидела, он до такой степени ее раздражал, что этого нельзя было объяснить никакими разумными основаниями. Она никогда не думала, что церковные шпили способны возбуждать в ней такие сильные чувства.
Она не была красива, однако лицо ее, даже когда на нем выражалось досадливое недоумение, казалось необыкновенно интересным и привлекательным. Не была она и в расцвете молодости, но очертания ее стройного стана отличались на редкость уместной округлостью, свидетельствуя о зрелости, ровно как и о гибкости, и свои тридцать три года она несла не менее легко, чем, должно быть, Геба (*1) несла своей тонкой в запястье рукой наполненный до краев кубок. Цвет лица у нее был, по выражению французов, несколько утомленный, рот крупный, губы слишком полны, зубы неровные, подбородок слегка расплывчат, нос толстоват, и, когда она улыбалась - а улыбалась она постоянно, - морщинки по обе стороны от него разбегались очень высоко, чуть ли не до самых глаз. Но глаза были прелестны - серые, сияющие, со взором то быстрым, то медлительно нежным, они искрились умом. Густые, темные, прихотливо вьющиеся волосы над низким лбом - единственной красивой чертой ее лица - она заплетала и укладывала в прическу, приводившую на ум женщин юга или востока - словом, что-то чужеземное. У нее был огромный набор серег, и она постоянно меняла их, этим тоже словно подчеркивая свою якобы принадлежность полуденным странам, свое яркое своеобразие. Как-то раз ей сделали за глаза комплимент, и, пересказанный, он доставил ей ни с чем не сравнимое удовольствие: "Вы говорите, красивая женщина? - удивился кто-то. - Да у нее все черты лица дурны". - "Не знаю, какие у нее черты лица, - возразил некий тонкий ценитель, - но держать так голову может только красивая женщина". Надо полагать, она не стала держать ее после этого менее гордо.
Наконец она отошла от окна и прижала к глазам ладони.
- Ужасно! - воскликнула она. - Я ни за что здесь не останусь, ни за что. - Она опустилась в кресло у камина.
- Подожди немного, детка, - ласково откликнулся молодой человек, продолжая рисовать.
Дама выставила из-под платья ножку; ножка была миниатюрна, а на туфельке красовалась огромная розетка. Несколько секунд дама пристально изучала это украшение, потом перевела взгляд на пылавший в камине пласт каменного угля.
- Нет, ты видел что-нибудь более безобразное, чем этот огонь? спросила она. - Видел ли ты что-нибудь более affreux [ужасное (фр.)], чем все вокруг?
Дама говорила по-английски идеально чисто, но то, как она вставила в свою речь французское словечко, показывало, что говорить по-французски ей не менее привычно, чем по-английски.
- По-моему, огонь очень красив, - сказал молодой человек, бросив взгляд в сторону камина. - Эти пляшущие поверх красных угольев синие язычки пламени чрезвычайно живописны. Чем-то это напоминает лабораторию алхимика.
- Слишком уж ты благодушен, мой милый, - заявила его собеседница.
Молодой человек отставил руку с рисунком и, склонив набок голову, медленно провел кончиком языка по нижней губе.
- Благодушен, не спорю, но не слишком.
- Нет, ты невозможен, ты меня раздражаешь, - проговорила, глядя на свою туфельку, дама.
Молодой человек что-то подправил в рисунке.
- Ты, видно, хочешь этим сказать, что раздражена?
- Да, тут ты угадал! - ответила его собеседница с горьким смешком. Это самый мрачный день в моей жизни. Ты-то ведь в состоянии это понять.
- Подожди до завтра, - откликнулся молодой человек.
- Мы совершили страшную ошибку. Если сегодня в этом можно еще сомневаться, завтра никаких сомнений уже не останется. Ce sera clair, au moins! [По крайней мере все будет ясно! (фр.)]
Молодой человек некоторое время молчал и усердно трудился над рисунком. Наконец он проговорил:
- Ошибок вообще нет и не бывает.
- Вполне вероятно - для тех, кто недостаточно умен, чтобы их признать. Не замечать собственные ошибки - какое это было бы счастье, - продолжала, по-прежнему любуясь своей ножкой, дама.
- Моя дорогая сестра, - сказал, не отрываясь от рисунка, молодой человек, - раньше ты никогда не говорила мне, что я недостаточно умен.
- Что ж, по твоей собственной теории, я не вправе признать это ошибкой, - ответила весьма резонно его сестра.
Молодой человек рассмеялся звонко, от души.
- Тебя, во всяком случае, моя дорогая сестра, бог умом не обидел.
- Не скажи - иначе как бы я могла это предложить.
- Разве это предложила ты? - спросил ее брат.
Она повернула голову и изумленно на него посмотрела.
- Ты жаждешь приписать эту заслугу себе?
- Я готов взять на себя вину, если тебе так больше нравится, проговорил он, глядя на нее с улыбкой.
- Ах да, тебе ведь все равно, что одно, что другое, ты не станешь настаивать на своем, ты не собственник.
Молодой человек снова весело рассмеялся.
- Если ты хочешь этим сказать, что у меня нет собственности, ты, безусловно, права!
- Над бедностью не шутят, мой друг, это такой же дурной тон, как и похваляться ею.
- О какой бедности речь? Я только что закончил рисунок, который принесет мне пятьдесят франков.
- Voyons! [Ну-ка посмотрим! (фр.)] - сказала дама и протянула руку.
Он добавил еще два-три штриха и вручил ей листок. Бросив взгляд на рисунок, она продолжала развивать свою мысль:
- Если какой-нибудь женщине вздумалось бы попросить тебя на ней жениться, ты ответил бы: "Конечно, дорогая, с радостью!" И ты женился бы на ней и был до смешного счастлив. А месяца три спустя сказал бы ей при случае: "Помнишь тот благословенный день, когда я умолил тебя стать моею?"
Он поднялся из-за стола, слегка расправил плечи и подошел к окну.
- Ты изобразила человека с чудесным характером, - сказал он.
- О да, у тебя чудесный характер. Я смотрю на него, как на наш капитал. Не будь я в этом убеждена, разве я рискнула бы привезти тебя в такую отвратительную страну?
- В такую уморительную, в такую восхитительную страну! - воскликнул молодой человек, сопровождая свои слова взрывом смеха.
- Это ты насчет тех женщин, которые рвутся в омнибус. Как ты думаешь, что их туда влечет?
- Думаю, там внутри сидит очень красивый мужчина.
- В каждом? Да им конца нет, их здесь сотни, а мужчины в этой стране вовсе, на мой взгляд, не красивы. Что же касается женщин, то с тех пор как я вышла из монастыря (*2), я ни разу не видела их в таком множестве.
- Женщины здесь прехорошенькие, - заявил ее брат, - и вся эта штука очень забавна. Я должен ее зарисовать.
Он быстро подошел к столу и взял рисовальные принадлежности: планшет, листок бумаги и цветные карандаши для пастельной живописи. После чего, примостившись у окна и поглядывая то и дело на улицу, он принялся рисовать с той легкостью, которая говорит об изрядном умении. Все время, что он работал, лицо его сияло улыбкой. Сияло - поскольку другим словом не передать, каким оно зажглось одушевлением. Ему шел двадцать девятый год; он был невысок, изящен, хорошо сложен и, при бесспорном сходстве с сестрой, намного ее совершеннее. У него были светлые волосы и открытое насмешливо-умное лицо, которое отличали тонкая законченность черт, выражение учтивое и вместе с тем несерьезное, пылкий взор синих глаз и так смело изогнутые, так прекрасно вычерченные брови, что если бы дамы писали сонеты, воспевая отдельные черты своих возлюбленных, брови молодого человека, несомненно, послужили бы темой подобного стихотворного сочинения; его верхнюю губу украшали небольшие пушистые усы, которые словно бы взметнуло вверх дыханием постоянной улыбки. В лице его было что-то и доброжелательное, и привлекающее взоры. Но, как я уже сказал, оно совсем не было серьезным. В этом смысле лицо молодого человека являлось по-своему замечательным - совсем не серьезное, оно вместе с тем внушало глубочайшее доверие.
- Не забудь нарисовать побольше снега, - сказала его сестра. - Bonte divine [Боже милостивый (фр.)], ну и климат!
- Я оставлю все белым, а черным нарисую крошечные человеческие фигурки, - ответил молодой человек, смеясь. - И назову... как там это у Китса? (*3) "Первенец мая..."
- Не помню, чтобы мама говорила мне о чем-нибудь подобном.
- Мама никогда не говорила тебе ни о чем неприятном. И потом, не каждый же день здесь бывает подобное. Вот увидишь, завтра будет прекрасная погода.
- Qu'en savez-vous? [Откуда ты это знаешь? (фр.)] Меня здесь завтра не будет. Я уеду.
- Куда?
- Куда угодно, только подальше отсюда. Вернусь в Зильберштадт (*4). Напишу кронпринцу.
Карандаш замер в воздухе, молодой человек, полуобернувшись, посмотрел на сестру.
- Моя дорогая Евгения, - проговорил он негромко, - так ли уж сладко тебе было во время морского путешествия?
Евгения поднялась, она все еще держала в руке рисунок, который вручил ей брат. Это был смелый выразительный набросок, изображавший горсточку несчастных на палубе: сбившись вместе, они цепляются друг за друга, а судно уже так страшно накренилось, что вот-вот опрокинется в провал меж морских валов. Рисунок был очень талантлив, полон какой-то трагикомической силы. Евгения взглянула на него и состроила кислую гримаску.
- Зачем ты рисуешь такие кошмарные вещи? - спросила она. - С каким удовольствием я бросила бы его в огонь!
Она отшвырнула листок. Брат спокойно следил за его полетом. Убедившись, что листок благополучно опустился на пол, он не стал его поднимать. Евгения подошла к окну, сжимая руками талию.
- Почему ты не бранишь, не упрекаешь меня? - спросила она. - Мне было бы легче. Почему ты не говоришь, что ненавидишь меня за то, что я тебя сюда притащила?
- Потому что ты мне не поверишь. Я обожаю тебя, моя дорогая сестра, счастлив, что я здесь, и полон самых радужных надежд.
- Не понимаю, какое безумие овладело тогда мной. Я просто потеряла голову, - добавила она.
Молодой человек продолжал рисовать.
- Это, несомненно, чрезвычайно любопытная, чрезвычайно интересная страна. И раз уж мы оказались здесь, я намерен этим насладиться.
Его собеседница отошла от него в нетерпении, но вскоре приблизилась снова.
- Бодрый дух, конечно, прекрасное свойство, - сказала она, - но нельзя же впадать в крайность; и потом, я не вижу, какой тебе прок от этого твоего бодрого духа?
Молодой человек смотрел на нее, приподняв брови, улыбаясь, постукивая карандашом по кончику своего красивого носа.
- Он сделал меня счастливым.
- Только и всего; и ни капли более. Ты прожил жизнь, благодаря судьбу за такие мелкие дары, что она ни разу не удосужилась ради тебя затрудниться.
- По-моему, один раз она все же ради меня затруднилась - подарила мне восхитительную сестру.
- Когда ты станешь серьезным, Феликс? Ты забыл, что я тебя на несколько лет старше.
- Стало быть, восхити тельную сестру в летах, - подхватил он, рассмеявшись. - Я полагал, что серьезность мы оставили в Европе.
- Хочу надеяться, что здесь ты ее наконец обретешь. Тебе ведь уже под тридцать, а ты всего лишь корреспондент какого-то иллюстрированного журнала, никому не ведомый художник без гроша за душой, богема.
- Никому не ведомый - что ж, согласен, если тебе так угодно, но не очень-то я богема, на этот счет ты заблуждаешься. И почему же без гроша за душой, когда в кармане у меня сто фунтов! И мне заказано еще пятьдесят рисунков, и я намерен написать портреты всех наших кузенов и кузин и всех их кузенов и кузин - по сто долларов с головы.
- Ты совсем не честолюбив, - проговорила Евгения.
- Зато про вас, моя дорогая баронесса, этого никак не скажешь, ответил молодой человек.
Баронесса с минуту молчала, глядя в окно на видневшееся сквозь мутную пелену снега кладбище, на тряскую конку.
- Да, я честолюбива, - вымолвила она наконец, - и вот куда меня завело мое честолюбие - в это ужасное место!
Окинув взглядом комнату, где все было так грубо обнажено - занавески на кровати и на окнах отсутствовали, - и горестно вздохнув, она воскликнула: "Бедное оскандалившееся честолюбие!", после чего бросилась на стоявший тут же, у стола, диван, и прикрыла лицо руками.
Брат ее продолжал рисовать - быстро, уверенно; вскоре он подсел к сестре на диван и показал ей свой рисунок.
- Ты не считаешь, что для никому не ведомого художника это не так уж плохо? - спросил он. - Я шутя заработал еще пятьдесят франков.
Евгения взглянула на положенную ей на колени маленькую пастель.
- Да, это очень талантливо, - ответила она и почти без паузы спросила: - Как ты думаешь, и наши кузины это проделывают?
- Что именно?
- Карабкаются в эти штуки и выглядят при этом вот так.
Феликс ответил не сразу.
- Право, не знаю. Любопытно будет это выяснить.
- Наверное, когда люди богаты, они себе этого не позволяют, - заявила баронесса.
- А ты вполне уверена, что они богаты? - спросил как бы между прочим Феликс.
Баронесса медленно повернулась и в упор на него взглянула.
- Господи боже мой! - пробормотала она. - Ты и скажешь!
- Конечно, куда приятнее, если окажется, что они богаты, - продолжал Феликс.
- Неужели ты думаешь, я приехала бы сюда, если бы не знала, что они богаты?
Молодой человек ответил ясным сияющим взглядом на весьма грозный взгляд сестры.
- Да, было бы куда приятнее, - повторил он.
- Это все, чего я от них жду, - заявила баронесса. - Я не надеюсь, что они будут умны, или - на первых порах - сердечны, или изысканны, или интересны. Но богаты они быть должны, на иное я не согласна.
Откинув на спинку дивана голову, Феликс смотрел на кусочек неба, которому окно служило овальной рамой. Снег уже почти не шел; и небо как будто начало проясняться.
- Надеюсь, что они богаты, - сказал он наконец, - и влиятельны, и умны, и сердечны, и изысканны, и во всех отношениях восхитительны! Tu vas voir [вот увидишь (фр.)]. - Он нагнулся и поцеловал сестру. - Смотри! продолжал он. - Небо на глазах становится золотым, это добрый знак, день будет чудесный.
И в самом деле, за какие-нибудь пять минут погода резко переменилась. Солнце, прорвавшись сквозь снежные тучи, ринулось к баронессе в комнату.
- Bonte divine, - воскликнула она, - ну и климат!
- Давай выйдем и оглядимся, - предложил Феликс.
Вскоре они вышли из подъезда гостиницы. Воздух потеплел, прояснело; солнце осушило тротуары. Они шли, не выбирая улиц, наугад, рассматривали людей и дома, лавки и экипажи, сияющую голубизну неба и слякотные перекрестки, спешащих куда-то мужчин и прогуливающихся не спеша молоденьких девушек, омытый красный кирпич домов и блестящую зеленую листву - это удивительное смешение нарядности и убожества. День с каждым часом делался более вешним, даже на этих шумных городских улицах ощутим был запах земли и деревьев в цвету. Феликсу все казалось необыкновенно забавным. Он назвал эту страну уморительной и теперь, на что бы он ни смотрел, в нем все возбуждало смех. Американская цивилизация предстала перед ним точно сотканной из отменных шуток. Шутки были, вне всякого сомнения, великолепны, молодой человек развлекался весело и благожелательно. У него был дар видеть все, как принято говорить, глазом художника, и интерес, который пробудили в нем при первом знакомстве демократические обычаи, был сродни тому, с каким он наблюдал бы действия юного жизнерадостного существа, блистающего ярким румянцем. Одним словом, интерес был лестным и нескрываемым, и Феликс в эту минуту очень напоминал не сломленного духом молодого изгнанника, возвратившегося в страну своего детства. Он смотрел, не отрываясь, на темно-голубое небо, на искрящийся солнцем воздух, на множество разбросанных повсюду красочных пятен.
- Comme c'est bariole, eh? [Как пестро, да? (фр.)] - проговорил он, обращаясь к сестре на том иностранном языке, к которому по какой-то таинственной причине они время от времени прибегали.
- Да, bariole, ничего не скажешь, - ответила баронесса. - Мне эти краски не нравятся. Они режут глаз.
- Это еще раз подтверждает, что крайности сходятся, - откликнулся молодой человек. - Можно подумать, что судьба привела нас не на запад, а на восток. Только в Каире небо удостаивает таким прикосновением кровли домов; а эти красные и синие вывески, налепленные решительно повсюду, напоминают мне какие-то архитектурные украшения у магометан.
- Молодые женщины здесь никак не магометанки, - проговорила его собеседница. - Про них не скажешь, что они прячут лица. В жизни не видела подобной самонадеянности.
- И слава богу, что не прячут лиц! - воскликнул Феликс. - Они необыкновенно хорошенькие.
- Да, лица у них хорошенькие, - подтвердила она.
Баронесса была очень умная женщина, настолько умная, что о многом судила с отменной справедливостью. Она крепче, чем обычно, прижала к себе руку брата. Она не была такой весело-оживленной, как он, говорила мало, зато подмечала бездну вещей и делала свои выводы. Впрочем, и она испытывала легкое возбуждение, у нее появилось чувство, будто она в самом деле приехала в незнакомую страну попытать счастья. Внешне многое представлялось ей неприятным, раздражало ее, у баронессы был чрезвычайно тонкий, разборчивый вкус. Когда-то давным-давно она в сопровождении самого блестящего общества ездила развлечения ради в провинциальный городок на ярмарку. И теперь ей чудилось, что она на какой-то грандиозной ярмарке развлечения и desagrements [неприятные впечатления (фр.)] были почти одного толка. Она то улыбалась, то отшатывалась; зрелище казалось на редкость забавным, но того и жди, тебя затолкают. Баронессе никогда еще не доводилось видеть такое многолюдье на улицах, никогда еще она не оказывалась затертой в такой густой незнакомой толпе. Но постепенно у нее стало складываться впечатление, что нынешняя эта ярмарка - дело куда более серьезное. Они вошли с братом в огромный общественный парк, где было очень красиво, но, к своему удивлению, она не увидела там карет. День близился к вечеру, пологие лучи солнца обдавали золотом нестриженную сочную траву и стройные стволы деревьев - золотом, словно только что намытым в лотке. В этот час дамы обычно выезжают на прогулку и проплывают в своих каретах мимо выстроившихся в виде живой изгороди прохожих, держа наклонно зонтики от солнца. Здесь, судя по всему, не придерживались такого обыкновения, что, по мнению баронессы, было совсем уж противоестественно, поскольку парк украшала дивная аллея вязов, образующих над головой изящный свод, которая как нельзя более удачно примыкала к широкой, оживленной улице, где очевидно наиболее процветающая bourgeoisie [буржуазия (фр.)] главным образом и совершала променад. Наши знакомцы вышли на эту прекрасно освещенную улицу и влились в поток гуляющих; Феликс обнаружил еще тьму хорошеньких девушек и попросил сестру обратить на них внимание. Впрочем, просьба была совершенно излишней. Евгения и без того уже с пристальным вниманием изучала эти очаровательные юные создания.
- Я убежден, что кузины наши в этом же духе.
И баронесса на это уповала, однако сказала она вслух другое:
- Они очень хорошенькие, но совсем еще девочки. А где же женщины тридцатилетние женщины?
"Ты имеешь в виду - тридцатитрехлетние женщины?" - чуть было не спросил ее брат: обычно он понимал то, что она говорила вслух, и то, о чем умалчивала. Но вместо этого он стал восторгаться закатом, а баронесса, приехавшая сюда искать счастья, подумала, какой для нее было бы удачей, окажись ее будущие соперницы всего лишь девочками. Закат был прекрасен; они остановились, чтобы им полюбоваться. Феликс заявил, что никогда не видел такого роскошного смешения красок. Баронесса тоже нашла, что закат великолепен; возможно, угодить ей теперь стало менее трудно, потому что все время, пока они там стояли, она чувствовала на себе восхищенные взгляды весьма приличных и приятных мужчин, ибо кто же мог пройти равнодушно мимо изысканной дамы в каком-то необыкновенном туалете, скорее всего иностранки, которая, стоя на углу бостонской улицы, восторгается красотами природы на французском языке. Евгения воспряла духом. Она пришла в состояние сдержанного оживления. Она приехала сюда искать счастья, и ей казалось, она с легкостью его здесь найдет. В роскошной чистоте красок этого западного неба таилось скрытое обещание, приветливые, не дерзкие взгляды прохожих тоже в какой-то мере служили порукой заложенной во всем естественной податливости.
- Ну так как, ты не едешь завтра в Зильберштадт? - спросил Феликс.
- Завтра - нет, - ответила баронесса.
- И не станешь писать кронпринцу?
- Напишу ему, что здесь никто о нем даже не слышал.
- Он все равно тебе не поверит, - сказал Феликс. - Оставь его лучше в покое.
Феликс был все так же воодушевлен. Выросший в старом свете, среди его обычаев, в его живописных городах, он тем не менее находил эту маленькую пуританскую столицу по-своему чрезвычайно колоритной. Вечером, после ужина, он сообщил сестре, что завтра чуть свет отправится повидать кузин.
- Тебе, видно, очень не терпится, - сказала Евгения.
- После того как я насмотрелся на всех этих хорошеньких девушек, мое нетерпение по меньшей мере естественно. Всякий на моем месте хотел бы как можно скорее познакомиться со своими кузинами, если они в этом же духе.
- А если нет? - сказала Евгения. - Нам надо было запастись рекомендательными письмами... к каким-нибудь другим людям.
- Другие люди нам не родственники.
- Возможно, они от этого ничуть не хуже.
Брат смотрел на нее, подняв брови.
- Ты говорила совсем не то, когда впервые предложила мне приехать сюда и сблизиться с нашими родственниками. Ты говорила, что это продиктовано родственными чувствами, а когда я попытался тебе возразить, сказала, что voix du sang [голос крови (фр.)] должен быть превыше всего.
- Ты все это помнишь? - спросила баронесса.
- Каждое слово. Я был глубоко взволнован твоею речью.
Баронесса, которая, как и утром, кружила по комнате, остановилась и посмотрела на брата. Она собралась, очевидно, что-то ему сказать, но передумала и возобновила свое кружение. Немного погодя она, как бы объясняя, почему удержалась и не высказала свою мысль, произнесла:
- Ты так навсегда и останешься ребенком, мой милый братец.
- Можно вообразить, что вам, сударыня, по меньшей мере тысяча лет.
- Мне и есть тысяча лет... иногда.
- Что ж, я извещу кузин о прибытии столь необыкновенной персоны. И они тотчас же примчатся, чтобы засвидетельствовать тебе свое почтение.
Евгения, пройдя по комнате, остановилась возле брата и положила ему на плечо руку.
- Они никоим образом не должны приезжать сюда, - сказала она. - Ты не должен этого допустить. Я не так хочу встретиться с ними впервые. - В ответ на заключавшийся в его взгляде немой вопрос она продолжала: - Ты отправишься туда, изучишь обстановку, соберешь сведения. Потом возвратишься назад и доложишь мне, кто они и что из себя представляют, число, пол, примерный возраст - словом все, что тебе удастся узнать. Смотри, ничего не упусти, ты должен будешь описать место действия, обстановку - как бы это поточнее выразиться, mise en scene [мизансцену (фр.)]. После чего к ним пожалую я, когда сочту это для себя удобным. Я представлюсь им, предстану перед ними! - сказала баронесса, выражая на сей раз свою мысль достаточно откровенно.
- Что же я должен поведать им в качестве твоего гонца? - спросил Феликс, относившийся с полным доверием к безошибочному умению сестры устроить все наилучшим образом.
Она несколько секунд смотрела на него, любуясь выражением подкупающей душевной прямоты, потом, с той безошибочностью, которая всегда его в ней восхищала, ответила:
- Все, что ты пожелаешь. Расскажи им мою историю так, как ты найдешь это наиболее... естественным.
И, наклонившись, она подставила ему лоб для поцелуя.
2
Назавтра день, как и предсказал Феликс, выдался чудесный; если накануне зима с головокружительной быстротой сменилась весной, то весна, в свою очередь, с не меньшей быстротой сменилась сейчас летом. Таково было мнение молодой девушки, которая, выйдя из большого прямоугольной формы загородного дома, прогуливалась по обширному саду, отделявшему этот дом от грязной проселочной дороги. Цветущий кустарник и расположенные в стройном порядке садовые растения нежились в обилии тепла и света; прозрачная тень огромных вязов, поистине величественных, как бы с каждым часом становилась гуще; в глубокой, обычно ничем не нарушаемой тишине беспрепятственно разносился дальний колокольный звон. Молодая девушка слышала колокольный звон, но, судя по тому, как она была одета, в церковь идти не собиралась. Голова ее была непокрыта; белый муслиновый лиф платья украшала вышитая кайма, низ платья был из цветного муслина. На вид вы дали бы ей года двадцать два - двадцать три, и хотя молодая особа ее пола, которая весенним воскресным утром гуляет с непокрытой головой по саду, не может в силу естественных причин быть неприятна глазу, вы не назвали бы эту задумавшую пропустить воскресную службу невинную грешницу необыкновенно хорошенькой. Она была высока и бледна, тонка и слегка угловата, ее светло-русые волосы не вились, темные глаза не блестели, своеобразие их состояло в том, что и без блеска они казались тревожными, - как видите, они самым непростительным образом отличались от идеала "прекрасных глаз", рисующихся нам неизменно блестящими и спокойными. Двери и окна большого прямоугольного дома, раскрытые настежь, впускали живительное солнце, и оно щедрыми бликами ложилось на пол просторной, с высоким сводом веранды, которая тянулась вдоль двух стен дома, - веранды, где симметрично были расставлены несколько плетеных кресел-качалок и с полдюжины низких, в форме бочонка табуреток из синего и зеленого фарфора, свидетельствующих о торговых связях постоянных обитателей этого жилища с восточными странами. Дом был старинный - старинный в том смысле, что насчитывал лет восемьдесят; деревянный, светлого и чистого, чуть выцветшего серого цвета, он украшен был по фасаду плоскими белыми пилястрами. Пилястры эти как бы поддерживали классического стиля фронтон с обрамленным размашистой четкой резьбой большим трехстворчатым окном посредине и круглыми застекленными отверстиями в каждом из углов. Большая белая дверь, снабженная начищенным до блеска медным молотком, смотрела на проселочную дорогу и соединялась с ней широкой дорожкой, выложенной старым, потрескавшимся, но содержащимся в необыкновенной чистоте кирпичом. Позади дома тянулись фруктовые деревья, службы, пруд, луга; чуть дальше по дороге, на противоположной ее стороне, стоял дом поменьше, покрашенный в белый цвет, с зелеными наружными ставнями; справа от него был сад, слева - фруктовые деревья. Все бесхитростные детали этой картины сияли в утреннем воздухе, вставая перед зрителем так же отчетливо, как слагаемые, дающие при сложении определенную сумму.
Вскоре из дома вышла еще одна молодая леди; пройдя по веранде, она спустилась в сад и подошла к той девушке, которую я только что вам описал. Вторая молодая леди тоже была тонка и бледна, но годами старше первой, ниже ростом, с гладко зачесанными темными волосами. Глаза у нее, не в пример первой, отличались живостью и блеском, но вовсе не казались тревожными. На ней была соломенная шляпка с белыми лентами и красная индийская шаль, которая, сбегая спереди по платью, доходила чуть ли не до носков обуви. В руке она держала ключик.
- Гертруда, - сказала она, - ты твердо уверена, что тебе лучше остаться дома и не ходить сегодня в церковь?
Гертруда взглянула на нее, потом сорвала веточку сирени, понюхала и отбросила прочь.
- Я никогда и ни в чем не бываю твердо уверена, - ответила она.
Вторая молодая леди упорно смотрела мимо нее на пруд, который сверкал вдали между двумя поросшими елью вытянутыми берегами.
Наконец она очень мягко сказала:
- Вот ключ от буфета, пусть он будет у тебя на случай, если кому-нибудь вдруг что-то понадобится.
- Кому и что может понадобиться? - спросила Гертруда. - Я остаюсь в доме одна.
- Кто-нибудь может прийти, - сказала ее собеседница.
- Ты имеешь в виду мистера Брэнда?
- Да, Гертруда. Он любит пироги и, наверное, не откажется съесть кусочек.
- Не люблю мужчин, которые вечно едят пироги, - объявила, дергая ветку куста сирени, Гертруда.
Собеседница бросила на нее взгляд, но сейчас же потупилась.
- Думаю, папа рассчитывает, что ты придешь в церковь, - проговорила она. - Что мне ему сказать?
- Скажи, что у меня разболелась голова.
- Это правда? - снова упорно глядя на пруд, спросила старшая.
- Нет, Шарлотта, - ответила со всей простотой младшая.
Шарлотта обратила свои спокойные глаза на лицо собеседницы.
- Мне кажется, у тебя опять тревожно на душе.
- На душе у меня в точности так же, как и всегда, - ответила, не меняя тона, Гертруда.
Шарлотта отвернулась, но не ушла, а все еще медлила. Она оглядела спереди свое платье.
- Как ты думаешь, шаль не слишком длинна? - спросила она.
Гертруда перевела взгляд на шаль и обошла Шарлотту, описав полукруг.
- По-моему, ты не так ее носишь.
- А как ее надо носить, дорогая?
- Не знаю, но как-то иначе. Ты должна иначе накинуть ее на плечи, пропустить под локти; сзади ты должна выглядеть иначе.
- Как же я должна выглядеть? - поинтересовалась Шарлотта.
- Наверное, я не смогу тебе этого объяснить, - ответила Гертруда, слегка оттягивая шаль назад. - Показать на себе я могла бы, но объяснить, наверное, не смогу.
Движением локтей Шарлотта устранила легкий беспорядок, который внесла своим прикосновением ее собеседница.
- Хорошо, когда-нибудь ты мне покажешь. Сейчас это неважно. Да и вообще, по-моему, совсем неважно, как человек выглядит сзади.
- Что ты, это особенно важно! Никогда ведь не знаешь, кто там на тебя смотрит, а ты безоружна, не прилагаешь усилий, чтобы казаться хорошенькой.
Шарлотта выслушала это заявление со всей серьезностью.
- Зачем же прилагать усилия, чтобы казаться хорошенькой? По-моему, этого никогда не следует делать, - проговорила она убежденно.
Гертруда, помолчав, сказала:
- Ты права, от этого мало проку.
Несколько мгновений Шарлотта на нее смотрела, потом поцеловала.
- Надеюсь, когда мы вернемся, тебе будет лучше.
- Мне и сейчас очень хорошо, моя дорогая сестра, - сказала Гертруда.
Старшая сестра направилась по выложенной кирпичом дорожке к воротам; младшая медленно пошла по направлению к дому. У самых ворот Шарлотте встретился молодой человек - рослый и видный молодой человек в цилиндре и нитяных перчатках. Он был красив, но, пожалуй, немного дороден. У него была располагающая улыбка.
- Ах, мистер Брэнд! - воскликнула молодая дама.
- Я зашел узнать, идет ли ваша сестра в церковь.
- Она говорит, что нет. Я так рада, что вы зашли. Мне кажется, если бы вы с ней поговорили... - И, понизив голос, Шарлотта добавила: - У нее как будто опять тревожно на душе.
Мистер Брэнд улыбнулся с высоты своего роста Шарлотте.
- Я всегда рад случаю поговорить с вашей сестрой. Для этого я готов пожертвовать почти что любой службой, сколь бы она меня ни привлекала.
- Вам, конечно, виднее, - ответила мягко Шарлотта, словно не рискуя согласиться со столь опасным высказыванием. - Я пойду, а то как бы мне не опоздать.
- Надеюсь, проповедь будет приятной.
- Проповеди мистера Гилмена всегда приятны, - ответила Шарлотта и пустилась в путь.
Мистер Брэнд вошел в сад, и, услышав, как захлопнулась калитка, Гертруда обернулась и посмотрела на него. Несколько секунд она за ним наблюдала, потом отвернулась. Но почти сразу же, как бы одернув себя, снова повернулась к нему лицом и застыла в ожидании. Когда его отделяло от нее всего несколько шагов, мистер Брэнд снял цилиндр и отер платком лоб. Он тут же надел его опять и протянул Гертруде руку. При желании, однако, вы успели бы разглядеть, что лоб у него высокий и без единой морщинки, а волосы густые, но какие-то бесцветные. Нос был слишком велик, глаза и рот слишком малы, тем не менее, как я уже сказал, наружность этого молодого человека была весьма незаурядная. Его маленькие чистой голубизны глаза светились несомненной добротой и серьезностью; о таких людях принято говорить: не человек, а золото. Стоявшая на садовой дорожке девушка, когда он подошел к ней, бросила взгляд на его нитяные перчатки.
- Я думал, вы идете в церковь, - сказал он, - и хотел пойти вместе с вами.
- Вы очень любезны, - ответила Гертруда, - но в церковь я не иду.
Она обменялась с ним рукопожатием; на мгновение он задержал ее руку в своей.
- У вас есть на это причины?
- Да, мистер Брэнд.
- Какие? Могу я поинтересоваться, почему вы не идете в церковь?
Она смотрела на него улыбаясь; улыбка ее, как я уже намекнул, была притушенная. Но в ней сквозило что-то необыкновенно милое, притягательное.
- Потому что небо сегодня такое голубое!
Он взглянул на небо, которое и в самом деле было лучезарным, и, тоже улыбаясь, сказал:
- Мне случалось слышать, что молодые девицы остаются дома из-за дурной погоды, но никак не из-за хорошей. Ваша сестра, которую я повстречал у ворот, сказала мне, что вы предались унынию.
- Унынию? Я никогда не предаюсь унынию.
- Может ли это быть! - проговорил мистер Брэнд, словно она сообщила о себе нечто неутешительное.
- Я никогда не предаюсь унынию, - повторила Гертруда, - но иной раз бываю недоброй. Когда на меня это находит, мне всегда очень весело. Сейчас я была недоброй со своей сестрой.
- Что вы ей сделали?
- Наговорила много такого, что должно было ее озадачить.
- Зачем же вы это сделали, мисс Гертруда? - спросил молодой человек.
- Затем, что небо сегодня такое голубое!
- Теперь вы и меня озадачили, - заявил мистер Брэнд.
- Я всегда знаю, когда озадачиваю людей, - продолжала Гертруда. - А люди, я бы сказала, еще и не так меня озадачивают. Но, очевидно, об этом и не догадываются.
- Вот как! Это очень интересно, - заметил, улыбаясь, мистер Брэнд.
- Вы желали, чтобы я рассказала вам, - продолжала Гертруда, - как я... как я борюсь с собой.
- Да, поговорим об этом. Мне столько вам надо сказать.
Гертруда отвернулась, но всего лишь на миг.
- Ступайте лучше в церковь, - проговорила она.
- Вы же знаете, - настаивал молодой человек, - что я всегда стремлюсь вам сказать.
Гертруда несколько секунд на него смотрела.
- Сейчас этого, пожалуйста, не говорите!
- Мы здесь совсем одни, - продолжал он, снимая свой цилиндр, - совсем одни в этой прекрасной воскресной тишине.
Гертруда окинула взглядом все вокруг: полураскрытые почки, сияющую даль, голубое небо, на которое она ссылалась, оправдывая свои прегрешения.
- Потому-то я и не хочу, чтобы вы говорили. Прошу вас, ступайте в церковь.
- А вы разрешите мне сказать это, когда я вернусь?
- Если вы все еще будете расположены, - ответила она.
- Не знаю, добры вы или не добры, - сказал он, - но озадачить можете кого угодно.
Гертруда отвернулась, закрыла уши ладонями. Он несколько секунд смотрел на нее, потом медленным шагом двинулся в сторону церкви.
Некоторое время она бродила по саду безо всякой цели, смутно томясь. Благовест смолк. Тишина стояла полная. Эта молодая леди испытывала в подобных случаях особое удовольствие от сознания, что она одна, что все домашние ушли и вокруг нет ни души. Нынче и вся прислуга, как видно, отправилась в церковь - в раскрытых окнах ни разу никто не промелькнул, тучная негритянка в красном тюрбане не спускала за домом ведра в глубокий, под деревянным навесом колодец. И парадная дверь просторного, никем не охраняемого жилища была беспечно распахнута с доверчивостью, мыслимой лишь в золотом веке или, что больше к месту, в пору серебряного расцвета Новой Англии (*5). Гертруда медленно вошла в эту дверь; она переходила из одной пустынной комнаты в другую - все они были просторные, светлые, отделанные белыми панелями, с тонконогой мебелью красного дерева, со старомодными гравюрами, преимущественно на сюжеты из Священного писания, развешанными очень высоко. Приятное сознание, о котором я уже говорил, что она одна, что в доме, кроме нее, никого нет, волновало всегда воображение сей молодой леди, а вот почему - она вряд ли могла бы вам объяснить, как не может этого объяснить и повествующий о ней ваш покорный слуга. Ей всегда казалось, что она должна сделать что-то из ряда вон выходящее, должна чем-то это счастливое событие ознаменовать. Но пока она бродила, раздумывая, что бы предпринять, выпавшее ей счастье обычно подходило к концу. Сегодня она больше чем когда-либо томилась раздумьями, пока не взялась наконец за книгу. В доме не имелось отведенной под библиотеку комнаты, но книги лежали повсюду. Среди них не было запретных, и Гертруда не для того осталась дома, чтобы воспользоваться случаем и добраться до недоступных полок. Взяв в руки один из лежавших на виду томов "Тысячи и одной ночи", она вышла на крыльцо и, усевшись, раскрыла его у себя на коленях. С четверть часа она читала повесть о любви принца Камар-аз-Замана и принцессы Будур (*6); когда же, оторвавшись от книги, она подняла глаза - перед ней, как ей показалось, стоял принц Камар-аз-Заман. Прекрасный молодой человек склонился в низком поклоне - поклон был великолепен, она никогда ничего подобного не видела. Молодой человек словно бы сошел с неба; он был сказочно красив; он улыбался - улыбался совершенно неправдоподобно. Гертруда была так поражена, что несколько секунд сидела не двигаясь; потом поднялась, забыв даже заложить пальцем нужную страницу. Молодой человек стоял, держа в руках шляпу, смотрел на нее и улыбался, улыбался. Все это было очень странно.
- Скажите, пожалуйста, - промолвил наконец таинственный незнакомец, не имею ли я честь говорить с мисс Уэнтуорт?
- Меня зовут Гертруда Уэнтуорт, - ответила она еле слышно.
- Тогда... тогда... я имею честь... имею удовольствие... быть вашим кузеном.
Молодой человек был так похож на видение, что сказанные им слова придали ему еще более призрачный характер.
- Какой кузен? Кто вы? - проговорила Гертруда.
Отступив на несколько шагов, он оглядел дом, окинул взглядом сад, расстилающуюся даль, после чего рассмеялся.
- Понимаю, вам это должно казаться очень странным, - сказал он.
В смехе его было все же что-то реальное. Гертруда осмотрела молодого человека с головы до ног. Да, он был необыкновенно красив, но улыбка его застыла почти как гримаса.
- Здесь так тихо, - продолжал он, снова приблизившись. Вместо ответа она лишь молча на него смотрела. И тогда он добавил: - Вы совсем одна?
- Все пошли в церковь, - проговорила Гертруда.
- Этого я и боялся! - воскликнул молодой человек. - Но вы-то меня, надеюсь, не боитесь?
- Вы должны сказать мне, кто вы.
- Я вас боюсь, - признался молодой человек. - Я представлял себе все совсем иначе. Думал, слуга вручит вам мою визитную карточку, и, прежде чем меня впустить, вы посовещаетесь и установите, кто я такой.
Гертруда раздумывала - раздумывала с таким стремительным упорством, что это дало положительный результат, который, очевидно, и был ответом дивным, восхитительным ответом на томившее ее желание, чтобы с ней что-то произошло.
- Я знаю, знаю! - сказала она. - Вы приехали из Европы.
- Мы приехали два дня назад. Значит... вы о нас слышали и в нас верите?
- Мы представляли себе довольно смутно, - сказала Гертруда, - что у нас есть родственники во Франции.
- И вам никогда не хотелось нас увидеть?
Гертруда ответила не сразу.
- Мне хотелось.
- Тогда я рад, что застал дома вас. Нам тоже хотелось вас увидеть, и мы взяли и приехали.
- Ради этого? - спросила Гертруда.
Молодой человек, все так же улыбаясь, огляделся по сторонам.
- Да, пожалуй что, ради этого. Мы не очень вам будем в тягость? спросил он. - Впрочем, не думаю... право же, не думаю. Ну, и, кроме того, мы любим странствовать по свету и рады любому предлогу.
- Вы только что приехали?
- В Бостон - два дня назад. В гостинице я навел справки о мистере Уэнтуорте. Вероятно, это ваш батюшка? Мне сообщили, где он живет; как видно, он достаточно известен. И я решил нагрянуть к вам безо всяких церемоний. Так что нынче, в это прекрасное утро, меня наставили на правильный путь и велели не сходить с него, пока город не останется позади. Я отправился пешком, мне хотелось полюбоваться окрестностями. Я все шел, шел - и вот я здесь, перед вами. Отшагал я немало.
- Семь с половиной миль, - сказала мягко Гертруда.
Теперь, когда молодой человек оказался из плоти и крови, она ощутила вдруг, что ее пробирает смутная дрожь. Гертруда была глубоко взволнована. Еще ни разу в жизни она не разговаривала с иностранцем, но часто и с упоением об этом мечтала. И вот он здесь, перед ней, порожденный воскресной тишиной и предоставленный в полное ее распоряжение! Да еще такой блестящий, учтивый, улыбающийся. Тем не менее, сделав усилие, она взяла себя в руки, напомнила себе, что как хозяйка дома должна оказать ему гостеприимство.
- Мы очень... очень вам рады. Пойдемте в дом, прошу вас.
Она двинулась по направлению к открытой двери.
- Значит, вы не боитесь меня? - снова спросил молодой человек, рассмеявшись своим беззаботным смехом.
Несколько мгновений она раздумывала, потом ответила:
- Мы не привыкли здесь бояться...
- Ah, comme vous devez avoir raison! [И вы, несомненно, правы! (фр.)] воскликнул молодой человек, глядя с одобрением на все вокруг.
Впервые в жизни Гертруда слышала так много произнесенных подряд французских слов. Они произвели на нее сильное впечатление. Гость шел следом за ней и, в свою очередь, смотрел не без волнения на эту высокую привлекательную девушку в накрахмаленном светлом муслиновом платье. Войдя в дом, он при виде широкой белой лестницы с белой балюстрадой приостановился.
- Какой приятный дом, - сказал он. - Внутри он еще больше радует глаз, чем снаружи.
- Приятнее всего здесь, - сказала Гертруда, ведя его за собой в гостиную - светлую, с высоким потолком, довольно пустынную комнату, где они и остановились, глядя друг на друга. Молодой человек улыбался еще лучезарнее; Гертруда, очень серьезная, тоже пыталась улыбнуться.
- Думаю, вам вряд ли известно мое имя, - сказал он. - Меня зовут Феликс Янг. Ваш батюшка доводится мне дядей. Моя матушка была его сводной сестрой; она была старше его.
- Да, - сказала Гертруда, - и она перешла в католичество и вышла замуж в Европе.
- Я вижу, вы о нас знаете, - сказал молодой человек. - Она вышла замуж, а потом умерла. Семья вашего отца невзлюбила ее мужа. Они считали его иностранцем. Но он не был иностранцем. Хотя мой бедный отец и явился на свет в Сицилии, родители его были американцы.
- В Сицилии? - повторила полушепотом Гертруда.
- Жили они, правда, всю жизнь в Европе. Но настроены были весьма патриотично. И мы тоже.
- Так вы сицилиец? - сказала Гертруда.
- Ни в коем случае! Постойте, давайте разберемся. Родился я в небольшом селении - очень славном селении - во Франции. Сестра моя родилась в Вене.
- Значит, вы француз, - сказала Гертруда.
- Избави бог! - вскричал молодой человек.
Гертруда вскинула голову и так и приковалась к нему взглядом. Молодой человек снова рассмеялся.
- Я готов быть французом, если вам этого хочется.
- Все-таки вы в некотором роде иностранец, - сказала Гертруда.
- В некотором роде да, пожалуй. Но хотел бы я знать, в каком? Боюсь, мы так и не удосужились решить этот вопрос. Видите ли, есть такие люди на свете, которые на вопрос о родине, вероисповедании, занятиях затрудняются ответом.
Гертруда смотрела на него не отрываясь. Она не предложила ему сесть. Она никогда о таких людях не слышала; ей не терпелось услышать о них.
- Где же вы живете? - спросила она.
- И на этот вопрос они затрудняются с ответом, - сказал Феликс. Боюсь, вы сочтете нас попросту бродягами. Где только я не жил - везде и всюду. Мне кажется, нет такого города в Европе, где бы я не жил.
Гертруда украдкой глубоко и блаженно вздохнула. Тогда молодой человек снова ей улыбнулся, и она слегка покраснела. Чтобы не покраснеть еще сильнее, она спросила, не хочется ли ему после долгой прогулки что-нибудь съесть или выпить, рука ее невольно опустилась в карман и нащупала там оставленный ей сестрой ключик.
- Вы были бы добрым ангелом, - сказал он, на мгновение молитвенно сложив руки, - если бы облагодетельствовали меня стаканчиком вина.
Она улыбнулась, кивнула ему и в то же мгновение вышла из комнаты. Вскоре она возвратилась, неся в одной руке большой графин, а в другой блюдо с огромным круглым глазированным пирогом. Когда Гертруда доставала этот пирог из буфета, ее вдруг пронзила мысль, что Шарлотта предназначала его в качестве угощения мистеру Брэнду. Заморский родственник рассматривал блеклые, высоко развешанные гравюры. Услыхав, что она вошла, он повернул голову и улыбнулся ей так, словно они были старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки.
- Вы сами мне подаете? - проговорил он. - Так прислуживают только богам.
Гертруда сама подавала еду многим людям, но никто из них не говорил ей ничего подобного. Замечание это придало воздушность ее походке, когда она направилась к маленькому столику, где стояло несколько изящных красных бокалов с тончайшим золотым узором, которые Шарлотта каждое утро собственноручно протирала. Бокалы казались Гертруде очень красивыми, и ее радовало, что вино хорошее, это была превосходная мадера ее отца. Феликс нашел, что вино отменное, и с недоумением подумал, почему ему говорили, будто в Америке нет вина. Гертруда отрезала ему громадный кусок пирога и снова вспомнила о мистере Брэнде. Феликс сидел с бокалом в одной руке, куском пирога в другой - пил, ел, улыбался, болтал.
- Я ужасно голоден, - сказал он. - Устать я не устал, я никогда не устаю, но ужасно голоден.
- Вы должны остаться и пообедать с нами, - сказала Гертруда. - Обед в два часа. К этому времени они возвратятся из церкви, и вы познакомитесь со всеми остальными.
- Кто же эти остальные? - спросил молодой человек. - Опишите мне их.
- Вы сами их увидите. Расскажите мне лучше о вашей сестре.
- Моя сестра - баронесса Мюнстер, - сказал Феликс.
Услышав, что его сестра баронесса, Гертруда встала с места и несколько раз медленно прошлась по комнате. Она молчала, обдумывала то, что он ей сказал.
- Почему она тоже не приехала? - спросила она.
- Она приехала, она в Бостоне, в гостинице.
- Мы поедем и познакомимся с ней, - сказала, глядя на него, Гертруда.
- Она просит вас этого не делать! - ответил молодой человек. - Она шлет вам сердечный привет; она прислала меня известить вас о ее прибытии. Она явится сама засвидетельствовать почтение вашему батюшке.
Гертруда почувствовала, что снова дрожит. Баронесса Мюнстер, которая прислала этого блестящего молодого человека "известить о ее прибытии", которая явится сама, как к царю Соломону царица Савская (*7), "засвидетельствовать почтение" скромному мистеру Уэнтуорту, - столь важная персона предстала в воображении Гертруды со всей волнующей неожиданностью. На мгновение она совсем потерялась.
- А когда ваша сестра явится? - спросила она наконец.
- Как только вы пожелаете... хоть завтра. Она жаждет вас увидеть, ответил, желая быть любезным, молодой человек.
- Да, завтра, - сказала Гертруда; ей не терпелось его расспросить, но она не очень хорошо представляла себе, чего можно ожидать от баронессы Мюнстер. - Она... она... она замужем?
Феликс доел пирог, допил вино; встав с кресла, он устремил на Гертруду свои ясные выразительные глаза.
- Она замужем за немецким принцем, Адольфом Зильберштадт-Шрекенштейн. Правит не он, он младший брат.
Гертруда смотрела на Феликса во все глаза; губы у нее были полуоткрыты.
- Она... она _принцесса_? - спросила она.
- О нет, - сказал молодой человек. - Положение ее весьма своеобразно, брак морганатический.
- Морганатический?
Бедная Гертруда впервые слышала эти имена, эти слова.
- Видите ли, так называется брак между отпрыском правящей династии... и простой смертной. Бедняжке Евгении присвоили титул баронессы - это все, что было в их власти. Ну, а теперь они хотят этот брак расторгнуть. Кронпринц Адольф, между нами говоря, простофиля; но у его брата, а он человек умный, есть насчет него свои планы. Евгения, естественно, чинит препятствия; но, думаю, не потому, что принимает это близко к сердцу, моя сестра - женщина очень умная и, я уверен, вам понравится... но она хочет им досадить. Итак, сейчас все en Fair [повисло в воздухе (фр.)].
Легкий, жизнерадостный тон, каким гость поведал эту мрачно-романтическую историю, поразил Гертруду, но вместе с тем до некоторой степени польстил ей - польстил признанием за ней ума и прочих достоинств; Она была во власти самых разнообразных ощущений, и наконец то, которое одержало верх, облеклось в слова.
- Они хотят расторгнуть ее брак? - спросила она.
- Судя по всему, да.
- Не считаясь с ее желанием?
- Не считаясь с ее правами.
- Наверное, она очень несчастна? - сказала Гертруда.
Гость смотрел на нее, улыбаясь; он поднес руку к затылку и там ее на мгновение задержал.
- Во всяком случае, так она говорит, - ответил он. - Вот и вся ее история. Она поручила мне рассказать ее вам.
- Расскажите еще.
- Нет, я предоставлю это ей самой. Она это сделает лучше.
Гертруда снова в волнении вздохнула.
- Что ж, если она несчастна, - сказала она, - я рада, что она приехала к нам.
Гертруда настолько была всем этим поглощена, что не услышала шагов на крыльце, хотя шаги эти всегда узнавала; только когда они раздались уже в пределах дома, то привлекли наконец ее внимание. Она тут же посмотрела в окно: все возвращались из церкви - отец, сестра, брат и кузен с кузиной, которые обычно по воскресеньям у них обедали. Первым вошел мистер Брэнд; он опередил остальных, так как, очевидно, был все еще расположен сказать ей то, что она не пожелала выслушать час тому назад. Отыскивая ее глазами, он вошел в гостиную. В руке у него были две маленькие книжечки. При виде собеседника Гертруды он замедлил шаг и, глядя на него, остановился.
- Это кузен? - спросил Феликс.
Тогда Гертруда поняла, что должна его представить, но слух ее был переполнен услышанным, и уста, будучи, как видно, с ним заодно, произнесли:
- Это принц... принц Зильберштадт-Шрекенштейн.
Феликс расхохотался, а мистер Брэнд смотрел на него, застыв на месте, между тем как за его спиной выросли в открытых дверях успевшие к этому времени войти в дом и все остальные.
3
В тот же вечер за обедом Феликс Янг докладывал баронессе Мюнстер о своих впечатлениях. Она видела, что он возвратился в наилучшем расположении духа. Однако обстоятельство это не являлось, по мнению баронессы, достаточным поводом для ликования. Она не слишком доверяла суждениям своего брата. Его способность видеть все в розовом свете была так неумеренна, что набрасывала тень на этот прелестный тон. Все же в отношении фактов ей казалось, на него можно было положиться, и потому она изъявила готовность его выслушать.
- Во всяком случае, тебе, как видно, не указали на дверь, - проговорила она. - Ты отсутствовал часов десять, не меньше.
- Указали на дверь! - воскликнул Феликс. - Да они встретили меня с распростертыми объятиями, велели заклать для меня упитанного тельца (*8).
- Понимаю, ты хочешь этим сказать, что они - сонм ангелов.
- Ты угадала; они в буквальном смысле сонм ангелов.
- C'est bien vague [это довольно неопределенно (фр.)], - заметила баронесса. - С кем их можно сравнить?
- Ни с кем. Они несравнимы, ты ничего подобного не видела.
- Премного тебе обязана, но, право же, и это не слишком определенно. Шутки в сторону, они были рады тебе?
- Они были в восторге. Это самый торжественный день моей жизни. Со мной никогда еще так не носились - никогда! Веришь ли, я чувствовал себя важной птицей. Моя дорогая сестра, - продолжал молодой человек, - nous n'avons qu'a nous tenir [нам нужно только не терять выправки (фр.)], и мы будем там звезды первой величины.
Мадам Мюнстер посмотрела на него, и во взгляде ее мелькнула ответная искра. Она подняла бокал и пригубила.
- Опиши их. Нарисуй картину.
Феликс осушил свой бокал.
- Итак, это небольшое селение, затерявшееся среди лугов и лесов; словом, глушь полнейшая, хотя отсюда совсем недалеко. Только, доложу я тебе, и дорога! Вообрази себе, моя дорогая, альпийский ледник, но из грязи. Впрочем, тебе не придется много по ней разъезжать. Они хотят, чтобы ты приехала и осталась у них жить.
- Ах, так, - сказала баронесса, - они хотят, чтобы я приехала и осталась у них жить? Bon! [Прекрасно! (фр.)]
- Там совершенная первозданность, все неправдоподобно естественно. И удивительно прозрачный воздух, и высокое голубое небо! У них большой деревянный дом, нечто вроде трехэтажной дачи - очень напоминает увеличенную нюрнбергскую игрушку (*9). Это не помешало некоему джентльмену, который обратился ко мне с речью, называть его "старинным жилищем", хотя, право, вид у этого старинного жилища такой, будто оно только вчера построено.
- У них все изящно? Со вкусом?
- У них очень чисто; но нет ни пышности, ни позолоты, ни толпы слуг, и спинки кресел, пожалуй, излишне прямые. Но есть можно прямо с пола и сидеть на ступеньках лестницы.
- Это, конечно, завидная честь и, вероятно, там не только спинки кресел излишне прямые, но и обитатели тоже?
- Моя дорогая сестра, - ответил Феликс, - обитатели там прелестны.
- В каком они стиле?
- В своем собственном. Я бы определил его как старозаветный, патриархальный; ton [тон (фр.)] золотого века.
- У них только ton золотой и ничего больше? Есть там какие-нибудь признаки богатства?
- Я бы сказал - там богатство без признаков. Образ жизни скромный, неприхотливый; ничего напоказ и почти ничего - как бы это выразить? - для услаждения чувств; но предельная aisance [непринужденность (фр.)] и уйма денег - не на виду, - которые извлекаются в случае надобности без всякого шума и идут на благотворительные цели, на ремонт арендного имущества, на оплату счетов врачей и, возможно, на приданое дочерям.
- Ну, а дочери, - спросила мадам Мюнстер, - сколько их?
- Две, Шарлотта и Гертруда.
- Хорошенькие?
- Одна хорошенькая, - сказал Феликс.
- Которая же?
Молодой человек молча смотрел на свою сестру.
- Шарлотта, - сказал он наконец.
Она посмотрела на него в свою очередь.
- Все ясно. Ты влюбился в Гертруду. Они, должно быть, пуритане до мозга костей; веселья там нет и в помине.
- Да, веселья там нет. Люди они сдержанные, даже суровые, скорее меланхолического склада; на жизнь они смотрят очень серьезно. Думаю, что у них не все обстоит благополучно. То ли их гнетет какое-то мрачное воспоминание, то ли предвидение грядущих бед. Нет, эпикурейцами их не назовешь. Мой дядюшка, мистер Уэнтуорт, человек высокой нравственности, но вид у бедняги такой, будто его непрерывно пытают, только не поджаривают, а замораживают. Но мы их взбодрим. Наше общество пойдет им на пользу. Расшевелить их будет очень нелегко, но в них много душевной доброты и благородства. И они готовы отдать должное своему ближнему, признать за ним ум, талант.
- Все это превосходно, - сказала баронесса, - но мы, что ж, так и будем жить затворниками в обществе мистера Уэнтуорта и двух этих молодых женщин - как, ты сказал, их зовут, Дебора и Гефсиба? (*10)
- Там есть еще одна молодая девушка, их кузина, прехорошенькое создание; американочка до кончиков ногтей. Ну и, кроме того, существует еще сын и наследник.
- Прекрасно, - сказала баронесса. - Вот мы добрались и до мужчин. Каков он, этот сын и наследник?
- Боюсь, любитель выпить.
- Вот как? Выходит, он все же эпикуреец. Сколько же ему лет?
- Он двадцатилетний юнец, недурен собой, но, думаю, вкусы у него грубоватые. Есть там еще мистер Брэнд - рослый молодой человек, что-то наподобие священника. Они о нем очень высокого мнения; но я его пока не раскусил.
- А между двумя этими крайностями, - спросила баронесса, - между загадочным священнослужителем и невоздержанным юнцом никого больше нет?
- Как же! Там есть еще мистер Эктон. Думаю, - сказал молодой человек, кивая своей сестре, - мистер Эктон тебе понравится.
- Ты ведь знаешь, - сказала баронесса, - я очень привередлива. Он достаточно благовоспитан?
- С тобой он будет благовоспитан. Он человек вполне светский. Побывал в Китае.
Баронесса Мюнстер засмеялась.
- Так он светский на китайский лад? Это, должно быть, очень интересно.
- Если я не ошибаюсь, он нажил там огромное состояние, - сказал Феликс.
- Ну это всегда интересно. Он, что ж, молод, хорош собой, умен?
- Ему под сорок, он лысоват, остер на язык. Я готов поручиться, добавил молодой человек, - что баронесса Мюнстер его очарует.
- Вполне вероятно, - сказала эта дама.
Брат ее, о чем бы ни шла речь, никогда не знал заранее, как это будет встречено, но вскоре баронесса заявила, что он превосходно все описал и что завтра же она отправится туда и посмотрит на все собственными глазами.
Итак, назавтра они сели в поместительную наемную коляску - экипаж не вызвал у баронессы никаких возражений, кроме цены и того обстоятельства, что кучер был в соломенной шляпе (в Зильберштадте слуги мадам Мюнстер носили желтые с красным ливреи). Они выехали за город, и баронесса, откинувшись на сиденье, покачивая над головой зонтик с кружевной оборкой, обозревала придорожный ландшафт. Прошло немного времени, и она произнесла: "Affreux" [ужасно (фр.)]. Брат ее заметил, что, судя по всему, передний план в этой стране значительно уступает plans recules [заднему плану (фр.)]. Баронесса в ответ на это сказала, что пейзаж здесь, по-видимому, весь можно причислить к переднему плану.
Феликс заранее уговорился со своими новыми друзьями, когда он привезет сестру; они решили, что самое подходящее для этого время - четыре часа пополудни. У большого, блещущего чистотой дома, к которому подкатила коляска, был, по мнению Феликса, очень приветливый вид; высокие стройные вязы отбрасывали перед ним удлиненные тени. Баронесса вышла из коляски. Американские родственники дожидались ее, стоя на крыльце. Феликс помахал им шляпой, и длинный худой джентльмен с высоким лбом и чисто выбритым лицом двинулся по направлению к воротам. Шарлотта Уэнтуорт шла рядом с ним. Гертруда несколько медленнее следовала позади. Обе молодые женщины были в шуршащих шелковых платьях. Феликс подвел свою сестру к воротам.
- Будь с ними полюбезнее, - сказал он ей.
Но он тут же понял, что совет его излишен. Евгения и без того уже приготовилась быть любезной - так, как это умела одна Евгения. Феликс испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие, когда мог беспрепятственно любоваться своей сестрой; удовольствие это выпадало ему довольно часто, но не утратило оттого прелести новизны. Если Евгения хотела понравиться, она казалась ему, как и всем прочим людям, самой обворожительной женщиной на свете. Он забывал тогда, что она бывала и другой, что временами становилась жестокой, капризной, что порой даже пугала его. Сейчас, когда, готовясь войти в сад, сестра оперлась на его руку, он понял, что она хочет, что она решила понравиться, и на душе у него стало легко. Не понравиться Евгения не могла.
Высокий джентльмен подошел к ней с видом чопорным и строгим, но строгость эта не содержала в себе и тени неодобрения. Каждое движение мистера Уэнтуорта, напротив, говорило о том, что он сознает, как велика возложенная на него ответственность, как торжественно нынешнее событие, как трудно оказать подобающее уважение даме столь знатной и вместе столь несчастной. Феликс еще накануне заметил эту свойственную мистеру Уэнтуорту бледность, а сейчас ему чудилось что-то чуть ли не мертвенное в бледном, с благородными чертами лице дяди. Но молодой человек был наделен таким даром сочувствия и понимания, что он тут же понял: эти, казалось бы, зловещие признаки не должны внушать опасений. Крылатое воображение Феликса разгадало на лету душевный механизм мистера Уэнтуорта, открыло ему, что почтенный джентльмен в высшей степени совестлив и что совесть его в особо важных случаях дает о себе знать подобными проявлениями физической слабости.
Баронесса, держа за руку дядю, стояла, обратив к нему свое некрасивое лицо и свою прекрасную улыбку.
- Правильно я сделала, что приехала? - спросила она.
- Очень, очень правильно, - сказал с глубокой торжественностью мистер Уэнтуорт.
Он заранее составил в уме небольшую приветственную речь, но сейчас она вся вылетела у него из головы. Он был почти что напуган. На него никогда еще не смотрела так - с такой неотступной, такой ослепительной улыбкой ни одна женщина; и это смущало и тяготило его, тем более что женщина эта, которая так ему улыбалась и которая мгновенно заставила его ощутить, что обладает и другими беспримерными достоинствами, была его собственная племянница, родное дитя дочери его отца. Мысль о том, что племянница его баронесса, что она состоит в морганатическом браке с принцем, уже дала ему более чем достаточную пищу для размышлений. Хорошо ли это? Правильно ли? Приемлемо ли? Он и всегда плохо спал, а прошлой ночью почти не сомкнул глаз, задавая себе эти вопросы. В ушах у него все звучало странное слово "морганатический"; почему-то оно напоминало ему о некоей миссис Морган, которую он знавал когда-то и которая была особой наглой и неприятной. У него было такое чувство, что пока баронесса так на него смотрит и улыбается, его долг тоже смотреть ей прямо в глаза своими точно выверенными, намеренно невыразительными органами зрения. На сей раз ему не удалось выполнить свой долг до конца. Он перевел взгляд на дочерей.
- Мы очень рады вас видеть, - сказал он. - Позвольте мне представить вам моих дочерей: мисс Шарлотта Уэнтуорт, мисс Гертруда Уэнтуорт.
Баронесса подумала, что никогда еще не встречала людей менее экспансивных. Но тут Шарлотта поцеловала ее и, взяв за руку, посмотрела на нее с ласковой и серьезной торжественностью. У Гертруды, по мнению баронессы, вид был весьма похоронный, хотя, казалось бы, она могла и развеселиться: ведь с ней болтал Феликс, улыбаясь своей неотразимой улыбкой. Он поздоровался с ней так, словно они были старые друзья. Когда Гертруда поцеловала баронессу, в глазах ее стояли слезы. Баронесса Мюнстер взяла за руки обеих молодых женщин и оглядела их с головы до ног. Шарлотта нашла, что вид у баронессы очень необычный и одета она весьма странно; Шарлотта не могла решить, хорошо это или дурно. Во всяком случае, она рада была, что они надели шелковые платья и - особенно - что принарядилась Гертруда.
- Кузины мои очень хорошенькие, - сказала баронесса. - У вас очень красивые дочери, сэр.
Шарлотта залилась краской, - никогда еще прямо при ней не говорили о ее внешности так громко и с таким жаром. Гертруда отвела глаза - но не в сторону Феликса; она была страшно довольна. Довольна не тем, что услышала комплимент: она считала себя дурнушкой и в него не поверила. Гертруда вряд ли могла бы объяснить, что именно доставило ей удовольствие - скорей всего что-то в самой манере баронессы разговаривать, - и удовольствие это ничуть не стало меньше, а даже, как ни странно, возросло, оттого что она баронессе не поверила.
Мистер Уэнтуорт помолчал, потом промолвил с чопорной учтивостью:
- Не угодно ли вам пожаловать в дом?
- Но здесь ведь не все ваше семейство, - сказала баронесса, - у вас как будто еще есть дети?
- У меня есть еще сын, - ответил мистер Уэнтуорт.
- Почему же он не вышел меня встретить? - воскликнула баронесса. Боюсь, он совсем не похож на своих очаровательных сестер.
- Не знаю, я выясню, в чем дело.
- Он робеет в присутствии дам, - сказала тихо Шарлотта.
- Он очень красивый, - сказала, стараясь говорить громко, Гертруда.
- Вот мы пойдем сейчас и отыщем его, выманим из его cachette [укрытия (фр.)]. - И баронесса взяла под руку мистера Уэнтуорта, который твердо помнил, что руки ей не предлагал, и по дороге к дому все время размышлял над тем, должен ли он был это сделать и пристало ли ей брать его под руку, если никто ей этого не предлагал. - Мне хотелось бы получше узнать вас, сказала, прерывая его размышления, баронесса, - и чтобы вы меня узнали.
- Желание вполне законное, - ответил мистер Уэнтуорт. - Мы ведь близкие родственники.
- О да! - сказала Евгения. - Приходит в жизни минута, когда всей душой начинаешь ценить родственные узы... родственные привязанности. Думаю, вам это понятно.
Мистер Уэнтуорт слышал накануне от Феликса, что Евгения необыкновенно умна и блистательна. Поэтому он невольно все время чего-то ожидал. До сих пор, как ему казалось, она проявляла ум, а вот теперь, видно, начиналась блистательность.
- Да, родственные привязанности сильны, - пробормотал он.
- У некоторых, - заявила баронесса, - далеко не у всех.
Шарлотта, которая шла рядом, снова взяла ее руку; она все время улыбалась баронессе.
- А вы, cousine, - продолжала баронесса, - откуда у вас этот восхитительный румянец? Настоящие розы и лилеи! - Розы на лице у бедняжки Шарлотты мгновенно возобладали над лилеями, и, ускорив шаг, она поднялась на крыльцо. - Это страна восхитительных румянцев, - продолжала баронесса, обращаясь теперь к мистеру Уэнтуорту. - Насколько я могу судить, они здесь необыкновенно нежны. Румянцами своими славятся Англия... Голландия, но там они быстро грубеют. В них слишком много красного.
- Надеюсь, вы убедитесь, - сказал мистер Уэнтуорт, - что страна эта во многих отношениях превосходит упомянутые вами страны. Мне довелось бывать и в Англии, и в Голландии.
- А, так вы бывали в Европе! - воскликнула баронесса. - Почему же вы меня не навестили? Впрочем, пожалуй, все к лучшему. - Прежде чем войти в дом, она, помедлив, окинула его взглядом: - Я вижу, вы выстроили ваш дом... ваш чудесный дом... в голландском стиле?
- Дом очень старый, - заметил мистер Уэнтуорт. - Когда-то здесь провел неделю генерал Вашингтон.
- О, я слыхала о Вашингтоне, - вскричала баронесса. - Мой отец его боготворил.
- Я убедился, что в Европе он очень популярен, - заметил, немного помолчав, мистер Уэнтуорт.
Феликс тем временем задержался в саду с Гертрудой. Он стоял и улыбался ей точно так же, как накануне. Все происшедшее накануне казалось ей сновидением. Он явился и все преобразил; другие тоже его видели - они с ним разговаривали. Но представить себе, что он возвратится, что станет частью ее повседневной, будничной, наперед известной жизни, она могла, лишь получив новое подтверждение со стороны своих чувств. Подтверждение не заставило себя ждать. Он стоял перед ней, радуя все ее чувства.
- Как вам понравилась Евгения? - спросил Феликс. - Правда ведь, она очаровательна?
- Она блистательна, - ответила Гертруда. - Больше я ничего пока сказать не могу. Она все равно что певица, которая поет арию. Пока она ее не допела, ничего нельзя сказать.
- Она никогда ее не допоет! - смеясь, воскликнул Феликс. - Но вы согласны со мной, что она красива?
Гертруда не нашла баронессу красивой и была разочарована; почему-то она заранее вообразила, что баронесса должна быть похожа на чрезвычайно миловидный портрет императрицы Жозефины (*11), гравюра с которого висела в гостиной, неизменно приводя в восторг младшую мисс Уэнтуорт. Баронесса ни капельки не была похожа на этот портрет - ни капельки! Но, и непохожая, она тем не менее была поразительна, и Гертруда приняла эту поправку к сведению. И все же странно, что Феликс говорит о красоте своей сестры как о чем-то бесспорном.
- Мне кажется, потом она будет казаться мне красивой, - сказала Гертруда. - Как интересно, должно быть, сойтись с ней поближе. Мне это никогда не удается.
- Вы прекрасно с ней сойдетесь, вы очень с ней подружитесь, - заявил Феликс так, словно ничего не могло быть проще.
- Она очень изящна, - проговорила Гертруда, глядя вслед баронессе, словно подвешенной к руке ее отца.
Сказать, что кто-то "изящен", для нее уже было удовольствием. Феликс оглянулся.
- А ваша вчерашняя маленькая кузина, - спросил он, - необычайно хорошенькая... куда она делась?
- Она в гостиной, - ответила Гертруда. - Да, она очень хорошенькая. - У Гертруды было такое чувство, точно она должна сейчас же отвести его в дом, где он увидит ее кузину. Но, немного поколебавшись, она решилась еще помедлить. - Я не верила, что вы вернетесь, - сказала она.
- Не верили, что я вернусь! - смеясь, воскликнул Феликс. - Тогда вы не догадываетесь о впечатлении, произведенном на это чувствительное сердце.
Гертруда решила, что скорее всего он говорит о впечатлении, произведенном на него кузиной Лиззи.
- Просто я не верила, - сказала она, - что мы вас увидим снова.
- Помилуйте, куда же я мог деться?
- Не знаю, я думала, вы растаете в воздухе.
- Это, конечно, очень лестно, но я не настолько бесплотен. Таю я достаточно часто, - сказал Феликс, - но что-то от меня всегда остается.
- Я вышла на крыльцо дожидаться вас, потому что все вышли. Но если бы вы так и не появились, я ничуть не была бы удивлена.
- Надеюсь, - сказал Феликс, - вы были бы разочарованы?
Гертруда несколько мгновений смотрела на него, потом покачала головой:
- Нет... нет!
- Ah, par exemple! [Вот так так! (фр.)] Вы заслуживаете того, чтобы я никогда вас не покидал.
Когда они вошли в гостиную, мистер Уэнтуорт торжественно представлял баронессе присутствующих. Перед ней стоял молодой человек, который то и дело краснел, посмеивался и переминался с ноги на ногу - он был стройный, с кротким лицом, правильностью черт напоминавшим лицо отца. За его спиной два другие джентльмена тоже поднялись со своих мест, а в стороне от них, у одного из окон, стояла необычайно хорошенькая молодая девушка. Девушка вязала чулок, но, в то время как пальцы ее проворно перебирали спицы, она не спускала блестящих широко раскрытых глаз с баронессы.
- Как же вашего сына зовут? - спросила, улыбаясь молодому человеку, Евгения.
- Меня зовут Клиффорд Уэнтуорт, мэм, - сказал он срывающимся от смущения голосом.
- Почему вы не изволили выйти меня встречать, мистер Клиффорд Уэнтуорт? - спросила с той же своей прекрасной улыбкой баронесса.
- Я думал, я вам не понадоблюсь, - сказал молодой человек, медленно пятясь.
- Как может не понадобиться beau cousin [очаровательный кузен (фр.)], коль скоро он у вас существует! Но так и быть, если впредь вы будете со мной очень милы, я вас прощу.
И мадам Мюнстер обратила свою улыбку к прочим присутствующим. Сначала она перенесла ее на бесхитростную физиономию облаченного в долгополую одежду мистера Брэнда, который не сводил глаз с хозяина дома, как бы призывая мистера Уэнтуорта вывести его поскорее из этого противоестественного положения. Мистер Уэнтуорт назвал его имя. Евгения подарила мистера Брэнда наилюбезнейшим взглядом и тут же перевела его на следующее лицо.
Этот последний был нерослым, неосанистым джентльменом с живыми, наблюдательными, приятными темными глазами, небольшим количеством редких темных волос и небольшими усами. Он стоял, засунув руки в карманы, но, как только Евгения на него взглянула, сразу же их оттуда вынул. Однако, в отличие от мистера Брэнда, он не пытался уклониться, не призывал на помощь хозяина дома. Он встретился взглядом с Евгенией и, по-видимому, почел эту встречу за счастье. Мадам Мюнстер мгновенно ощутила, что, по существу, он самое здесь значительное лицо. Она не пожелала это впечатление скрыть и отчасти обнаружила его легким одобрительным кивком, когда мистер Уэнтуорт произнес:
- Мой кузен - мистер Эктон.
- Ваш кузен, но не мой? - спросила баронесса.
- Это зависит только от вас! - сказал мистер Эктон, смеясь.
Баронесса несколько мгновений на него смотрела; ей бросилось в глаза, что у него очень белые зубы.
- Это будет зависеть от вашего поведения, - сказала она. - Думаю, торопиться мне не следует. Кузенов и кузин у меня достаточно. Разве что мне позволено еще претендовать на родство с этой очаровательной юной леди.
И она указала на молодую девушку у окна.
- Это моя сестра, - сказал мистер Эктон.
И Гертруда Уэнтуорт, обняв молодую девушку за плечи, вывела ее вперед, хотя та нисколько, судя по всему, не нуждалась в том, чтобы ее вели. Она легкими быстрыми шагами направилась к баронессе, с полным хладнокровием сворачивая вокруг спиц недовязанный чулок. Глаза у нее были темно-голубые, волосы темно-каштановые, и была она необычайно хорошенькая.
Евгения поцеловала ее, как и двух других молодых девушек, потом, слегка отстранив от себя, посмотрела на нее.
- А вот это совсем другой type [тип (фр.)], - сказала она, выговаривая это слово на французский лад. - И весь облик, и характер совсем иные, мой дорогой дядя, чем у ваших дочерей. Пожалуй, Феликс, - продолжала она, вот таким мы и представляли себе всегда тип американки.
Служившая наглядным примером молодая девушка улыбалась слегка всем по очереди и вне очереди - Феликсу.
- Я вижу здесь только один тип, - вскричал Феликс, - тип, достойный восхищения!
Реплика эта встречена была полным молчанием, но мгновенно все постигавший Феликс постиг уже, что молчание, которое время от времени смыкало уста его новых знакомцев, не было укоризненным или негодующим. Чаще всего оно выражало ожидание или смущение. Все они столпились вокруг его сестры, как бы ожидая, что сейчас она продемонстрирует какую-нибудь сверхъестественную способность, какой-нибудь необыкновенный талант. Они смотрели на нее с таким видом, словно перед ними был жонглер словами в блестящем умственном уборе из газа и мишуры. Вид их придал последующим фразам мадам Мюнстер некий иронический оттенок.
- Итак, это ваш кружок, - сказала она, обращаясь к своему дяде. - Это ваш salon и его постоянные посетители. Я рада видеть всех в полном сборе.
- О да, - сказал мистер Уэнтуорт, - они то и дело забегают к нам мимоходом. Вы должны последовать их примеру.
- Папа, - вмешалась Шарлотта Уэнтуорт, - мы ждем от наших новых родственников большего. - И она обратила вдруг свое милое серьезное лицо, в котором робость сочеталась с невозмутимым спокойствием, к их важной гостье.
- Как вас зовут? - спросила она.
- Евгения Камилла Долорес, - ответила, улыбаясь, баронесса. - Но называть меня так длинно не надо.
- Если вы позволите, я буду называть вас Евгенией. Вы должны приехать и остаться у нас жить.
Баронесса с большой нежностью коснулась руки Шарлотты, но не спешила с ответом. Она спрашивала себя, сможет ли она с ними ужиться.
- Это было бы просто чудесно... просто чудесно, - сказала баронесса, обводя глазами комнату и всех присутствующих. Ей хотелось выиграть время, отодвинуть окончательное решение. Взгляд ее упал на мистера Брэнда, который смотрел на нее, скрестив на груди руки, подперев ладонью подбородок. - Этот джентльмен, очевидно, какое-то духовное лицо? - понизив голос, спросила она у мистера Уэнтуорта.
- Он священник, - ответил мистер Уэнтуорт.
- Протестантский? - поинтересовалась Евгения.
- Я унитарий (*12), сударыня, - проговорил внушительным тоном мистер Брэнд.
- Вот как, - сказала Евгения. - Это что-то новое.
Она никогда о таком вероисповедании не слышала. Мистер Эктон засмеялся, а Гертруда взглянула с беспокойством на мистера Брэнда.
- Вы не побоялись приехать в такую даль, - сказал мистер Уэнтуорт.
- В такую даль... в такую даль, - подхватила баронесса, покачивая с большим изяществом головой, и покачивание это можно было истолковать как угодно.
- Хотя бы поэтому вы должны у нас поселиться, - сказал мистер Уэнтуорт суховатым тоном, который (Евгения была достаточна умна, чтобы это почувствовать) нисколько не снижал высокой учтивости его предложения. Она взглянула на своего дядю, и на какой-то миг ей показалось, что в этом холодном, застывшем лице она улавливает отдаленное сходство с полузабытыми чертами матери. Евгения принадлежала к числу женщин, способных на душевные порывы, и сейчас она ощутила, как в душе у нее что-то нарастает. Она все еще обводила взглядом окружавшие ее лица и в устремленных на нее глазах читала восхищение; она улыбнулась им всем.
- Я приехала посмотреть... попытаться... просить... - сказала она. Мне кажется, я поступила правильно. Я очень устала. Мне хочется отдохнуть. - В глазах у нее были слезы. Пронизанный светом дом, благородные, уравновешенные люди, простая строгая жизнь - ощущение всего этого нахлынуло на нее с такой неодолимой силой, что она почувствовала, как поддается одному из самых, быть может, искренних в своей жизни порывов. Мне хотелось бы здесь остаться, - сказала она. - Примите меня, пожалуйста. - Хотя она улыбалась, в голосе ее, так же как и в глазах, были слезы.
- Моя дорогая племянница, - сказал мистер Уэнтуорт ласково.
Шарлотта, обняв баронессу, притянула ее к себе, а Роберт Эктон отвернулся тем временем к окну, и руки его сами собой скользнули в карманы.
4
Через несколько дней после первого своего визита к американским родственникам баронесса Мюнстер приехала и поселилась вместе с братом в том маленьком белом домике поблизости от жилища Уэнтуортов, который на этих страницах уже упоминался. Мистер Уэнтуорт предоставил баронессе домик в полное ее распоряжение, когда с двумя дочерьми наносил ей ответный визит. Это предложение было итогом растянувшихся никак не меньше, чем на сутки, семейных дебатов, в ходе которых оба иностранных гостя обсуждались и разбирались по косточкам с немалой обстоятельностью и тонкостью. Дебаты, как я уже сказал, протекали в кругу семьи, но круг этот вечером, после возвращения баронессы в Бостон, как, впрочем, и во многих других случаях, включал в себя мистера Эктона и его хорошенькую сестру. Если вам довелось бы там присутствовать, вы навряд ли сочли бы, что приезд блистательных иностранцев воспринимается как удовольствие, как праздничное событие, обещавшее внести оживление в их тихий дом. Нет, мистер Уэнтуорт не склонен бы так воспринимать ни одно событие в мире сем. Неожиданное вторжение в упорядоченное сознание Уэнтуортов элемента, не предусмотренного системой установленных нравственных обязательств, требовало прежде всего перестройки чувства ответственности, составлявшего главную принадлежность этого сознания. Не в обычае американских кузин и кузенов Феликса было рассматривать какое-либо явление прямо и неприкрыто с той точки зрения, способно ли оно доставить удовольствие; подобный род умственных занятий был им почти незнаком, и едва ли кому-нибудь из них могло прийти в голову, что в других краях он как нельзя более распространен. Приезд Феликса Янга и его сестры был им приятен, но приятность эта странным образом не несла в себе ни малейшей радости или подъема. Речь шла о новых обязанностях, о необходимости проявить какие-то до сих пор сокрытые добродетели, но ни мистер Уэнтуорт, ни Шарлотта, ни мистер Брэнд, бывший у этих превосходных людей главным вдохновителем их дум и устремлений, явно не помышляли ни о каких новых радостях. Эту заботу целиком взяла на себя Гертруда Уэнтуорт, девушка своеобразная, но обнаружившая свое своеобразие в полной мере только тогда, когда так кстати нашелся для этого повод в виде приезда столь любезных иностранцев. Гертруде, однако, предстояло бороться с бесчисленными препятствиями как субъективного, по выражению метафизиков, так и объективного толка, о чем и пойдет речь в нашей маленькой повести, не последняя цель которой изобразить эту борьбу. Главным же при таком внезапном умножении привязанностей мистера Уэнтуорта и его дочерей было то, что появилась новая плодотворная почва для возникновения всяческих ошибок, между тем как доктрина, не побоюсь употребить здесь это слово, гнетущей серьезности ошибок являлась одной из наиболее свято хранимых традиций семейства Уэнтуортов.
- Я не верю, что она хочет приехать и поселиться в этом доме, - сказала Гертруда.
Мадам Мюнстер отныне и впредь обозначалась у них этим личным местоимением. Шарлотта и Гертруда выучились со временем почти не запинаясь звать ее в глаза Евгенией, но, говоря о ней между собой, они чаще всего именовали ее "она".
- Она, что ж, считает, что здесь недостаточно хорошо для нее? вскричала Лиззи Эктон, любившая задавать праздные вопросы, на которые, не предполагая, по правде говоря, получить ответ, неизменно отвечала сама безобидно-ироническим смешком.
- Но она ясно сказала, что хочет приехать, - возразил мистер Уэнтуорт.
На главную: Предисловие