Книга: Подвиг живет вечно (сборник)
Назад: ПОМНИТЬ О ПОДВИГАХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ
Дальше: Александра Анисимова В ЯНВАРЕ СОРОК ПЯТОГО…
Михаил Колесников
ЗА СОЛДАТАМИ НА ЛЕМНОС
Несколько дней из жизни Константина Макошина
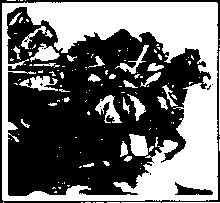
1
Когда 8 ноября 1920 года части Красной Армии штурмовали Перекоп и Чонгар, Врангель все еще не сомневался в неприступности своего крымского «Вердена». Именно в этот день он созвал в Симферополе экономическое совещание, на котором заверил промышленников: «Крым в безопасности, армия перезимует на твердынях Вердена, а весной с божьей помощью выйдем из крымской клетки…» От длинной сухопарой фигуры главкома в черкеске с серебряными газырями исходила спокойная уверенность. Он надеялся, что Франция в случае чего решительно вмешается, начнет новую интервенцию против Советской России. У Франции — экономические интересы. Ведь Врангель, по сути, запродал ей Россию, которую еще нужно освободить от Советов и большевизма. Врангель верил в французов, французские империалисты верили в «черного барона». Отсюда и беспечность главкома: эвакуироваться он не собирался.
Но после того как пали перекопские и ишуньские укрепления, Врангель наконец понял: все кончено! Никакая сила не в состоянии остановить обезумевшее стадо, в которое превратилось его бежавшее под натиском красных войско.
Казалось, красный вихрь несется по равнинам Крыма. Не дать врагу опомниться! Догнать, сокрушить!
А с юга партизаны перерезали все пути отступления…
Врангель отдал своим генералам приказ уничтожать все, ничего не оставлять красным. Все, все, все!..
…11 ноября в полночь Михаил Васильевич Фрунзе обратился по радио к Врангелю с предложением: «Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего лишь пролитием лишних потоков крови, предлагаю вам прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота».
Врангель скрыл радиограмму даже от генералов ставки, все армейские радиостанции прихлопнул, а радистам приказал под угрозой расстрела молчать. Он все еще надеялся на какое-то чудо. Лишь бы добраться до Севастополя… Оставил только одну радиостанцию, и она посылала сигналы бедствия всему империалистическому миру: «Наша основная задача — спасти ядро наших сил. Помогите! Помогите!..» Он хотел спасти хотя бы генералитет и часть офицеров.
Покинув бегущие войска на произвол судьбы, главком на автомобиле добрался до Севастополя. Ему казалось, что в тылу, узнав о катастрофе на фронте, уже принимают меры для эвакуации остатков армии и ценного заводского оборудования. Но тыловики думали лишь о собственном спасении, загружали пароходы и закупленные баркасы своим добром. На пристанях царил хаос: грузили мебель, автомобили, кареты, лошадей, фарфоровую посуду, сундуки с одеждой.
— Расстреляю! — кричал барон, дергаясь в нервном тике. Но на него никто больше не обращал внимания: ведь он проиграл, погубил судьбу белого движения, этот жалкий лифляндский барон, — недаром Деникин противился его назначению…
Французы отказались высадить морскую пехоту навстречу красным. Верховный комиссар Франции в Крыму граф де Мартель с печалью в голосе сказал главкому:
— Мы не предполагали, что вы так слабы… Интервенция невозможна. Мы не хотим мятежа на своих кораблях, как то было в прошлом году. Но наша эскадра к услугам вашей армии, если речь идет о доставке ее в Константинополь.
А ведь совсем недавно, 8 мая, французское правительство уведомило Врангеля о том, что не допустит высадки советских войск в Крыму.
— Противоречия нет, — мягко разъяснил сопровождавший графа адмирал де Бон. — Мы и сейчас не допустили бы высадки десантов, если бы корабли красных подошли к берегам Крыма. Но они идут со стороны материка через голову ваших войск…
Горькая гримаса искривила тонкие губы Врангеля, его крупный нос побелел — так бывало всегда, когда барон приходил в бешенство. Значит, все кончено! «Может быть, ваше правительство тоже решило торговать с большевиками, чтоб задушить их своими товарами?!» — хотелось спросить у адмирала. Но приходилось держать язык за зубами. На интервенцию надежды лопнули. За короткий срок его предали дважды. Сначала англичане, теперь — французы. Приходилось благодарить хотя бы за помощь в эвакуации. Для спасения белых генералов и офицеров в Севастополь прибыли французские суда «Вальдек Руссо» и «Алжерьен». На одном из них пожаловал адмирал де Ребек.
— Я беру на себя посредничество в переговорах между вами и Фрунзе, — напыщенно заявил он.
— О чем вы собираетесь говорить с большевиками? — с раздражением спросил барон. — У русских это называется махать кулаками после драки. Мы разбиты, понимаете, разбиты…
Врангелю еле-еле удалось наскрести по всем бухтам около ста тридцати судов разного водоизмещения, но этого не хватило бы даже для эвакуации офицеров и солдат. О вывозе оборудования заводов нечего и думать. Офицерские семьи тоже придется оставить на милость красных. Пусть остаются и госпитали с ранеными.
Он махнул на все рукой, заперся у себя в каюте на крейсере «Генерал Корнилов» и написал свой последний приказ разбитой армии. Это были горькие, но трезвые слова: «У нас нет ни казны, ни денег, ни родины. Кто не чувствует за собой вины перед красными, пусть останется до лучших времен… Аминь».
Врангель распорядился также потопить в море всю технику, артиллерию, обозы, автомобили… С французами договорился: все уцелевшие войска поступают под покровительство Франции.
На Графской пристани происходили настоящие бои за место на пароходе или на корабле. Кому не повезло в этой схватке за жизнь, срывали с себя погоны, аксельбанты, ордена, стрелялись.
Над городом металась весть: конница Буденного вот-вот ворвется в Севастополь, отсечет своими саблями путь к спасению… А рядом с Буденным — Блюхер, отнявший у Врангеля «сверхоружие» — танки… Ужас возмездия заставлял некоторых офицеров добираться вплавь до стоящих на рейде французских кораблей, их, изнемогавших от усталости и жажды, подбирали, поднимали на палубу. Казаки пристреливали любимых коней, артиллеристы сбрасывали с обрывов пушки…
Глава американской миссии Мак-Келли счел своим долгом подняться на борт крейсера «Генерал Корнилов», чтобы засвидетельствовать свое расположение к главкому, пребывавшему в глубоком унынии.
— Я всегда был поклонником вашего дела и более чем когда-либо являюсь таковым сегодня, — сказал Мак-Келли. — Миноноски американского Красного Креста готовы внести свой посильный вклад в эвакуацию ваших войск в Турцию и на Балканы.
— Американцы — наши истинные друзья, — угрюмо отозвался Врангель. Безразличие и вялость окончательно завладели им.
Однако даже американские миноноски не в состоянии были вывезти имущество, медикаменты и продукты питания, скопившиеся на складах миссии американского Красного Креста, обслуживавшего врангелевскую армию: муку, сахар, масло, детскую одежду, обувь, лекарства, медицинское оборудование. Склады размещались у Южной бухты, в здании мельницы Родоконаки.
— Все, что нельзя увезти, уничтожить! — распорядился Мак-Келли. Он был спокоен, меланхолично дымил трубкой, но ни на шаг не отходил от своего сверкающего автомобиля с охраной: а вдруг здесь, на Графской пристани, покажутся красные кавалеристы! В этой проклятой России возможно все!..
В стане белых царило отчаяние.
Транспортные суда, на борту которых были изгнанные из Крыма остатки врангелевской армии, под прикрытием кораблей Антанты вышли в море. Они взяли курс на Константинополь.
Корреспондент берлинской эмигрантской газеты «Руль», наблюдавший за событиями в Крыму, позже вспоминал, что число покончивших самоубийством во время эвакуации и сброшенных при погрузке в море не поддается учету: «На некоторых судах, рассчитанных на 600 человек, находилось до трех тысяч пассажиров, каюты, трюмы, командирские мостики, спасательные лодки были битком набиты народом. Шесть дней многие должны были провести стоя». Конечно же кто-то за время пути сошел с ума или умер от голода и жажды, и никому не было дела до них, еще недавно проливавших кровь за «белое дело».
2
…Каштановые аллеи Харькова. Оголенные, застывшие. Малиновый звон курантов Успенского собора. Стайки молодежи на Университетской горе. Пронзительная синева неба. Ранняя весна.
Наконец-то у Михаила Васильевича Фрунзе появилась возможность осмотреть достопримечательности столицы Украины, постоять на берегу Лопани. Мир, тишина. Прошло уже четыре месяца с того дня, как барон Врангель со своим недобитым воинством бежал в Турцию. Давно вернулась в Екатеринославль на зимние квартиры Первая Конная. Блюхер со своей 51-й дивизией — в Одессе.
Командир крымских партизан Мокроусов остался в Симферополе, занят восстановлением хозяйства в Крыму.
Владимир Ильич назвал разгром Врангеля «одной из самых блестящих страниц в истории Красной Армии». И военные специалисты, бывшие генералы считают, что это именно так: ведь Красная Армия впервые столь стремительно совершила прорыв заблаговременно подготовленной, мощной и современной обороны противника! Командующий вооруженными силами Украины и Крыма, уполномоченный Реввоенсовета Республики на Украине Фрунзе мог бы гордиться столь высокой оценкой операции, проведенной им и, по сути, завершавшей гражданскую войну. И он конечно же гордился. Но мрачная тень нет-нет да и набегала на его лицо: становился задумчивым, морщил лоб, меланхолично крутил ус. Адъютант Сиротинский в такие минуты настораживался: опять чем-то недоволен Михаил Васильевич!
— Чайку? — спрашивал он.
— Можно и чайку, — нехотя соглашался Фрунзе. — Вот скажи, Сергей Аркадьевич, Врангеля мы разбили…
— В пух и прах!
— Принято считать так. Но если смотреть правде в глаза: ушел Врангель, упустили…
— Ну и шут с ним. Стоит ли из-за такого добра печалиться?
— Барон с собой остатки армии увел. Вот в чем беда.
— Сидит Врангель за синим морем и поглядывает на пас, как коза на мясника, — утешал Сиротинский.
Но Фрунзе становился еще мрачнее.
— Эта коза-дереза еще доставит нам хлопот. Врангель недавно заявил, что до 1 мая этого года соберет многотысячную армию и высадится на Черноморском побережье России. Доходит? А до 1 мая осталось-то всего ничего.
— Бахвальство!
— Если бы… Нет, «Врангелиада» еще не закончена. Прошляпили барона. Никогда себе этого не прощу!
Фрунзе было известно то, чего не знал адъютант.
Барону удалось-таки с помощью иностранных держав спасти ядро своей разбитой армии: примерно семьдесят тысяч офицеров и солдат; а всего эмигрировало в Константинополь до ста пятидесяти тысяч человек. Из этой массы беженцев вполне можно было слепить армию. Не зря Ильич не раз напоминал Фрунзе о такой опасности, как остатки армии Врангеля.
Совсем недавно Владимир Ильич на Восьмом Всероссийском съезде Советов вновь обратил внимание на тот факт, что белогвардейские организации работают усиленно над тем, чтобы попытаться создать снова те или иные воинские части и вместе с силами, имеющимися у Врангеля, приготовить их в удобный момент для нового натиска на Советскую Россию.
Очутившись в водах Босфора, на виду у древних стен и минаретов Константинополя, Врангель перевел дух и собрал в кают-компании генералов Шатилова, Слащева, Кутепова, Секретева, Барбовича, старших офицеров, представителей Союза торговли и промышленности. Изобличив своего предшественника Деникина в «бездарности» и «непростительных стратегических ошибках», за которые приходится расплачиваться ему, Врангелю, барон заявил, что еще не все потеряно. Война будет продолжена до победного конца.
Остатки армии он свел в три корпуса и разместил их в лагерях на Галлипольском полуострове, на острове Лемнос и в районе Чаталджи, в 40 километрах западнее Константинополя. Жили в сараях и палатках. Турция была оккупирована союзниками, и врангелевцы творили всякие бесчинства над населением, массовые грабежи стали нормой поведения белогвардейцев. Три корпуса — 1-й армейский, Донской и Кубанский… В Галлиполи врангелевские лагеря окружили колючей проволокой, выложили камнями устрашающую надпись: «Только смерть может избавить тебя от исполнения долга». Всех, кто хотел «вернуться в Совдепию», военный трибунал приговаривал к смертной казни или к каторжным работам. Генерал Кутепов заявил, что ему нужны такие судьи, которые могли бы по его приказанию немедленно повесить любого, виновного и невиновного.
Официальное сообщение из Парижа тех дней: «Напрасно было бы думать, что большевиков можно победить русскими или иностранными вооруженными силами, опорная база которых находилась вне пределов России, и вдобавок победить с помощью солдат, которые в момент наилучшего состояния армии в Крыму на родной почве не оказались в состоянии защитить его от прямого нападения советских войск». То был запоздалый голос рассудка. Французские франки, как говорится, плакали… Правда, кое-что французы все же получили в качестве платы: в Константинополе Врангель передал им два русских линкора, два крейсера, десять миноносцев, четыре подводные лодки и еще двенадцать судов.
…Впрочем, как бы там ни было, но врангелевское войско продолжало существовать, и Фрунзе мучила мысль о том, как его ликвидировать, как раз и навсегда закрыть «врангелевский вопрос». Ломал над этим голову, как оказалось, не он один.
По вызову Фрунзе в Харьков приехал Константин Макошин. Михаил Васильевич вручил члену реввоенсовета Второй Конной армии Макошину орден Красного Знамени, которым он был награжден «за исключительную энергию и выдающуюся храбрость, проявленные в последних боях против Врангеля».
После разгрома Врангеля закончилась короткая, но славная история Второй Конной армии — на ее базе был сформирован конный корпус. Макошин заскучал. Даже высокая награда не воодушевила его. Что-то осталось незавершенным. Он привык находиться в самом пекле битвы, дышать ее раскаленным воздухом, а теперь вдруг ощутил как бы пустоту, какую-то свою ненужность. Дел, конечно, хватало, но то была будничная работа, без привкуса постоянной смертельной опасности. Но давно засел в голове Макошина поставленный самим Фрунзе вопрос: как устранить остающуюся врангелевскую угрозу?
Все обдумав, Макошин пришел к Михаилу Васильевичу Фрунзе и сказал, что он мог бы попытаться ликвидировать этот проклятый «врангелевский вопрос!».
— Каким образом? — поднял брови Фрунзе. — Пока не вижу реальных путей. — Он, однако, хорошо знал Макошина и верил в то, что этот человек с железной хваткой способен на многое.
Константин Алексеевич поделился планами: должен отправиться в Константинополь, к генералу Гравицкому, он его «давний знакомый» еще по империалистической, дальше — на Лемпос к генералу Слащеву, ну и разъяснить офицерам и казакам политику Советской власти… обещать всем амнистию.
— Так вас генерал Слащев или кто-нибудь другой, наподобие Кутепова, сразу же прихлопнет как большевистского агитатора. А вам до трех десятков еще тянуть да тянуть… Безрассудство молодости…
— У меня там, на туретчине, есть «зацепки». Тот же генерал Гравицкий. Теперь у Врангеля он числится начальником дивизии, а когда-то собственноручно нацепил мне Георгиевский крест. «Ты, говорит, солдат, молодец, истинный патриот. Если просьбы какие будут, разыщи меня. Вывелись настоящие патриоты, каждый норовит в кусты». Вот я его разыщу и попрошу… вернуться со своей дивизией домой. Это, как говорится, для начала…
Михаил Васильевич даже покрутил головой. Заинтересовался.
— Докладывайте план конкретнее.
И вскоре понял: план разработан тщательно, с учетом всех неожиданностей. Для вывоза из Турции всех желающих вернуться на родину следует заранее зафрахтовать турецкий пароход, например «Решид-паша»…
Макошин продолжал горячо, в деталях излагать дерзкий замысел.
— План хороший, — одобрил Фрунзе. — Дело за небольшим: Дзержинский должен санкционировать ваш опасный вояж… Сегодня же поговорю с ним. Да, удивительная пора — молодость… Будь я не при исполнении обязанностей, с удовольствием присоединился бы к вам, Константин Алексеевич: очень уж хочется взглянуть на Турцию! Я ведь неравнодушен к истории древнего мира. А Малая Азия — самый яркий цветок истории. Троя, греко-персидские войны, походы Александра Македонского, Византия… Говорят, Эфес очень хорошо сохранился… Ладно. Вернетесь — расскажете о Константинополе. Есть там такая Галатская башня…
Макошин с изумлением слушал командующего.
— Я бы вам пригодился, — не то в шутку, не то всерьез сказал Михаил Васильевич, прищурив глаз, — немного знаю тюркские языки…
— Не взял бы я вас, Михаил Васильевич.
— Почему?
— А вас никто не освободит от обязанностей, да и Врангель с Кутеповым сразу бы узнали. Так что с визитом в Турцию придется обождать. Слышал, у Врангеля на стене кабинета ваш портрет висит — на память: ударили ему ниже пояса!
Михаил Васильевич расхохотался:
— Вот тут-то вы и ошибаетесь, Константин Алексеевич. В Турцию, придет время, обязательно поеду!
И непонятно было, что он имел в виду.
— Вам добрый совет, — посерьезнев, продолжал Фрунзе, — разыщите в Симферополе Папанина. Он там с бандами воюет.
— Я знаком с ним.
— Отлично. Папанин бывал в Турции, кое-что расскажет.
…Дзержинский, который тогда находился в Харькове, предварительно переговорив с Москвой, санкционировал опасный вояж Макошина. Он все же тревожился за успех предприятия: сцапают Макошина и его товарищей — и все! Конечно же врангелевская контрразведка зорко следит за тем, чтобы в военные лагеря не проникали большевистские агитаторы. И в то же время риск Макошина следовало считать оправданным: если ему удастся хотя бы сообщить казакам, солдатам и офицерам, всем, кто дрался против Советской власти, о широкой политической амнистии, половина дела будет сделана!
Решимость Макошина в игре со смертью восхищала Фрунзе. Известно, что Франция отказалась финансировать содержание белых команд, находившихся в лагерях под Константинополем. Фрунзе подумал, что шансы Макошина намного возросли. Михаилу Васильевичу очень хотелось знать: а что там на самом деле происходит, в стане поверженного врага? Не из газет, а со слов очевидцев. Удалось ли Врангелю собрать семидесятитысячную армию? Сведения, поступающие от разведчиков, крайне разноречивые. Стремительно меняется и обстановка в Турции. По-прежнему существует две Турции: новая во главе с Мустафой Кемалем и Великим национальным собранием — эта Турция борется за свою национальную независимость против империалистов всех мастей, и Турция, где хозяйничают англичане и покорное им правительство султана, опирающееся на халифат. Еще летом прошлого года в Трапезунд были отправлены из Советской России первые партии оружия; турецким представителям передали большое количество золота.
Только что подписан Договор о дружбе и братстве между Москвой и Ангорой. В Ангоре и Москве открыты дипломатические представительства обеих стран. Поскольку перевес в силах сейчас на стороне Кемаля, англичане и французы решили использовать против него армию греческого короля. Собственно, война между греками и турками уже ведется. Бессмысленная война…
Напутствуя Макошина, Фрунзе сказал полушутливо:
— Мы с вами учились в одном институте, курс истории читали нам, по всей видимости, одни и те же выдающиеся профессора. Но древнюю историю я почему-то лучше запомнил по верненской гимназии. Был седенький учитель, влюбленный в свой предмет, знал древнегреческий и латынь. Урок всякий раз открывал одними и теми же словами из Овидия: гутта кават лапидем! — капля и камень точит. По всей видимости, то было обращение к вечности. А возможно, он имел в виду наши неподатливые на исторические даты головы. Но как увлекательно рассказывал он о походах Олега, Святослава, о поездке княгини Ольги в Константинополь! Святослав спал, положив себе под голову конское седло. В детстве такие детали поражают воображение. Ну а предупреждение Святослава врагам: «Иду на вы!» Помню, рассказ о походе войска Олега в далекую Византию прямо-таки потряс меня. Я спал и видел Златые врата Цареграда, на которые князь Олег прибил свой багряный щит. Учитель бывал в Константинополе и утверждал, будто Златые врата уцелели. Признаться, просто не верится!
Командарм помрачнел:
— Вернемся к предстоящему рейсу. Ведь это, Константин Алексеевич, путешествие прямиком в пасть к волку. Продумайте все досконально. Это ведь безумие: добираться до Константинополя на турецком пароходе. А проскочить надо…
Вспоминалась Косте и встреча с Дзержинским. Феликс Эдмундович дал конкретные указания Макошину.
— Поезжайте в Симферополь, свяжитесь с Павлом Макаровым, бывшим адъютантом скончавшегося в октябре 1920 года генерала Май-Маевского. Сейчас он работает в ЧК, со своими отрядами вылавливает и разоружает вражеские банды…
Невероятную историю Макарова Макошин знал хорошо, но до сих пор с ним не встречался. Не так уж давно барон Врангель обменивался рукопожатиями с советским разведчиком, штабс-капитаном Макаровым, адъютантом генерала Май-Маевского. Перед Макаровым заискивали и высшие офицеры.
— Все последнее время Макаров был занят ликвидацией так называемой «южной группы» «особого корпуса», которую возглавлял врангелевский полковник Мамуладзе, — сказал Дзержинский, — Разумеется, «особого корпуса» в природе не существует и не существовало — он плод воображения Мамуладзе: нужно было создать у иностранцев впечатление, будто в Крыму в настоящее время действует крупное воинское соединение. Чтоб раскошеливались. Ну а «южная группа» — это штаб, которому должны подчиняться все контрреволюционные силы. Мамуладзе установил связь с Константинополем, Врангель пообещал выслать крупный десант к берегам Крыма во главе с генералом Слащевым. Но потом выяснилось: Слащев наотрез отказался поднять свой четырехтысячный корпус, базирующийся на острове Лемнос. Врангель, явившийся лично к взбунтовавшемуся генералу, пригрозил предать военному суду Слащева, но сам едва унес ноги с Лемноса. Слащев пригрозил: будет уничтожать любое судно, которое осмелится приблизиться к острову. В лагере барона раскол: целая группа видных генералов, в том числе и Гравицкий, ратует за возвращение на родину с повинной. Они послали своих связных к Мамуладзе. Полковник понял: никакого десанта не будет! И принял трезвое решение — явился с повинной.
— Вам нужно заручиться письмом полковника Мамуладзе к оппозиционерам: генералам Гравицкому, Секретеву, Клочкову. Но примкнет ли к этой группе Слащев? В этом главный вопрос. Мамуладзе в глазах названных генералов как бы заменял в Крыму бежавшего Врангеля, и то, что он пришел с повинной, должно произвести впечатление. Но надо постоянно помнить, письмо Мамуладзе — не гарантия: среди белых генералов может оказаться и такой, который сразу же подаст сигнал врангелевской контрразведке…
В ходе беседы Макошин постепенно начинал осознавать: миссия окажется намного труднее, чем ему представлялось вначале. Но страха он не испытывал. Понимал одно: нужно было действительно предельно конкретное знание обстановки.
Вот почему, приехав в Симферополь, Макошин повстречался с Иваном Папаниным. Завел разговор о возможной поездке в Константинополь. Расспрашивал о Турции. Как ему удалось преодолеть исключительно опасный путь от Синопа до Трапезунда? Папанин решил, будто Макошин едет к Мустафе Кемалю.
— Есть один симпатичный товарищ, — сказал он, — да ты, наверное, его знаешь или слыхал о нем: венгр Матэ Залка. Храбрый, верный, испытанный не раз. Рвется в армию Кемаль-паши. Не навоевался. Я, говорит, хочу бороться за новую Турцию. Возьми его с собой.
— Ну а что из себя представляет полковник Мамуладзе? Слышал, будто пришел с повинной.
— Да ничего особенного. Высокий, сухой, как хворостина, усы торчат, как у таракана, глаза навыкате. В черкеске с газырями. Мы ему кинжал оставили — очень уж просил. Я, говорит, без кинжала не могу — от предков кинжал-то. Так, ничего особенного, даже без серебряной оправы.
— Ты назвал приметы, а мне нужны его взгляды.
— Ну это тебе Павлуша Макаров лучше моего обрисует.
Макошин испытывал к Папанину большую симпатию, жалел, что невозможно взять его с собой (отзывают «наверх» — в Харьков). А ведь не так уж давно, в ноябре прошлого года, они разругались в дым. Потом, правда, помирились. А дело было так: части Второй Конной шли от Симферополя в направлении Ялты. Наступление развивалось стремительно, и Макошин не сомневался: к 15 ноября все будет закончено. Тревожился об одном: миновав Ангарский перевал, беляки могут покатиться прямо в Алушту, где их, несомненно, поджидают американские или французские суда. От Симферополя до Алушты всего каких-нибудь сорок пять верст. Но оказывается, партизаны учли все: перерезали шоссе. Когда отступающие врангелевцы стали подниматься на перевал, морские десантники Папанина открыли по ним огонь из всех видов оружия. Белые оказались в ловушке: с севера наседали конники Макошина, с юга их расстреливали в упор бойцы Папанина.
Но командир отступающей врангелевской дивизии генерал Гравицкий, «давний знакомый» Макошина, учел то, чего не учел комиссар Макошин: он проявил исключительное хладнокровие, рассредоточив под огнем дивизию на небольшие отряды и приказав им скрытыми тропами пробираться по горам к морю, в Гурзуф, Ялту, Алупку и даже на восток в Судак. Пока основные силы белогвардейского корпуса пробивались на Алушту, пытаясь сломить сопротивление партизан и моряков Папанина, генерал Гравицкий повел конные офицерские отряды в обход горы Чатыр-Даг и вышел в тыл Папанину. Нападать на десантников не стал, а устремился к морю. Ему удалось опередить Вторую Конную буквально на несколько часов и спешно погрузиться на небольшие суда. Когда до комиссара Макошина дошло, как ловко обвел его вокруг пальца «знакомый» генерал Гравицкий, он прямо-таки пришел в бешенство. Макошин во всем обвинял Папанина, Папанин — Макошина. Чуть до драки не дошло. А птичка упорхнула. Вот так и познакомились.
— Ротозеи мы с тобой оба, — остывая, сказал Папанин. Они помирились. Но в сердце Макошина вошла заноза. С той поры сколько раз представлял он себе этого генерала Гравицкого попивающим турецкий кофе в роскошном отеле на берегах Босфора. Сидит в кругу битых генералов, своих друзей и похваляется, как ему удалось натянуть нос большевикам. Хвалиться больше нечем, по ходит в героях: сумел сохранить столько офицеров. А другие генералы спасали лишь собственную шкуру.
И вот теперь Макошин отправлялся «на свидание» с этим самым Гравицким. Ирония судьбы…
Папанин познакомил Макошина с Макаровым. Много полезного дала эта встреча. Он передал Константину толстый конверт с письмом полковника Мамуладзе.
— А вам приходилось встречаться с генералом Гравицким? — спросил Макошин.
— Много раз. Начальство его недолюбливало за острый язычок, больше дивизии не доверяло. Он ведь, пожалуй, монархист больше самого Врангеля. Но — своеобразный. Врангелю хотелось стать диктатором в России — не царем, а своего рода канцлером при безвольном императоре. А Гравицкий мечтал о сильном самодержце, наподобие Петра Первого. России нужна сильная власть, без этого она не может быть великой державой. Керенский сразу же вызвал у него отвращение, одно время возлагал надежды на Деникина, но быстро в нем разочаровался. Колчак и Врангель — для него просто узурпаторы власти. Просто кипит недовольством.
— Крепкий орешек.
— Человек крайностей. Он слыл за скандалиста в генеральской среде, и когда в сильном подпитии орал, что лучше уж большевики, сумевшие организовать разгром белых армий, чем импотенты колчаки и врангели, этому не придавали значения, даже контрразведка не хотела с ним связываться: мол, протрезвится — опомнится! Весь изрешечен красными пулями, грудь в иностранных орденах — кому и верить, как не Гравицкому?
Макошин облегченно вздохнул; знал он эту породу людей: на предательство они не способны. Может накричать, грубо выставить за дверь, но доносить не станет — аристократическая брезгливость. Впрочем, всяко может быть, когда борьба не на жизнь, а на смерть…
Макошину Павел Макаров нравился своей рассудительностью, манерой неторопливо взвешивать факты. Во всей его плотной фигуре с набыченной лобастой головой было что-то боксерское.
…Все трое постояли на берегу Салгира. В кожанках, в фуражках с красными звездочками. «Солдаты революции»… Каждый из них нес в себе свою необыкновенную судьбу, о которой они сейчас даже и помышлять не могли: пока еще было скрыто за плотной пеленой времени. Павел Макаров, к примеру, представления не имел, кем будет в мирной жизни, если жизнь вдруг в самом деле обретет устойчивость. Наверное, это предвидела его молодая жена с золотистыми косами Мария. Однажды сказала: «В тебе, Павлуша, сидит писатель. Отвоюешься — и садись за письменный стол!» Откуда она взяла это? Павлу даже сделалось смешно. Но пройдет каких-нибудь пять-шесть лет, и на прилавках магазинов появится книга воспоминаний Павла Макарова «Адъютант генерала Май-Маевского». Во время Великой Отечественной войны Макарову было суждено воевать опять же в Крыму, вместе и под началом Мокроусова, а рядом с ними будут старые испытанные в годы гражданской войны друзья и их сыновья. В первые месяцы войны Алексей Мокроусов будет назначен командующим партизанским движением в Крыму, и пойдут они с Павлом Макаровым и внуками Кособродова, того самого, лесообъездчика, который с опасностью для жизни помогал партизанам, пойдут по горным тропам, будут проводить бессонные ночи над разработкой боевых операций против войск гитлеровского генерала Манштейна, выслеживать и уничтожать врага. Многим мокроусовцам, сражавшимся на других фронтах Великой Отечественной, доведется сохранить живую связь с Мокроусовым и Макаровым. После войны появятся мемуары П. Макарова «Партизаны Таврии» — книга, вобравшая многие яркие эпизоды борьбы за Крым.
А Иван Папанин? Мог ли он знать, что станет знаменитым полярником, покорителем Северного полюса, доктором географических наук, контр-адмиралом, дважды Героем Советского Союза?..
И Константина Макошина судьба не обойдет. Но в ближайшее время на его долю выпадет отчаянно дерзкая игра со смертью — рейд на Лемнос.
Как молоды они были, все трое! Старший из них — Папанин: недавно исполнилось двадцать шесть. Ни один не знал настоящего детства: бедность, тяжкий труд, царская казарма, война, революция и снова война… Кровь, беда народная, лишения и страдания… Но у каждого из них, как и у миллионов других пролетариев, было ощущение своей необходимости, значимости в общем потоке революционных событий…
3
…На море свирепствовал шторм. Отплытие состоялось только через пять томительных дней. В огромные трюмы «Решид-паши» грузили бочки и ящики. Несмотря на неопределенность отношений между Республикой Советов и Константинополем, торговля между ними не прекращалась. И тут не было ничего странного: ведь с Советской Россией торговала и Англия, войска которой оккупировали Константинополь. Торговля есть торговля. В Константинополе находилась торговая миссия русско-украинского Центросоюза, сотни две совслужащих. Советские грузы на турецких пароходах обычно сопровождали сотрудники Центросоюза.
Макошина и его товарищей разместили в каютах. Капитан парохода Абдул-бей, мрачный, замкнутый турок, был строго официален. Он не задал Макошину ни одного вопроса. Он отвечал лишь за рейс. За сохранность грузов несли ответственность полицейские, прикомандированные к «Решид-паше». Они вели также и политический надзор, следили за тем, чтоб на пароход не проникли посторонние. «Решид-паша» перевозил грузы, и только грузы…
Наконец море улеглось. «Решид-паша» отдал концы и снялся с якоря. Макошин вышел на верхнюю палубу. Ярко светило весеннее солнце. Хребет Варада, видневшийся впереди, сделался словно бы выше, величественнее, его лысина сияла нежным светом. А на юге и юго-западе небо по-прежнему затягивала тяжелая грозовая хмарь. Черный полог свешивался с неба до самой воды, и в эту кромешную тьму держал курс «Решид-паша». До Константинополя почти восемьсот пятьдесят километров. Пространство, «засоренное» судами Антанты и греческими военными кораблями, которые охотятся за турецкими пароходами и фелюгами. «Решид-паше» запрещено заходить в другие турецкие порты, в такие, скажем, как Трапезунд или Самсун, где распоряжаются революционные власти Мустафы Кемаля. Даже в случае опасной аварии пароход не должен подходить к тем, враждебным султану берегам.
Как медленно ползет старый «Решид-паша»! Что за судно идет ему наперерез? Нет, ничего страшного: просто маршруты двух пароходов пересеклись.
Макошин почувствовал, что за его спиной кто-то остановился. Обернулся. Это был турецкий полицейский.
— Хорошая погода, не правда ли? — спросил на русском без малейшего акцента. Щурился от слепящего солнца, иронически улыбался.
— Вы прекрасно говорите по-русски, — лениво отозвался Константин.
— Еще бы! Я воевал против большевиков на Каспии в восемнадцатом. В составе мусаватистского флота. Попал к вам, большевикам, в плен, бежал. Устроился в полицию. Поручили наблюдать за такими вот, из Центросоюза.
Макошин усмехнулся.
— Каждый из нас занимается своим делом. Мне даже приятно иметь вас всегда под рукой: сейчас без бодигара советскому человеку прямо-таки опасно ходить в Константинополь.
— На меня можешь положиться: в обиду не дам, — деланно добродушно произнес полицейский. И добавил: — Если, конечно, не угодишь в руки врангелевской контрразведки. За советскими они охотятся, даже премию обещают тому, кто выдаст или изловит.
— Спасибо за предупреждение. Век живи… А сколько премия-то?
— Смотря какая птичка попадется. За тебя я, например, и двух пиастров не дал бы: физиономия в дырках. Белые продырявили?
— Гораздо раньше: в Куликовской битве. А потом в Бородинском сражении добавили. Навешали крестов и списали вчистую.
Полицейский понимающе закивал головой: мол, слыхал, слыхал!
— А в большевики как попал?
— Да никак. Кому я нужен с перебитыми ребрами?
Полицейский снял фуражку, почесал затылок.
— Я вот тоже оказался никому не нужным. А служил на корабле. Капудан!
— Буду звать вас капудан-паша.
— Зови, как хочешь… Последние константинопольские новости слыхал?
— Откуда мне?
Полицейский надел фуражку, лицо сделалось жестким.
— Боюсь, не доберешься ты, да и твои друзья, до Константинополя. А если и доберетесь, то не позавидую вам.
Макошин насторожился: неужели этому типу что-то известно, чего не знали чекисты?
— Что так? — спросил он нарочито испуганно.
— А вот что: англичане решили всех ваших из Центросоюза арестовать! Ну всех из Совдепии, красных.
Трудно было понять, шутит он или говорит всерьез.
— Почему? Мы с англичанами торгуем. Почти что друзья.
— Вы торгуете с другими англичанами, с теми, которые в Лондоне. А тут другие англичане, военные; они с Лондоном не советуются, хватают вашего брата — и за решетку.
— Но должна же быть причина? Нельзя же ни за что, ни про что?..
— Причина? — полицейский зло рассмеялся. — Кемаль-паша готовится наступать на султана — вот тебе и причина!
— Ну а Центросоюз тут при чем?
Хитро сощурившись, полицейский погрозил Макошину пальцем.
— Слышал в своем полицейском участке: ваши сотрудники из Центросоюза готовят восстание в Константинополе, хотят установить там Советскую власть.
Макошин потер лоб.
— Так это же глупость! Турки сами установят то, что км захочется. Навоевались, хватит, пора за плуг…
— Это ты так рассуждаешь… Англичане рассуждают по-другому: раз человек из Совдепии, значит, он большевик, хочет установить Советы на всей земле. Мировая революция! А может, ты и твои товарищи едете делать мировую революцию?
Можно было бы посмеяться над полицейским-политиканом, но Макошин вдруг почувствовал реальную угрозу. Он понимал: все будет зависеть не от турецкой полиции, а от намерений англичан и французов. Они могут устроить любую провокацию, подкрепив ее фальшивками. Чем ни руководствовался полицейский, он, несомненно, был посвящен в затею англичан и теперь, возможно, издевался над Макошиным: ведь тот и его товарищи, по сути, находились у него в руках. Константина даже пот прошиб: залезли в ловушку… и на помощь рассчитывать не приходится. Англичане могут задержать пароход в открытом море или же у входа в Босфор… суть от того не меняется. Оставалось только ждать и надеяться на случай. До сих пор случай был родным братом Макошина: в какие только передряги ни попадал, а выходил сухим из воды. Он окинул тревожным взглядом море и подумал: «Из этой воды можно и не выплыть…»
Полицейский произнес с усмешкой:
— А ты не из пугливых. Слышал от знакомого человека: аллах сейчас за красных!
«Он почему-то недолюбливает англичан и французов, — подумал Константин, — надо учесть это».
— С каких это пор?
— Как только вы дали Кемалю золото и оружие, тут и дураку стало понятно: аллах сделал своим орудием большевиков. Хвала аллаху, господу миров, веди нас по дороге прямой…
Макошин с изумлением слушал его: дурачится, что ли? Но полицейский, словно бы потеряв интерес к политическому разговору, стал всматриваться в горизонт. Ткнул пальцем в сгущающуюся тьму, из которой выкатывались взлохмаченные, ревущие волны.
— Новый шторм идет!
Пароход закачался на крутых черных валах с седыми гривами. Хлынул холодный ливень.
Макошин спустился в каюту, крепко задумался. Неужели их миссию ждет неудача?.. Он не стал делиться своими соображениями с товарищами, чтоб не тревожить их понапрасну. И в то же время продолжал размышлять над словами полицейского: почему он сообщил Макошину о планах англичан? Почему? Запугать? Задавал пустяковые вопросы, на которые можно было и не отвечать. Поведение полицейского прямо-таки сбивало с толку. Этот грудастый, свирепый на вид детина вовсе не походил на болтуна или шутника. Судя по всему, он хорошо знал нравы англичан, знал и расстановку сил в их лагере. Как бы мимоходом помянул Керзона, британского военного министра Черчилля — заклятых врагов Советской России… Да, тут было над чем поломать голову.
А старый «Решид-паша», упрямо пробиваясь сквозь кромешную тьму и ливни, все качался и качался на волнах, неуклонно приближаясь к заветной цели.
4
Константинополь… Рим Востока. Сказочный город на буро-красных холмах: одной ногой стоит в Европе, в Румелии, другой — в Азии, в Анатолии. Пролив Босфор, как сабля из синей стали, разрубил страну на два континента. И только на фелюгах да на пароме можно перебраться с западного берега Босфора на восточный, из Европы в Азию, из Румелии в Анатолию, в район Ускюдар. Босфор в переводе с древнегреческого значит «коровий проход» — через него переправлялась Ио, превращенная в корову. Он кажется искусственным сооружением — каналом, и как-то забывается, что именно по нему в мифические времена плыли аргонавты из Эгейского моря в Черное, в Колхиду за золотым руном. Крутые обрывистые берега, вода чистая, как слеза, на много метров просматриваются глубины, где лениво плавают рыбы. Кое-где дома подступают к самой воде.
Деловая жизнь в общем-то сосредоточена на европейском берегу. Здесь часть города, в свою очередь, разрезана заливом Золотой Рог. А через залив переброшен знаменитый Галатский мост, почти сто метров ширины и полкилометра длины. В южном районе, собственно Стамбуле, — целое гнездо величественных серых мечетей с куполами и темно-голубыми минаретами, и среди них великий храм — Айя-София. Неудержимый людской поток, поток экипажей переливаются по мосту из южного района в Галату — самое бойкое место Константинополя.
…Макошин затерялся в людском муравейнике. Ему нужно было пробраться в аристократический район Бей-оглу, на холм Перы, поскольку он, как было задумано, высадился не в главном порту, а в грузовом. Утро еще только занималось, а город кипел, бурлил. Турки в засаленных красных фесках, тюрбанах, чалмах, турчанки с темной чадрой на лицах, в черных одеждах, армяне, евреи, болгары, греки, сербы; толпы нищих с тарелочками у мечетей, водоносы и торговцы фруктами; бесконечный крытый рынок, лавчонки, кофейни, харчевни; стаи желтых псов, грызущихся между собой, ревущие ослики; дворцы, древние крепостные стены и башни — все плыло мимо сознания Макошина, хотя его всегда манил Восток — с его экзотикой, непонятной жизнью, непонятными верованиями и причудливыми письменами. Сейчас его мысли были заняты совсем другим.
Сурово-сосредоточенный, он неторопливо брел по улицам, пристально вглядываясь в лица встречных белогвардейских офицеров и солдат. В своей помятой шинели, в фуражке без кокарды, в сильно стоптанных сапогах он ни у кого не вызывал интереса. Просто не существовал. Таких здесь было слишком много, чтобы обращать на них внимание. Когда ветер распахивал шинель, на гимнастерке можно было видеть белый Георгиевский крест. Константин Макошин находился здесь под собственной фамилией, имел подлинные бумаги, подтверждающие, что ушел он на фронт в 1915 году добровольно, был дважды ранен и контужен, награжден за храбрость. Затем после продолжительного лечения освобожден от военной службы. Солдат третьего сорта, инвалид, увечный воин… Имелись, правда, у него и другие документы, которые могли бы привести в смятение офицеров врангелевской контрразведки, окажись они у них в руках.
Макошин был интуитивным психологом, замечал многое, что проскальзывало мимо внимания других. За годы войны и революции перед ним прошли тысячи людей, и он как-то исподволь научился читать таинственную книгу души человеческой. Потом уже осознанно стал интересоваться психологическими загадками. Почему, например, разные люди в одних и тех же обстоятельствах поступают или одинаково, или по-разному?..
Недавно еще Константин носил густую черную бороду, которая скрывала шрамы на лице. Борода придавала ему величественный вид. Рослый, бородатый, с гневным изломом густых бровей и яростным взглядом темно-серых глаз — таким знали красноармейцы Макошина, лихого рубаку и прекрасного наездника. Теперь бороду и усы пришлось сбрить. Обнажились бугристые шрамы, лицо стало словно бы короче — и Макошин не узнал себя. Да ведь он, оказывается, совсем еще молодой человек, просто мальчишка! Даже испугался, что с исчезновением бороды улетучится и его самоуверенность. Но ничего такого, разумеется, не произошло. Он по-прежнему оставался твердым и хладнокровным, исполненным презрения и ненависти к врагам.
В детстве Костя считался заводилой ребят во всем рабочем районе Серпухова. Вихрастый паренек, чего греха таить, любил подраться и, когда набожная мать приводила в церковь на исповедь, попу всякий раз отвечал: «Грешен, батюшка», — и начинал рассказывать о драках. Поп нетерпеливо прерывал: «Хватит! Каждый раз об одном и том же… Отпущаю!» Возможно, в детстве и поп тоже любил подраться. Потом Макошин встречал святого отца, когда вернулся после ранения в Серпухов. Даже завел с ним дружбу и позже подбил уйти на фронт гражданской войны с рабочим отрядом. «Пропади он пропадом такой всевышний, — в сердцах сказал поп. — У меня брата убили белые… Расквитаться надо. Мне отмщенье…» И они ушли с отрядом. Поп дрался отчаянно, погиб от пули. С тех пор Макошин стал судить о людях не по роду их занятий, не по профессии, а по их совести, по отношению к жизни, к эксплуататорскому классу. В каждом он искал сердцевину, то, что движет поступками.
В гимназии Костя верховодил; учился только на пятерки, к наукам относился серьезно. Учителя восхищались его способностями, начальство освободило от платы за учение. Он рано начал зарабатывать на жизнь. После уроков натаскивал тупиц из состоятельных семей. Деньги приносил матери: ведь у него были малолетние братья и сестры, все хотели есть. Возможно, нужда и заставила крутиться-вертеться волчком, ценить каждую минуту, стремиться «выйти в люди». Сын рабочего окончил гимназию с золотой медалью! Уехал в Петербург, мечтая стать корабелом. Почему корабелом? Вид пароходов на Оке вызывал сладостное томление, тоску по далеким неизведанным краям, мечту о свободе. Дядя Филипп был кочегаром на пароходе, сюда пускали и Костю. Вид мощных машин поразил, но, как оказалось, он очень быстро понял принцип их устройства. Физически сильный, во время летних каникул помогал дяде Филиппу кочегарить, ходил в рейсы подручным до Волги, почти до Нижнего Новгорода. В институте, куда все же удалось поступить, Костю больше всего привлекали корабельные силовые установки, главные корабельные механизмы, вооружение.
Но все это — в прошлом, которое кажется таким далеким. Даже во время гражданской войны продолжал совершенствоваться, так как не доучился в институте из-за войны, возил с собой учебники. Потом увлекся авиацией. Решил: после войны уйду в авиацию!
После войны… Вот она и кончилась, война… Для многих. Но не для Макошина. Он идет по Константинополю. Во многом от его находчивости, выдержки зависит исход труднейшей операции, какую когда-либо приходилось ему проводить. Ответственное задание — вот как это называется! И Макошин вновь вспоминал о беседе с Дзержинским. «Мы обсудили ваш план. Приняли его… — сказал ему Дзержинский. — У вас будут надежные помощники. Да вы их, разумеется, всех знаете». Он предупредил Макошина, что в Константинополе действует так называемая «межсоюзная разведка», ведущая шпионаж против Советской России. «Межсоюзной» и следует опасаться прежде всего.
«Мы не сомневаемся в благоприятном исходе операции…» И то были не просто слова одобрения, Дзержинский давал понять: задание должно быть выполнено любой ценой!
…То и дело Константину встречались военные: белогвардейские офицеры, французы, англичане, американские матросы в белых накрахмаленных шапочках, сдвинутых на затылки. Янки поглядывали на белогвардейцев с презрением. Были тут итальянские и греческие офицеры, сенегальцы в синих французских мундирах., Оккупированный союзниками город кишел военными, они тут хозяйничали, а точнее, бесчинствовали. На расправу с непокорными турками обычно посылали сенегальцев, которые охраняли и беженские военные лагеря белогвардейцев в Галлиполи и Чаталдже. Подвал отеля «Арапьянхан» британская контрразведка превратила в следственную тюрьму, там арестованных подвергают, по слухам, ужасным пыткам.
Ему было известно также: гостиница «Пера», где проживают белые генералы, наводнена контрразведчиками, шпиками, наверное, существует и подвал, где «занимаются» всеми подозрительными. Но Макошину предстояло проникнуть именно сюда, в «Пера палас отель», иначе проведение операции сорвется, а это исключено.
Властителей Константинополя терзала тревога. На том берегу Босфора, за Ускюдаром, за темными кипарисовыми лесами, по сути, начиналась зона Мустафы Кемаля. Вот почему союзники приходили в неистовство, подозревая в каждом прохожем, даже в каждом турецком полицейском сочувствующего. Посредине пролива, у выхода в Мраморное море, ближе к восточному берегу, высилась Девичья башня. Здесь зорко нес охрану французский патруль, задерживая для досмотра каждое судно, каждую фелюгу. Задерживают не только турок, но и русских, так как солдаты и казаки, бежавшие из военных лагерей, норовят переправиться в Ускюдар, лелея несбыточную мечту пешком до горам добраться до Кавказа. Каждый солдат или казак, разгуливающий по Константинополю, считается беглым. Да и кем он еще может быть? По городу расставлены патрули, то и дело проезжают в грузовых автомобилях вооруженные полицейские. В самом воздухе, казалось, разлита опасность. Константин шел, не оглядываясь. Оглядывается тот, кто боится слежки. Инстинкт, которому он верил, успокаивал: все обойдется…
Не исключено, Макошина уже взяли под наблюдение: те самые, из «межсоюзной разведки», из врангелевской контрразведки или британской. Да мало ли в здешней людской кутерьме всякой пакости. Где-то тут же — Кутепов, Фостиков, Секретев и другие генералы, еле унесшие ноги из Крыма. Где-то размещается штаб недобитого воинства Врангеля.
Показалась ватага пьяных офицеров. Макошин смиренно вытянулся, вскинул руку к козырьку. Но на него никто даже и не взглянул.
Миновав рынок, он перешел по Галатскому мосту на северную сторону. На минуту задержался у Галатской башни. Так вот она какая! Это о ней упоминал Михаил Васильевич Фрунзе. Очень высокая, метров семьдесят — не меньше. Круглая, с узкими окнами-бойницами, с остроконечной кровлей. Что в ней, в этой серой каменной башне? Галата значит Молочная.
Он поднялся по Галатской лестнице в район многолюдной Перы, где в гостиницах квартируют только европейцы. Золотой Рог и Босфор лежали далеко внизу. Синие искрящиеся ленты. По ним ползут фелюги с черными парусами, суда, уходящие в Мраморное море, которое поднялось до неба, слилось с ним. Мармара денизи… — так называют его турки. Отсюда пепельно-серые мечети Стамбула кажутся лежащими одногорбыми верблюдами. А дальше — Дарданеллы, Эгейское море, остров Лемнос, где находятся беженские военные лагеря генерала Слащева. Его цель…
Вот у этого генерала, человека крутого, жестокого, Макошин и его товарищи, идя фактически навстречу гибели, и должны отвоевать солдат и казаков, добиться их возвращения на родину. Задача фантастическая. Уравнение со многими неизвестными.
Вначале нужно добраться до греческого острова Лемнос, проскочить через все белогвардейские, британские, французские, греческие заслоны. Это неимоверно трудно. Но сейчас главное — успех встречи с Гравицким. От этого зависит все. Макошин завернул в пустынный переулок, огляделся, затаился. Убедившись, что за ним никто не идет, свернул в другой переулок. В путанице узких кривых переулков легко можно было заблудиться. И хотя он никогда не был раньше в Константинополе, но карту изучил добросовестно и в конце концов «понял» его планировку, твердо усвоил направление, которого следует держаться. На всякий случай вызубрил греческую фразу: «Пу врискетэ то ксэно-дохио „Пера“?» («Где находится гостиница „Пера“?»). Лучше всего обращаться к грекам. Хотелось есть и пить. Полез в карман, выгреб хлебные крошки, бросил в рот. Если бы за ним наблюдали, то увидели; понуро бредет бездомный, голодный человек, а куда идет, сам не знает: не все ли равно, куда идти, если в кармане ни одного пиастра?
Однако, очутившись перед тяжелыми дверями шикарной гостиницы, облицованной мрамором, у которых стояли швейцары с золотыми буквами на фуражках, Макошин преобразился: снял потрепанную шинель (на гимнастерке блеснул «Георгий»), вскинул гордо голову, сверкнул глазами и, щедрой рукой раздавая направо и налево те самые пиастры, уверенно перешагнул порог. Церберы отступили. Подскочившему служащему с быстрыми глазами рыси небрежно сунул несколько лир, посмотрел сквозь него и спокойно стал подниматься по мраморной лестнице на нужный этаж. Здесь всюду был голубоватый мрамор, вся гостиница представляла собой мраморный дворец с десятками, а то и сотнями комнат, с отдельными роскошными апартаментами в бельэтаже. Несмотря на раннюю весну, повсюду цветы в вазах.
При взгляде на худое, исполненное внутренней силы лицо Макошина как-то забывалась убогость его одежды — встречные офицеры приветствовали его легким кивком головы. У солдата был тонкий нос и выдающийся вперед энергичный подбородок; он снял фуражку, обнажив мощный лоб с глубокими залысинами. Смелое, открытое лицо человека, уверенного в себе. Кто он? Эмиссар… агент… мало ли кто… В оккупированном городе всегда много подобных волевых личностей, которые постоянно куда-то спешат, совершая что-то таинственное.
Но чем ближе подходил Макошин к заветной двери, тем учащенней билось его сердце. Через несколько минут все решится. «Решится…» Странное слово. Решится. Орел или решка?.. Извечная игра случая. Остановился возле двери. Тихо постучал. Нажал на ручку. Дверь открылась. Вошел.
Генерал Гравицкий лежал на диване, курил. Услышав шаги, гаркнул:
— Кто? Какого черта?! Вон!
Макошин замер на месте. Наконец генерал повернул голову и с изумлением уставился на Константина. Положил дымящуюся трубку на мраморный столик.
— Вы ко мне, любезный?
— Так что к вам, господин генерал. Надумал проведать по старой памяти.
Генерал вгляделся в лицо Макошина, увидел безобразный шрам. Возможно, он в самом деле раньше встречал этого человека, но где? И какое это может иметь значение сейчас? Гравицкому было за сорок, людские потоки в гимнастерках, френчах, кителях утомили его.
— Так где же мы с вами встречались? — спросил он безразличным голосом. А про себя думал: как этому солдату удалось пройти мимо швейцаров и вестибюльных церберов? Обычно таких не подпускали даже близко к гостинице.
— Я был тогда в бинтах. Вы вряд ли могли запомнить и мою фамилию. Макошин. Разрывная пуля в лицо, контузия. Списали вчистую. А «Георгия» нацепили мне вы. И сказали: будет трудно — разыщи.
Гравицкий досадливо поморщился: сколько он нацепил Георгиевских крестов серым героям-солдатикам! Разве всех упомнишь?..
Он не предложил Макошину сесть, и тот стоял перед ним и молчал. Генерал начинал терять терпение.
— Так чего же вы хотите, любезный? Денежной помощи? Французы нас всех посадили на голодный паек. Предлагают вступить во французский иностранный легион.
— А вы, господин генерал, уже решили вступить в иностранный легион?
— С какой стати? Гнить в ямах Туниса или Киликии? Увольте… Да и вам не советую. Во французском иностранном легионе с русскими офицерами и солдатами обращаются, как с каторжниками, за отказ служить заставляют работать на свинцовых рудниках. Французишки дрянь… Мы опустились, утратили чувство собственного достоинства и чувство реальности. Воевали за Россию, а оказалось — за интересы Антанты. Теперь казакам предлагают собачью службу в Африке или на Ближнем Востоке. Нас надули-с, молодой человек… Показали кукиш…
Не дождавшись приглашения, Макошин опустился в кресло, но генерал этого не заметил или сделал вид, что не заметил.
Константин сказал:
— А если вернуться домой, в Россию?
Генерал тяжело засопел, нервно потер подбородок.
— На какие шиши ехать? Да и кому мы там нужны?
Меня первого вздернут на первой же осине. Как изменника родины.
Генерал побледнел, скрипнул зубами.
— А ведь я не изменял ей, не изменял! Я не эмигрант, я беженец… — вдруг истерически закричал он и разрыдался.
— Выслушайте меня внимательно, Юрий Александрович, — сказал Макошин медленно и глухо, — я не тот, за кого себя выдаю. Вернее, я тот самый солдат, которому вы нацепили «Георгия». Это тогда. А нынче я — член реввоенсовета 2-й Конной армии Макошин. Наступал на Ялту против вашей дивизии. Прибыл сюда от Дзержинского и Фрунзе с чрезвычайным правительственным заданием. Помогите мне. Помогите всем, кто раскаялся. Полная амнистия… Даже если бы и генерал Слащев надумал вернуться… Повинную голову меч не сечет.
Гравицкий был ошарашен словами Макошина: он глядел на Константина выпученными глазами и, задыхаясь, рвал ворот кителя. Наконец успокоился, сел на диван и уже деловым голосом спросил:
— Почему я должен вам верить, не знаю, как величать вас, молодой человек? Может быть, вы провокатор, подосланный Кутеповым?
— Называйте Константином Алексеевичем. Или просто Костей. Как вам удобнее. Конечно же я прибыл не с пустыми руками: есть документы с советским гербом и печатями, есть гарантии Советского правительства лично вам и другим генералам и офицерам. И казакам и солдатам, разумеется. Вот письмо известного вам полковника Мамуладзе.
Генерал разжег погасшую трубку, нервно затянулся:
— А как мы выберемся отсюда? На каком транспорте, если вдруг генерал Слащев согласится поднять свой четырехтысячный корпус, дислоцирующийся на Лемносе? Вы над этим не задумывались?
— Все предусмотрено. Пароход зафрахтован.
— Ну в таком случае… едем на Лемнос к генералу Слащеву… — вдруг с горячностью произнес Гравицкий. — Я сам поговорю с ним. Он ненавидит Врангеля, Врангель ненавидит его. У них постоянно грызня. Месяц назад Врангель заявился на Лемнос, произвел смотр войск и остался недоволен, пригрозил сместить Слащева. Сейчас белое движение — это клубок скорпионов в банке. Нет, нет, не пауков, не змей, а именно скорпионов. Нам стыдно от своего безволия, слабости. Едем на Лемнос!
Он возбуждался все больше, беспокойно шагал по комнате, нервно разглаживал курчавящиеся бакенбарды, выкатывал голубые глаза, стучал трубкой о мраморный столик.
Макошин заколебался: дело принимало не совсем тот оборот, какого ожидали. Вот так прямо на Лемнос, с визитом к генералу Слащеву? Поднимай, Слащев, свой корпус — и на пароход. Поедешь в красную Россию, где тебя хорошо помнят за содеянные злодеяния в Николаеве и Крыму. А нет ли тут подвоха?
Очень уж легко сдался генерал Гравицкий. Такая податливость не может не наводить на подозрения. Конечно же, выдать Врангелю посланца Дзержинского и Фрунзе — значит получить повышение в звании и в должности. Дивизию Гравицкого расколошматили, самого вышвырнули вон за пределы России, почему бы ему не считать себя вправе отомстить за все?
Гравицкий позвонил коридорному, приказал принести коньяк, кофе, фруктов. И помидоров. Недозрелых помидоров, какими торговали на лотках. Гравицкий обожал помидоры.
Только теперь Макошин сообразил, что их разговор могли подслушать: чего не учел, того не учел. Дырявая шляпа — вот ты кто, Макошин! Обрадовался, сразу все выложил… Чекист называется…
И вдруг без всякого перехода, словно смущаясь и от этого спеша, Гравицкий заговорил о несчастной жизни эмигрантов, о тяжелых условиях на Лемносе.
— Там много офицеров. Из тех, кто до войны играл в теннис, гольф или бридж, катался верхом, танцевал и считал себя аристократом или на три четверти аристократом. Каждый из них с умилением вспоминает, как в последнее воскресенье масленой недели — в канун чистого понедельника — обжирался блинами и участвовал в маскараде, изображая какого-нибудь дона Родриго, и курил конечно же только Масаксуди. Их учили хорошим манерам, языкам. Сейчас сутками дуются в карты, проигрывая все, что только можно проиграть. Остаются без подштанников. Психические расстройства, поножовщина. Грабеж греческого населения, убийства, насилия… Ото всего этого можно спятить…
Генерал вел себя как-то странно, бормотал, словно бы не замечая присутствия Макошина:
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды…
«Уж в своем ли уме?» — невольно подумал Макошин, ему стало не по себе. Будто угадав его мысли, Гравицкий сказал с улыбкой:
— От вашего признания и предложения какой-то ералаш в голове… И в то же время задаюсь вопросом: почему вы явились именно ко мне? Кто послал вас? Значит, есть тут, под боком, кто-то, знающий меня и мои умонастроения лучше, чем я себя! Очень мило.
Макошин ничего не ответил. Глаза его напряженно следили за генералом.
Они пили кофе из крошечных серебряных чашек, коньяк закусывали незрелыми помидорами, неизвестно когда и где успевшими вырасти: возможно, их привозили из южных провинций бывшей Оттоманской империи. В окно, задергивающееся серыми бархатными портьерами, виднелись еще оголенные миндальные деревья, сквер с прошлогодними клумбами. Макошин реагировал на каждый шорох за дверью, хотя и старался не подавать вида. История, которую он затеял, нравилась ему все меньше. Какую игру играет Гравицкий?
Генерал бросил взгляд на часы-браслет.
— До вечера вам лучше не выходить из номера. Вы не имеете права рисковать.
— Но кому нужен увечный воин? — с легким смешком отозвался Константин.
— Все так. Но дело, видите ли, в том, что в Константинополе свирепствует жандармерия государств, оккупировавших город. Они часто устраивают облавы на русских беженцев — будь то солдаты или штатские люди, схваченных сразу же отправляют в беженский лагерь для выяснения обстоятельств. Они не знают русского языка, а потому никакие документы не помогут. Лучше уж переоделись бы в офицерскую форму. Поручиков и штабс-капитанов здесь, как нерезаных собак. Можете прилечь, а я тем временем раздобуду вам подходящую одежду и золотые погоны.
— Обойдусь. Владею английским и французским. Буду сопровождать вас. Кто посмеет задержать лицо, сопровождающее генерала?
Гравицкий спрятал усмешку в усах.
— Ну а если вас успели выследить и ждут, чем все кончится? Если поймут, зачем вы пожаловали, то могут просто и скоро убить. У них большой опыт в таких делах. Они не хотели вас трогать, когда вы шли сюда. Но теперь идеальная обстановка, никто не узнает, кто расправился с вами: убийцы сразу же испарятся. Что вы на это скажете?
— Ничего не скажу. В самом деле: если бы я был таким беспечным человеком, то не стоило бы ходить сюда. Думаю, вы поймете смысл этих слов.
И сменил тему разговора.
— Чем занят Врангель?
— В основном интригами и заигрываниями с королем Александром. Хочет перенести свой штаб в Югославию. С англичанами разругался в пух и прах. С французами — тоже. Торговое соглашение между Великобританией и Советами, подписанное несколько дней назад, вызвало шок в белых кругах… Барон грозится перебросить войска в Болгарию и Сербию, срочно направил к Александру генерала Шатилова для переговоров о передислокации русской белой армии. На этом настаивает и генерал Кутепов, еще зимой прошлого года задумавший бросить Врангеля и перейти на службу к Александру…
Слушать Гравицкого было интересно и полезно.
После его слов исчезло представление об изолированности белой эмиграции в Турции от других стран. Это не так. Врангель имел возможность насылать своих эмиссаров в Париж, в Берлин, в Мюнхен, в Белград, Варшаву, Прагу. И делал это. Где-то там, в странах Восточной Европы, создавались монархические союзы, контрреволюционные группировки, борющиеся между собой за лидерство и создающие свои «сферы влияния» и свои газеты; где-то генерал Краснов пытается сколотить из остатков белой армии несколько корпусов, чтобы в подходящий момент двинуть их на Петроград; где-то возникают новые офицерские союзы; бывший командующий «западной добровольческой армией» Авалов-Бермонт, проживающий в Гамбурге, планирует поход на Москву; великие князья Николай Николаевич и Кирилл Владимирович никак не могут поделить несуществующий престол; но ведь его им обещают?! Эсеры и кадеты, Керенский и Милюков собирают «коалицию»; вся пестрая эмигрантская публика пытается объединиться, сплотиться, но из этой затеи пока ничего не получается.
Макошин внимательно слушал. Но тревога почему-то не покидала его. Трубка часто гасла, генерал то и дело вновь разжигал ее, с волнением затягивался и тонкой струйкой выпускал дым сквозь пышные светлые усы.
Пытался курить кальян, но стеклянный пузырь меня раздражает. Куришь, словно клизму ставишь. Тьфу!
И неожиданно взял серьезный тон:
— Я мог бы познакомить вас, Константин Алексеевич, с генералами Секретевым, Клочковым, Зелениным… С высшими офицерами. Мои друзья. Вернее, единомышленники.
— В каком смысле — единомышленники?
— Думаю, вот парадокс. Они рады были бы встретиться с вами! Мы ненавидим Врангеля и готовы хоть сегодня перейти на службу в Красную Армию. Если нас примут, разумеется. И не расстреляют.
— Примут.
Голос генерала звучал естественно. А Макошин задумывался все сильнее: лжет или говорит правду? Почему он назвал именно тех генералов, которые были опорой Врангеля? Не могли же они за каких-нибудь четыре месяца разочароваться в своем кумире до такой степени, что готовы признать Советское правительство? А может быть, в белом стане идут пока еще невидимые постороннему глазу процессы?
Подумав, генерал взял перо, лист бумаги, потом что-то стал быстро писать. Протянул исписанный листок Макошину.
— До нынешнего дня мы колебались, — произнес он как-то торжественно, — теперь колебаниям конец!
— Что это? — спросил Константин.
— То, что я задумал давно: «Обращение к войскам белых армий». Его хоть сегодня подпишут генералы, названные мной. Читайте!
Макошин прочел: «Отныне мы признаем нынешнее правительство Российской Советской Республики и готовы перейти на службу в Российскую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, так как идеология белого движения потерпела полный крах…»
Макошин почувствовал, как на лбу проступила обильная испарина. Нервы были на пределе. Это всерьез или?..
— Мы можем, как я уже сказал, хоть сегодня подписать и опубликовать обращение, разослать в войска, — продолжал генерал все тем же крепнущим голосом. — Но теперь подобная поспешность была бы непростительной глупостью. По здравому размышлению пришел вот к чему: «Обращение» должно быть бомбой, разорвавшейся во врангелевском стане. Я хотел бы уехать с вами в Россию. Поверьте. Очень хочу. Но придется на какое-то время остаться здесь, чтоб опубликовать «Обращение», когда вас и вашего судна уже не будет в Босфоре.
Что генерал имеет в виду, вновь загадка…
— Вы надеетесь, что после опубликования «Обращения» Врангель оставит вас в покое? — Макошин хотел уточнить позицию Гравицкого.
— Смешно было бы надеяться. Наша единственная задача — спасти обманутых людей. Их место на родине, а не на заграничных свалках. Мы отрезвели. Понимаете? И если даже пожертвовать придется собой, я готов. Так и передайте Дзержинскому и Фрунзе. Я останусь здесь как бы вашим уполномоченным по репатриации. Привычка доводить любое дело до конца. И доведу. У вас усталый вид, Константин Алексеевич. Прилягте на диван, вздремните.
— Не извольте беспокоиться, — сказал Макошин. — А отдыхать некогда. Я должен уйти…
5
Решено было считать, будто пароход «Решид-паша» должен перебазировать с Лемноса корпус Слащева в какое-то другое место. Присутствие на борту генерала Гравицкого и его бодигаров — личной охраны — имело целью исключить нападение греческих кораблей на турецкое судно.
«Личная охрана» — Макошин и два его товарища — Веденеев и Зайцев.
Поздно ночью «Решид-паша» тихо покинул бухту Золотой Рог и вышел в Мраморное море. Макошин и генерал находились на верхней палубе. Веденеев и Зайцев остались в каюте. Южная ночь плотно окутывала берега и море. Только звездное небо ярко сияло, дымилось, и его струящийся блеск порождал ощущение оторванности от мира.
— Главное — проскочить Дарданеллы, — говорил, размышляя, Гравицкий. — Англичане бдительно контролируют их. Узкая щель. И вообще, скажу вам, по Дарданеллам проход ночью запрещен. Так же, как и по Босфору.
И, словно стряхнув тревогу, добавил беспечным тоном:
— Мы совершаем с вами, Константин Алексеевич, увлекательное путешествие. Не так ли? Как аргонавты в старину, только наоборот. Если бы «Решид-паша» шел не в чернильной темени, а при солнце, то увидели бы слева Принцевы острова с их пышными садами, где до недавнего времени любила отдыхать турецкая знать. В византийскую эпоху здесь веселился император. Теперь на остров Буюк иногда наведывается Врангель, проводит совещания в гостинице «Акация» с лидерами белого движения: членом ЦК кадетской партии князем Долгоруковым, генералами Шатиловым, Львовым, Кусонским, Алексинским, представителем торгового и промышленного капитала Ростовцевым. О чем совещаются? В Берлине создан Высший монархический совет во главе с Марковым, совет занят разработкой «норм временного управления Россией после падения большевиков». Так вот, Врангель и его «Русский совет», «Общество офицеров генштаба» после разрыва с англичанами и французами тяготеют к немецкому генералу Людендорфу, вносят свою лепту в разработку «норм».
Впрочем, я отвлекаюсь. Дальше на юге — Мизийский Олимп, покрытый вечными снегами, обиталище Зевса и его божественной свиты. Но мы пойдем не на юг, а на юго-запад, вдоль Галлиполийского полуострова, где так же, как и на Лемносе, находятся беженские военные лагеря. Нам предстоит проскочить мимо этого полуострова с его пристанью Галлиполи, мимо Чанаккале на анатолийском берегу — тут англичане; мимо Кумкале, где греки. Потом возьмем мористее, к западу…
Речь генерала лилась вполне беспечно, но Макошин видел, что Гравицкий, судя по всему, был озабочен. И не тем, что пароход могут остановить, задержать, проверить документы. Он опасался, что англичане или греки, задержав пароход при выходе из Дарданелл, сразу же сделают запрос в штаб Врангеля или в Галлиполи: почему пароход нарушает установленные правила? Чрезвычайные обстоятельства? А это уже было бы опасно!
— Я в некотором смысле на подозрении у Врангеля, — признался он. — Вот когда выйдем в Эгейское море, тогда будет легче. При неблагоприятном исходе дела капитан «Решид-паши» может попасть в тюрьму… Но это уже не мои заботы.
…Когда небо посерело, они прошли мимо Чанаккале, мимо огромных крепостных башен, опоясанных красным орнаментом — меандром. Башни были неправдоподобно огромные, круглые, толстые.
— Вот оно, Эгейское море! — сказал Гравицкий, резко выкинув руку вперед. Макошин видел перед собой только мутную лиловую пелену.
— А слева — Гиссарлыкский холм. Троада. Святой Илиоп… Там развалины Трои. А лесистый хребет за Гиссарлыком — гора Ида. Та самая, где сидел Зевс и наблюдал за ходом Троянской битвы.
Зевс от Иды горы, в колеснице красивоколесной,
Коней к Олимпу погнал и принеся к собору бессмертных…
Все происходило именно там. Равная вихрям Ирида устремляется к Трое, священному граду. Бог ты мой, из каких битв мы вышли! Что в сравнении с ними Троянская! А вот поди ж ты — все то, что происходило на заре человечества, почему-то представляется в багряно-золотом блеске, в ореоле величия. Какие звезды наблюдали за гражданской войной?.. Мы — не ахейцы, не троянцы. Белогвардейский сброд, как называют нас в ваших газетах… Больше всего меня радует, что мы проскочили Дарданеллы! Проскочили! Чудо.
Макошин молча слушал, понимал: не эрудицией хочется блеснуть Гравицкому. В истории он ищет какие-то объяснения настоящему. Охваченный смятением, он хотел уяснить что-то для себя. Почему все кончилось катастрофой?
Не то чтоб он раскаялся — он не чувствовал себя виноватым: честно старался служить своему классу, вместе с солдатами гнил в окопах, а класс оказался несостоятельным, не смог удержать власть. Зато Рябушинский нагреб на поставках миллионы. Французы с презрением за всех сформулировали главное: если уж вы не смогли победить раздетых, разутых большевиков, имея в изобилии все, чем снабдила вас Антанта, то чего, какого чуда ждать от вас дальше? Вы разбиты, рассеяны, потерпели полное крушение… Вот почему даже сейчас, в Эгейском море, оскорбленный союзниками Гравицкий упорно продолжал редактировать и дополнять «Обращение к войскам белых армий». Это — документ! «Наша родина вышла из революционного хаоса и вступила на путь творческой созидательной работы. На международной политической арене Советское правительство является единственным защитником интересов России и ее государственного суверенитета…» Пожалуй, тут сформулировано самое важное, а точнее, обозначены непреложные факты.
Собираясь вместе небольшим кружком, образовавшимся непроизвольно, генералы вначале с оговорками, а потом прямо пытались осмыслить свое положение. Российские военные интеллигенты — так они себя называли, генералы Клочков, Секретев, Зеленин. К ним примкнули полковники Лялин, Оржановский, Житкевич, Климович. И в конце концов пришли к выстраданному выводу: нужно вернуться на родину; самое тяжелое — чувствовать себя никчемным и ненужным. Свою жизнь починить трудно, но необходимо, чтобы не впасть окончательно в духовное бессилие, не окостенеть.
По всей видимости, так или примерно так размышлял Гравицкий. Он испытывал невольную симпатию к несколько угрюмому, с проницательными и умными глазами посланцу Дзержинского и Фрунзе, понимая: это новая порода людей, таких еще не было…
А Макошин, искренне взволнованный встречей с мифами детства и юности, с теми временами, которые познавал воображением, не отрывая глаз от Гиссарлыкского холма, пронизанного красными лучами утреннего солнца. За всю ночь Константин не сомкнул глаз ни на минуту, но был бодр, без всякой сонливости. Фронтовая жизнь приучила к умеренности: он спал и ел мало. А сейчас провалился в далекое прошлое, был взбудоражен. Святой Илион… Отсюда началась осмысленная история человечества. Когда Гомер, живший в незапамятные времена, посетил Трою, она уже лежала в развалинах много веков. Как стара память человечества, как давно люди воюют… Они продолжали воевать, никак не могут угомониться, и кровавый угар по-прежнему дурманит им головы. Но ведь настанет такой день, когда все итоги будут подведены и разум восторжествует навсегда!
Ему вдруг захотелось вернуться в Политехнический институт. Из солидного члена реввоенсовета превратиться в мальчишку-студента, завершить курс кораблестроительных наук. Неужели это когда-нибудь сбудется? Или он плывет навстречу смерти, своей роковой судьбе?..
…Да, все было именно здесь: Троя, Пергам, родина Гераклита — Эфес, родина великого Гомера — Смирна, или Измир.
— В Эфесе находился тот самый храм Артемиды, сожженный Геростратом, — продолжал Гравицкий. — Крез тоже из здешних мест. Геродот, Эскулап, врач Гален — все в одной мраморной чаше…
Даже на верхней палубе воздух казался застоявшимся. Пахло машинным маслом и горячим дымом. Обоим казалось, что опасность уже миновала: Эгейское море было перед ними, а там другие законы и правила.
Неожиданно с анатолийского берега, от Кумкале, где, собственно, и находился Гиссарлыкский холм, отделился сторожевой катер. Тревога! Из рупора неслась ругань на греческом и плохом английском.
— Греки, — с облегчением произнес генерал.
— Сас паракало, милатэ ихё! — крикнул он в свою очередь грекам в рупор. — Калос сас врикамэ!
— Что вы сказали?
— Я сказал, чтобы говорили медленнее, а то ничего не понять. И поприветствовал: мол, рады вас видеть.
Макошин невольно улыбнулся.
Пароход остановился, греки замолчали. Видимо, звуки родной речи произвели на них впечатление. Моряки были во френчах и затейливых головных уборах, расшитых золотой вязью.
— Можно подумать, будто пожаловали швейцары из нашей гостиницы.
Грудь Гравицкого была украшена царскими и иностранными орденами и медалями. Бельгийский крест Леопольда I с лавровым венком и девизом «В единении сила»; серебряный английский орден; французский военный крест; итальянская и еще какие-то медали. Он специально нацепил все регалии, чтоб иностранный патруль сразу видел, с кем имеет дело.
Патруль с примкнутыми к винтовкам штыками поднялся на палубу. При виде врангелевского генерала в полном параде произошло замешательство.
— Калимэра… Доброе утро, — пробормотал офицер. Генерал не стал ждать, пока у него потребуют документы, протянул их офицеру.
— О, росос кирие генераль Гравицкий! Врангель, Слащев…
На хорошем греческом генерал объяснил, что послан с заданием вывезти с Лемноса корпус Слащева в Константинополь.
Это произвело настоящий фурор. Греки оживились, загалдели. Наконец-то греческий остров будет свободен от непрошеных постояльцев! По всей видимости, предполагаемую эвакуацию они связали с обострением отношений между Врангелем, англичанами и французами.
— Выход судов в море из Дарданелл разрешен ровно в шесть часов, — поспешно сказал офицер, — сейчас пятый час. Но в данном случае можно пренебречь правилом, существующим для пассажирских судов. Вы — судно военное. Счастливого пути!
Катер ушел. «Решид-паша» устремился в Эгейское море.
Эгейское море… Наконец-то! Что-то шевельнулось в душе Макошина: а ведь это действительно из юности, из сказок и мифов!
Макошин глядел на юго-запад в белесую дымку, из которой проступали очертания островов, и вдруг тревога снова завладела им. Сейчас все предприятие вдруг показалось ему сплошным безумием. Эгейское море. А дальше — Средиземное… Три советских чекиста стоят на палубе турецкого парохода, плывущего в неизвестность, и находятся они, по сути, в самом центре враждебных сил. В случае чего, уйти некуда. У них нет с собой оружия — таковы правила игры. Сообщат ли греки в Константинополь о следовании «Решид-паши» на Лемнос? А через несколько часов — встреча с вешателем Слащевым, он-то и прикажет всех нас немедленно арестовать и к стенке… Эх, маузер бы да пару гранат! Он даже заскрипел зубами от сознания своего бессилия.
Английский миноносец шел им навстречу, все увеличиваясь в размерах. Неприветливая серая туша надвигалась стремительно.
— На левый борт! — скомандовал Гравицкий. — Пусть видят, как мы приветствуем союзничков.
Когда миноносец поравнялся с ними, «Решид-паша» приветственно загудел. Гравицкий приложил руку к фуражке. Но англичанин не удостоил их вниманием, прошел молча и вскоре растаял в сизой дымке.
Они все время шли на юго-запад, в сторону Греции, огибая небольшие острова. Имброс и Тендос как бы прикрывали вход в Дарданеллы. Из-за туч ослепительно брызнуло солнце, и Макошин увидел впереди по курсу лиловую скалистую вершину.
— Лемнос… — сказал Гравицкий. — Мы у цели.
Лемносский бог тебя сковал…
Для рук бессмертной Немезиды…
До мировой войны такие острова, как Лемнос, Самофракия, Имброс и Тендос, не считались «проклятыми дырами». Они занимали доминирующее положение над пространством перед Дарданеллами. Глава кадетов Милюков старался уверить царское правительство: «…стратегическая задача обеспечения нашего выхода в Средиземное море не может быть разрешена безотносительно к судьбе этих островов». Слащев придерживался такого же мнения. И вот ирония судьбы: Слащев оказался словно бы хозяином Лемноса. Он мог контролировать и Самофракию и Тендос вместе с Имбросом. Но царской России больше не существовало, а выход в Средиземное море контролировали все-таки англичане и французы.
Унылый, пустынный Лемнос превратился в белоэмигрантскую дыру, по сути, в место страшного заключения почти четырех тысяч человек, загнанных в бараки и землянки, построенные наспех. Бежать отсюда невозможно. Но бегут. Нападают на местных рыбаков, отнимают лодки и уплывают в неизвестном направлении. А стратег Милюков сидит в Париже, продолжает плести интриги против красных, подстрекать. Но даже до твердолобого Милюкова наконец дошло. Генерал Гравицкий прихватил с собой газетку «Парижские новости». В ней опубликовано интервью с Милюковым: «Вы вновь спрашиваете, что делать после Крымской катастрофы? Не знаю. Я лишь считаю невозможным продолжение вооруженной борьбы под командой Врангеля, его офицерства и его политиков-чиновников». Давно ли Милюков и Врангель обменивались любезными телеграммами! Ну а что обо всем этом думает генерал Слащев, оказавшийся, по существу, в самой дрянной мышеловке?! Врангель ведь тоже может улизнуть из Константинополя в Сербию или в Париж, бросив Слащева и его корпус на произвол судьбы: выпутывайтесь, мол, господа, как знаете!
…Старый, как мир, Лемнос. Выветренные скалы, покрытые кое-где колючим тамариском и желтыми цветами бессмертника. Некая унылость во всем облике острова. Он возвышается как бы в центре морского пространства между Дарданеллами и греческим полуостровом Айок-Орос; а чуть дальше — Салоники, материковая Греция. Но близость материка не ощущается. Медленно вздымается и опускается маслянистое море.
«Решид-паша», вспугивая стаи чаек, подошел к каменному причалу. Загрохотала якорная цепь. Появление большого судна в здешних водах вызвало на берегу оживление. Его, наверное, давно заметили и гадали: завернет на остров или пройдет мимо? Даже здесь, на сороковой широте, было холодновато, солдаты на берегу еще не сняли шинелей.
Они стояли, солдаты, казаки, офицеры, и ждали: кого принесло? А на палубе — никого, кроме турецких матросов. Ничего особенного так и не случилось. Один-единственный человек спустился по трапу: генерал Гравицкий. Без всякого сопровождения.
Гравицкий направился в штаб Слащева, расположенный в приземистом бело-голубом домике с колоннами, закрытом утесами от всех ветров. Ему доводилось здесь бывать. Не взглянув на часового у дверей штаба, он прошел в помещение. Офицеры уже были заняты, по всей видимости, игрой в железку. Как знал Гравицкий, в карты садились играть с утра.
Вечером обычно пили, перебивая друг друга, говорили о женщинах, за циничными замечаниями скрывая тоску по дому и тревожные мысли о своей судьбе; отрезанность от всего мира, нудное бездействие, полное неведение того, что творится вокруг, томило каждого из них. Тут уже никто не вспоминал об офицерской чести, рассказывали сальные анекдоты, все надоели друг другу, у всех истрепались нервы от напрасных ожиданий и тревоги.
Никто не взял на себя труд доложить о прибытии генерала Гравицкого Слащеву. Он был озадачен, но не стал ставить их по команде «смирно» — они могли и не выполнить команду, что поставило бы его в совсем неудобное положение. Офицеры во главе с адъютантом продолжали резаться в железку. «Разложение зашло слишком далеко, — раздраженно отметил про себя Гравицкий. — Сброд…» Он знал, что среди офицеров корпуса участились случаи самоубийства. Ночью вскакивают с постели и начинают палить по всем направлениям — это уже безумие, порожденное войной. Пять раз пытались застрелить Слащева, по он создал целую сеть доносчиков, которые заблаговременно упреждали генерала о готовящемся на него очередном покушении.
Гравицкий постучал в дверь кабинета. Долго никто не откликался. Гравицкий громко назвал себя. Дверь приоткрылась, показалось встревоженное изжелта-бледное небритое лицо Слащева.
— А, это вы! Милости прошу. Прибыли на пароходе? А я сижу и пью виски. Приготовился на всякий случай к самообороне. Верные люди донесли: есть приказ Врангеля доставить меня в Константинополь якобы для урегулирования разногласий. После нашей ссоры сместить задумал, подлец! На мое место прочит немчика полковника фон Цицендорфа.
— Знаю эту рыжую собаку. Сгусток карьеризма и грязи. Более ловкий, чем умный. Впрочем, я на вашем месте только радовался бы.
Слащев удивленно вскинул брови.
Чему же радоваться?
— Есть чему. Отдайте свою должность фон Цицендорфу, фон Лампе, всем этим фон-баронам, заготовьте приказ… и адью!
— Не понимаю вас, Юрий Александрович. Вы от Врангеля? — он посмотрел на Гравицкого испытующе и недоверчиво, с мрачным любопытством.
— Я, извольте видеть, от Дзержинского и Фрунзе…
Чекисты сидели в салоне «Решид-паши» и молчаливо ждали возвращения Гравицкого, отправившегося на переговоры к Слащеву. Макошин внешне оставался спокоен, правда, иногда вынимал часы и бросал на них беглый взгляд.
— Генерал Слащев пе торопится воспользоваться амнистией, напрасно только тратим время… — саркастически произнес Николай, разглаживая усы.
— Авоська веревку вьет, небоська петлю закидывает, — мрачно отозвался Василий. — Всяко бывало, но чтоб вот так по-глупому залезть в котел с макаронами и ждать от вербы яблоков…
Макошин подумал: эк их крутит! Ситуация, конечно, не из веселых. Но ведь ничего другого и не ожидали. И твердо сказал:
— Вы же знаете, я никогда зря не тратил ни чужого времени, ни своего собственного. Я верю в успех. Стояньем города берут.
У Николая и Василия были, разумеется, фамилии. Очень известные фамилии. Во всяком случае, кое-кто из беляков их хорошо запомнил еще по Северной Таврии. Но сюда прибыли с документами вахмистров неких подразделений, отныне, после разгрома Врангеля в Крыму, в природе несуществующих. Риск, конечно, существовал. Глупая случайность. «Вы утверждаете, будто вы и есть фельдфебель Веденеев? Я прекрасно знал Ники. Вы похожи на него, как уксус на колесо…» — и в том же духе.
Дзержинский и Фрунзе сами подбирали людей для проведения необычайной операции. Подбирали в строжайшей тайне. И послали с Макошиным самых отважных, но раз испытанных в трудных ситуациях. Веденеев и Зайцев… Усатые, со скуластыми сухими лицами, плечистые и мрачные. Такими и должны быть вахмистры. Они безотрывно смотрели в иллюминатор.
— Вижу казачков с красными башлыками на спинах, — сказал Зайцев. — Может, выйти, побалакать, выявить настрой? В казаках уверен: им тут небось обрыдло, готовы вплавь добираться до своих станиц и куреней. Я ведь сам кубанский.
— Успеется, — отозвался Макошин. — Ты лучше так сделай: затаись вон за тем пологом и слушай, о чем у нас будет разговор с представителями Слащева. Если крикну: «Мы — парламентеры!», выбирайся на берег. А там знаешь, что нужно делать. А тебе, вахмистр Веденеев, тоже не следует присутствовать при переговорах с неопределенным исходом. Если трап уберут и выставят часового, перемахнешь через леера — и сразу вон в те скалы. Уцелеть хотя бы один должен! Уцелеть и продолжать действовать.
— А вы, Константин Алексеевич?
Макошин погладил несуществующую бороду.
— Если распространится слух, что на Лемнос прибыли советские уполномоченные по репатриации, Слащеву со мной не сладить. Казаки и солдаты весь лагерь разнесут, кинутся на пароход. Ну а если не получится, то ведь знаете: могу плыть целыми часами. Вырвусь…
Он остался в салоне один. Бездействие и неопределенность томили. Стоило ли отпускать Гравицкого на «предварительные» переговоры без сопровождения? Однако таково было его условие. Ну а если ни до чего не договорятся и Слащев отдаст приказ захватить пароход?
…На берегу произошло какое-то движение, зеваки подались в разные стороны. У пристани остановился автомобиль. Из него проворно выскочили два офицера. За ними показались Гравицкий и другой генерал. Может быть, сам Слащев?.. Все четверо направились к трапу. Константин сразу же обрел равновесие: тут, кажется, намерены вести переговоры!..
Когда генералы и офицеры вошли в салон, Макошин поднялся. Никто никому руки не подал. Некоторое время стояли с плотно сжатыми ртами, надменные, не спуская друг с друга внимательных, настороженных глаз. Они должны были прежде всего хотя бы внутренне преодолеть резкую враждебность, подавить личное отношение. Сейчас любая мелочь в поведении имела значение.
Молчание нарушил Гравицкий.
— Генерал-лейтенант Слащев Яков Александрович! — представил он подтянутого, моложавого генерала.
Слащеву могло быть и тридцать пять, и все сорок. Он значился одним из деятельных организаторов контрреволюции, командовал корпусом в деникинской армии, в Крыму прославился своими жестокостями. Макошину казалось: появится этакий монументальный солдафон с закрученными усами, неподвижными глазами навыкате, с презрительно оттопыренными губами, спесивый и вздорный, но сразу понял: перед ним — желчный неврастеник, истерик. По щекам перекатывались желваки, опухшие глаза блуждали. Растерянность и отчаяние владели генералом.
По всей видимости, внешность Макошина тоже поразила Слащева:
— Вы так молоды… — произнес он удивленно. — Юрий Александрович говорил о вас. Прошу бумаги.
Макошин молча протянул приготовленные документы, в которых говорилось о целях поездки в Турцию и о гарантиях перешедшим на сторону Красной Армии белогвардейцам.
— Можно, я оставлю кое-что у себя? На всякий случай, — попросил Слащев. — Там, где говорится об амнистии.
— Пожалуйста.
Мускулы лица Слащева дрогнули.
— Я тревожусь не за собственную судьбу, — сказал он с горькой улыбкой. — Мое место, знаю, на самой высокой перекладине. Глупо было бы претендовать на снисхождение Советской власти, которой я нанес столь большой урон. Я был убежденным монархистом. Был… Верил в добрую волю союзников. Но теперь мне больше не с кем воевать. Народ нас не поддержал, союзники предали. Я беспокоюсь за будущее молодых людей, офицеров, солдат, казаков моего корпуса. Их более трех тысяч. Получилось так, будто я их всех обманул, вверг в несчастье. Если им будет дарована милость, я могу сам решить свою участь…
Глаза его потухли, он наклонил голову.
— Для беспокойства нет оснований. Советское правительство гарантирует неприкосновенность, амнистию. Желающие будут приняты на службу в Красную Армию.
— Мы должны погрузить на пароход и оружие? — неожиданно резко и настойчиво спросил Слащев.
Макошин должен был принять решение за какие-то секунды: корпус вооружен, конечно, до зубов. Наверное, есть и пушки и пулеметы. Оставить все Врангелю, греческому королю, наконец? Или взять с собой, погрузить в трюм?.. И привезешь ты, Макошин, к крымским берегам превосходно вооруженный четырехтысячный врангелевский десант! То, что не удалось Врангелю, сделаешь ты. Неужели этого ждет от тебя Фрунзе? Передать бы все добро Мустафе Кемалю… Но такая акция выходит далеко за рамки задания, да и прорваться к Мустафе вряд ли удастся, если за «Решид-пашой» увяжется английский или французский хвост…
— Вы можете оставить себе личное оружие, — ответил Макошин, — и огнестрельное и холодное. Офицеры сохраняют именное оружие. На верхней палубе следует закрепить и зачехлить две пушки с боезапасом — для самообороны судна. Два пулемета. Остальное вооружение сбросить в море!
Он ждал возражений. Но Слащев тут же передал приказ начальнику штаба полковнику Дубяго: прежде всего демонтировать, взорвать радиостанции, чтоб ни один сигнал не долетел до Константинополя, до англичан, до штаба Врангеля. Оружие потопить! За утайку оружия — расстрел! Оружие — значит, непредсказуемые инциденты. Инцидентов не должно быть, поскольку речь идет о судьбе тысяч людей, рвущихся домой.
Веденеев и Зайцев должны были наблюдать, как выполняется приказ. Досмотр за погрузкой Макошин взял на себя. Ему нравилась решительность Слащева. Генерал сжигал за собой все мосты. В один миг остаться без пушек, без винтовок… Отказаться от власти над людьми. Это шаг мужественного, многое пережившего и понявшего человека.
— Мы приступаем немедленно! — заторопился Слащев и холодновато улыбнулся.
…Веденеев и Зайцев видели, как группы казаков и солдат с лихорадочным воодушевлением сбрасывали с высокого рыжего утеса орудия. В воду летели пулеметы, винтовки, ящики с патронами и снарядами. Глубины тут были большие, и вряд ли кто из местных жителей-греков рискнет нырять за минами и снарядами. Рыбачий поселок находился за семь километров.
Потопив проклятое оружие, казаки и солдаты обнимались, плакали; забрав скромные пожитки, торопились на пароход. Коней у них не было. Коней потопили еще в прошлом году, когда бежали из Крыма. Потопили, пристрелили, объятые ужасом перед большевиками. Изведав прелести лемносской жизни, поняли: их крепко одурачили, отняли все, а главное — свободу, родину, возможность вернуться к родным и земле. Теперь все рвались на пароход.
Настроение офицеров было подавленное, но обстановка не оставляла им права на выбор. Началась погрузка. Громыхали по палубе сапоги. Казаки втащили ящики со снарядами, закатили пушки, укрыли брезентом. Все, как говорится, деловито, без суеты. А ведь погрузка целого армейского корпуса, насчитывающего чуть ли не четыре тысячи человек, дело не простое.
Слащеву выделили каюту, но он в нее не зашел. Главное: приказания отданы. Остальное сделают офицеры. Остаться на Лемносе многие не пожелали. Макошин стоял на капитанском мостике и наблюдал, как завершается погрузка. Люди были крайне возбуждены, трудились изо всех сил. Счастливые, улыбающиеся лица. Сейчас бы обратиться к ним с речью… Рано, рано… Еще неизвестно, чем. все обернется. Может оказаться лазутчик, давно сюда подосланный следить за Слащеным; лазутчик во время короткой стоянки в Константинополе незаметно прошмыгнет на берег, поставит обо всем в известность первого же английского офицера или самого Врангеля… Вот когда «Решид-паша» выйдет в Черное море… Но до этого еще далеко. Ох как далеко… не по расстоянию. По психологической нагрузке. Что их ждет в Дарданеллах, в Константинополе, при выходе из Босфора в Черное море?..
Человек, искушенный в делах войсковой разведки, Макошин сейчас действовал в ранге неизмеримо более высоком. Он отвечал за исход операции, размеры которой только сейчас смог оценить по достоинству: он должен привезти к берегам Крыма четырехтысячное белогвардейское войско во главе с офицерами, и помогал ему другой белый генерал — Гравицкий.
…Можно себе представить, что творилось в кабинете Слащева, когда к нему вошел Гравицкий и заговорил о репатриации. Извольте, мол, прямо на пароход! Можете взять с собой имущество. Даже ваш автомобиль погрузят. И коня.
— Послушайте, Гравицкий, вы поддались на большевистскую агитацию! Нас хотят заманить в Совдепию…
— Зачем?
— Чтоб прикончить.
— И за этим послали огромный пароход? Есть гарантии Советского правительства, я своими глазами видел бумаги. Они имеют законную силу. Кроме того, вы ведь можете остаться на Лемносе, Яков Александрович. Если ваши люди узнают, а они непременно узнают, и очень скоро, что на борту парохода — уполномоченные по репатриации, они обойдутся и без вас. Что вы им можете предложить взамен? Вечное поселение на Лемносе, продуваемом круглый год свирепыми ветрами, или иностранный легион? То-то же. И Врангель ничего путного предложить не в состоянии и не хочет. Мы — отверженные. Прошу прочитать составленное мной «Обращение», оно будет подписано целой группой генералов и офицеров. Можете поставить и свою подпись…
В конце концов Слащев сдался, всех желающих отправили.
…Лемнос опустел.
Весенний день разгорался все ярче. Колыхалась морская лазурь. С криками носились чайки, садились на воду, что было хорошим признаком. Лемнос поднимался сиреневой громадой к безоблачному небу, словно памятник страданиям людей, покинувших его. Гравицкий нацепил дымчатые очки, защищающие глаза от яркого солнца.
Легкий бриз, никакого движения, и древняя синева вокруг… Очень древняя.
Вон там, на северо-западе, снова Гиссарлыкский холм, руины Трои…
Я обитателям Трои высокие стены воздвигнул,
Крепкую славную твердь, нерушимую града защиту…
Думалось ли когда-нибудь Косте Макошину из Серпухова, что увидит Лемнос и землю Троады, и при таких странных обстоятельствах? А южнее, за Измиром, — Эфес, со стен которого Гераклит оплакивал народную участь: «Родившись, они хотят жить и умереть, или, скорее, найти покой, и оставляют детей, чтобы и те умирали… Пределы души ты не сможешь обнаружить, даже если ты пройдешь все пути — столь глубокую сущность имеет она…» А совсем неподалеку от стен Трои, ушедших глубоко в землю, находятся руины еще одного древнего города — Пергама. Этот город давно завладел воображением Макошина, даже больше, чем Троя и Эфес. Сейчас было странно осознавать, что именно в здешних местах, в Пергаме, разыгрывалась драма мятежного Аристоника, мечтавшего создать «Государство Солнца». Гелиополиты три года держали власть в руках, сдерживая напор римских легионов. Верил ли сам Аристоник, что ему удастся создать государство, в котором не будет угнетателей, где все будут равны?.. Аристоника казнили в Риме.
Солнце забралось в зенит. Теперь Макошин понял сущность древнего мифа о Сизифе: Сизиф закатывает на гору не камень, не скалу, а солнце — и это бесконечная работа, и не такая уж бессмысленная… Снова и снова закатить солнце в зенит… Сизиф трудится для всего рода людского, даже не осознавая этого…
Возле берега из воды поднималась корма затопленного еще во время мировой войны броненосца. Значит, и здесь были боевые дела.
«Решид-паша», войдя в Дарданеллы, вновь продвигался вдоль Галлипольского полуострова, голой равнины, кое-где покрытой красными маками; на пристани Галлиполи стояли солдаты в серых шинелях, махали пароходу руками, даже не подозревая, куда направляются их товарищи, разместившиеся на всех палубах.
И хотя самое трудное, как он считал, осталось позади, расслабляться было нельзя. Он снова жил той натянутой, как струна, жизнью, какой привык жить на фронте, и нервы его не шалили больше, несмотря на сильнейший психический накал. Одно беспокоило: все шло как-то слишком уж гладко. На войне он привык ко всякого рода поворотам судьбы, подчас трагическим. Не ждет ли их такой поворот?
«Решид-паша» не стал заходить в бухту Золотой Рог, не пришвартовался к Галатской набережной, как обычно, выбрал почему-то заброшенную грузовую пристань на мысу в Стамбуле. Он прибыл сюда поздно ночью с погашенными огнями и, высадив на берег генерала Гравицкого, стал втягиваться в Босфор. При потушенных огнях прошел мимо султанского дворца Топканы. Фелюги с косыми парусами жались к берегу, уступая дорогу пароходу.
Макошин не сходил с капитанского мостика. Он размышлял: как только разнесется весть о бегстве целого корпуса белогвардейцев, сразу начнется стремительное разложение врангелевского лагеря…
С генералом Гравицким распрощались дружески: он решил остаться в Константинополе для того, чтобы распространить свое «Обращение» среди войск. Хорошо, если так… Впрочем, пока действия Гравицкого не расходились с делами.
— До новых встреч, — сказал Гравицкий, — что вас беспокоит, Константин Алексеевич?
— Главные беспокойства позади, — ответил Макошин. — Хотел спросить у вас, Юрий Александрович, да все было недосуг: где находились Золотые ворота, на которые вещий Олег в 907 году якобы прибил свой щит? Осталось ли от них хоть что-нибудь? Хотелось камень на память взять.
Гравицкий тихонько рассмеялся.
— Если вам потребуется прислать ко мне верного человека, пусть заговорит о Золотых воротах. Пароль. Следующий раз покажу вам крепость Румели Хисары и квадратные башни, между которыми в ту пору находились Златые врата Цареграда. Башни уцелели. И крепостные стены той поры кое-где сохранились. Те, на которые воины Олега прибили свои щиты…
До выхода в Черное море им предстояло пройти каких-нибудь двадцать семь километров. Там, словно Сцилла и Харибда, с обеих сторон пролива, на берегах двух континентов стоят два маяка — неусыпных стража Босфора — Румелифенери и Анадолуфенери. И там — французские заставы. На верхних галереях маяков установлены пулеметы. Вход в Босфор и выход из него наглухо закрыт. Если патруль Девичьей башни у Мраморного моря несет службу спустя рукава, неизменно пребывая в нетрезвом состоянии, то у маяков несут охрану беспощадные сенегальцы и офицеры с особыми инструкциями. Они головой отвечают за дорогу, ведущую через море в РСФСР.
И если на краткой стоянке в Константинополе Макошину показалось, будто самое трудное позади, то теперь враждебная настороженность ночи вновь наводила его на тревожные размышления. На рейде горели сигнальные огни военных кораблей, любой из них мог прижать «Решид-пашу» к берегу, остановить.
Но для него и для его товарищей обратной дороги нет. При любых обстоятельствах «Решид-паша» должен пробраться в Черное море. Если даже придется открыть огонь по патрулю. В случае преследования военными кораблями тоже придется отбиваться. Капитан парохода, по-видимому, понимал ситуацию. Он был из турецких патриотов, сторонников Кемаля, и быстро уяснил смысл происходящего. Да и то, что белогвардейцы убираются вон из Турции, вызывало радость в его душе. При нем всегда находились два или три полицейских — якобы для надзора, но полицейские тоже ненавидели оккупантов, их марионетку султана и готовы были всячески содействовать смертельно опасному предприятию Макошина и его товарищей. Так была настроена и вся команда парохода, успевшая не раз побывать в Новороссийске и Одессе. Турция вела торговлю с РСФСР, в Константинополе даже имелось неофициальное советское торговое представительство. Англичане смотрели на такое положение вещей сквозь пальцы: ведь они тоже установили торговые отношения с Советами, а если говорить откровенно, то через Турцию торговали опять же англичане и итальянцы. Ну а с Врангелем тут мало кто считался.
Капитан старался держаться азиатского берега. В случае чего, репатриантов можно высадить на сушу, и они соединятся с армией Кемаль-паши или найдут укрытие в поселениях, горах и лесах. Он все учел, этот капитан. Абдул-бей, человек неразговорчивый и суровый. Но для оккупационных властей он был просто капитаном, далеким от политики, так как его дело даже не фрахт, а выполнение рейса. Хозяева лучше знают, каких пассажиров и какой груз он должен перевозить. За разъяснением обращайтесь к фрахтовщикам, которые на грани разорения…
Когда Макошин спросил, когда они будут в Одессе, Абдул-бей без улыбки ответил:
— Это займет столько времени, сколько вы найдете нужным.
Макошину казалось, что часы испортились, остановились — стрелки не двигались. Он даже встряхивал часы, прикладывал к уху, стараясь уловить тиканье. Но, похоже, остановилось само время. Застыло. Когда стали приближаться к некоему невидимому Бейкозу, «Решид-паша» выбрался на середину пролива. И с двух сторон его повсюду подстерегала опасность.
Глухая тишина стояла вокруг. Ни огонька. Лишь скопления звезд продолжают клубиться дымными облаками. Что там чернеет слева на холмах? Крепость Кавак. За ее мощными стенами спрятаны французские пушки. До выхода в открытое море считанные мили — уже виден бледно-голубой свет маяков. Макошин сжался в комок, сердце заныло: именно в Каваке находится французский патруль. Здесь производят и таможенный досмотр. После захода солнца проход в море заперт… До крепости осталось несколько кабельтовых. Со стороны форта грохнул сигнальный выстрел. Здесь не шутят. Абдул-бей знает, упрямиться бесполезно, и приказывает бросить якорь.
К пароходу подошел катер. Патруль в синих шинелях во главе с лейтенантом, таможенные чиновники поднялись на борт. Сухая французская речь. Официальный вид. На палубе показался капитан судна. Увидев множество русских солдат, лейтенант откозырял, безоговорочно дал добро на выход, увел с собой и таможенников и патруль. Какой может быть досмотр у целого армейского корпуса? Французский лейтенант не вправе задавать нелепые вопросы о пути следования: может, задуман очередной десант к Крымским берегам?.. На борту — укрытые брезентом пушки… И конечно же вышли ночью неспроста. Необходимая предосторожность.
Оказавшись в крепости, лейтенант всего лишь для порядка доложил обо всем по телефону своему начальству в Константинополь.
Вот тут-то и началось!
Французское командование оккупационных войск запросило штаб Врангеля. Тот пребывал в растерянности. Куда это подался Слащев? В Болгарию? В Югославию? Удрать задумал, отделиться, так сказать!.. Ничего удивительного. В прошлом году самый надежный генерал Кутепов и тот намеревался удрать на службу к принцу Александру, и это в самое трудное время…
Не мог же Врангель полагать, будто Слащев со всем своим корпусом снялся с Лемноса, проследовал на виду всего Константинополя через Босфор для того, чтобы отправиться в Совдепию?.. Абсурд!..
И все же беглецов следовало вернуть. В противном случае авторитет барона упадет до самой последней черты. Время еще не потеряно. В распоряжении барона находился миноносец «Отважный», на нем несколько сот вооруженных офицеров. То были люди преданные, своего рода гвардия. Возглавлял отряд полковник фон Цицендорф.
Миноносец «Отважный» кинулся в погоню. Полковник Цицендорф не сомневался в успешном исходе операции. На борту «Отважного» имелись пулеметы и пушки. В случае неповиновения «Решид-паша» будет потоплен вместе с пассажирами.
…Когда «Решид-паша» миновал маяки на краю Босфора, занималось мутное утро. Судя по серой полосе на востоке и белым гребешкам на волнах, надвигался шторм. Море сделалось черно-синим, тяжелым. Ветер посвежел. Капитан Абдул-бей дал команду «больше ход». Пароход выбрался из территориальных вод Турции.
Капитан не знал, что параллельным курсом с «Решид-пашой» уже идет миноносец «Отважный», но и не исключал возможности преследования.
А море раскачивалось и раскачивалось. Все выше поднимались валы. «Решид-паша» плавно скользил на зыбях. Такой шторм ему был не страшен. Гонимый волнами, пароход делал скачки вперед. Суровая синяя туча, полоса тумана — все радовало капитана.
Преследователей Абдул-бей заметил на следующее утро. Черная точка, то выныривающая из пучины, то исчезающая из поля зрения. Но капитан догадался: идут за «Решид-пашой». Сказал Макошину. Макошин распорядился приготовить пушки и пулеметы к бою.
Шторм делал свое дело. Давно уже готовый к списанию, миноносец трещал по всем швам. «Отважный» никогда еще не попадал в шторм такой силы. Он вертелся в пенящейся водяной круговерти. Тяжело взлетал и нырял, волны захлестывали, перекатывались через палубу. Полковник фон Цицендорф лежал в каюте в полном изнеможении — он был подвержен морской болезни. Но продолжал слабо выкрикивать:
— Марш! Марш! Догнать, обстрелять!..
Он был настойчив и груб, но командир миноносца сказал ему прямо, что лучше повернуть обратно. Цицендорф в порыве ярости чуть не застрелил его. Командир корабля понял, что перед ним явный психопат. Сообразив, с кем имеет дело, командир корабля поднялся в свою рубку и, спасая миноносец от гибели, приказал сбавить ход, лечь в дрейф.
А «Решид-паша» уверенно шел курсом на Одессу — напрямик от Константинополя! Он тяжело переваливался с борта на борт, клевал носом, но казаки, пристроившиеся на верхней палубе и вглядывавшиеся вдаль, вроде даже не замечали качки.
Кто-то из казаков наизусть прочитал манифест-сатиру на барона Врангеля, сочиненный Демьяном Бедным. Год назад советские аэропланы сбрасывали «Манифест» на позиции белых, на города. Он тысячами экземпляров расходился по всему Крыму, его читали и шепотом и на митингах; для желающих сдаться в плен красным «Манифест» служил пропуском. И конечно же казаки и солдаты, даже офицеры заучивали «Манифест», хохотали, когда кто-нибудь смелый читал его вслух:
Их фанге ан. Я нашинаю.
Эс ист для всех советских мест,
Для русский люд из краю в краю
Баронский унзер манифест.
Вам мой фамилий всем известный:
Их бин фон Врангель, герр барон.
Я самый лючший, самый шестный
Есть кандидат на царский трон…
Говорят, когда Врангель поднялся на борт «Генерала Корнилова» перед отплытием в Константинополь, то у себя в кабинете нашел «Манифест». Возможно, ему тогда подумалось, что это последний «воздушный поцелуй», посланный Михаилом Фрунзе. Но он ошибался.
Последний «воздушный поцелуй» сейчас ему послал соратник М. В. Фрунзе Макошин, который стоял на палубе и бормотал вслед за молодым казаком, который возвращался к себе в станицу:
Их фанге ан…
Но это уже было прошлое. Впереди каждого ждало будущее, и все волновались, хотя и старались казаться веселыми. Как сложится будущая жизнь? Да как бы ни повернулась — хуже не будет, хуже просто не может быть…
Минуты? Часы? Вечность? Бугрилась вспененная вода за бортом. Вода, ветер, тьма… А потом справа по борту — малиновый рассвет, а впереди — видение бело-розового города, встающего из воды…
Заложив руки за спину, Макошин стоял на носу парохода со своими товарищами-чекистами и тихо радовался тому, что экспедиция заканчивается. Все обошлось. Он вдруг вспомнил слова Фрунзе: «Вернетесь, расскажете о Константинополе»… Улыбнулся.
Мысленно оглянулся назад, и только теперь пришло в голову: а что рассказывать? Константинополя, по сути, и не видел. Не успел посмотреть. Не до этого было. Крутые берега Босфора остались далеко позади, будто во сне. Залив Золотой Рог, Галатская пристань в устье залива, Анатолия… Там Макошин не бывал. Не был он и у Айя-Софии, видел издалека купол — и все. Галату пришлось пересечь, когда пошел к Гравицкому. У Галатской башни постоял немного. Башня как башня…
Голова уцелела — и то ладно. А ведь могла запросто слететь… Зато создал в Константинополе как бы опорный пункт для репатриации. «Ни одного солдата и офицера на новую авантюру!..» — слова Гравицкого. Оказывается, солдаты врангелевской армии раскиданы по разным сторонам: много их на Балканах. Следовало бы послать туда миссии советского Красного Креста, которые вели бы работу но репатриации. Уже сейчас, несмотря на террор, в Болгарии возникает «Союз возвращения на Родину».
Дело сделано.
Капитан «Решид-паши» Абдул-бей находился на мостике. Нелегко далось ему это последнее морское путешествие: лицо почернело, глаза ввалились. Но он улыбался. Увидев Макошина, приветственно помахал ему рукой. Теперь-то Макошин все осознал: всю меру ответственности за этот смертельно опасный рейс в Одессу мужественный капитан взял на себя. И вся команда, все они, все были за него и вместе с ним, вместе с Макошиным и его товарищами!.. Когда капитан вернется в Константинополь, его, скорее всего, арестуют и бросят в тюрьму. Его и его «сообщников». И они знают, что их ждет. Но вопреки всему они совершили подвиг во имя жизни, во имя международной солидарности. У многих в Константинополе семьи, дети. И все же они отважились… Спасибо вам, турецкие друзья. Спасибо за все.
…6 апреля 1921 года газета «Правда» сообщила: турецкий пароход «Решид-паша» доставил в Одессу 3800 пассажиров, подавляющее большинство которых — казаки и солдаты, служившие в армиях Врангеля и Деникина.
Солдаты настойчиво требовали возвращения на родину с острова Лемнос…
Только в июле смог Макошин попасть на прием к Фрунзе. Михаил Васильевич был нездоров. Худой, с запавшими глазами, с землисто-серым лицом сидел он в своем, кабинете. Поздравил Макошина с блестящим завершением «немыслимой» операции. Неожиданно сказал:
— Военная промышленность — вот что нам нужно сегодня! Попробуйте свои силы на этом поприще, Константин Алексеевич. Я уже дал со своей стороны рекомендацию… Пойдете в воздушный флот… Желаю успеха! Или вы не рады?
На мгновение Макошин смутился, затем глаза его загорелись:
— Отчего же? Рад. Большое спасибо. Именно об авиации я и мечтал.
— Завидую. А мне, судя по всему, экономистом, как мечталось, не суждено стать. Мы всегда тоскуем о том, чего не имеем, и нам всегда хочется быть не там, где мы есть. Я испытал это на себе…
И трудно было понять, сожалеет он об утраченных возможностях или шутит.

