23
— Я бы предпочёл, чтобы Боб Юэл не жевал табак, — только и сказал об этом Аттикус.
По словам мисс Стивени Кроуфорд, дело было так: Аттикус выходил с почты, к нему подошёл мистер Юэл, обругал его, плюнул ему в лицо и погрозился убить. Мисс Стивени сказала (а когда она рассказывала это второй раз, уже выходило, будто она всё видела своими глазами по дороге из бакалейной лавки) — Аттикус и бровью не повёл, только вынул платок, утёрся и стоял и слушал, как мистер Юэл честил его, да такими словами, что она их нипочём не повторит, скорей язык себе откусит. Мистер Юэл ну и разошёлся, а тут ещё Аттикус никак не отвечал на его брань, он и говорит: что, говорит, черномазым пятки лизать не гордый, а драться гордый? Нет, сказал Аттикус, просто старый, сунул руки в карманы и пошёл прочь, рассказывала мисс Стивени. Уж в этом Аттикусу Финчу не откажешь — он иной раз так срежет…
Но мы с Джимом выслушали всё это без всякого удовольствия.
— А всё-таки прежде он был самый меткий стрелок во всём округе, — сказала я. — Он мог…
— Не станет он ходить с ружьём, Глазастик, — сказал Джим. — Да у него и ружья-то нет… Ты же знаешь, он и у тюрьмы тогда без ружья сторожил. Он мне сказал: ходить с оружием — значит только набиваться, чтоб в тебя стреляли.
— Сейчас другое дело, — сказала я. — Давай попросим его, пускай у кого-нибудь одолжит ружьё.
Мы попросили, и Аттикус сказал — чепуха.
Дилл сказал — нам надо взывать к доброму сердцу Аттикуса: ведь если мистер Юэл его убьёт, мы помрём с голоду и ещё достанемся тёте Александре, и ведь, ясное дело, как только Аттикуса схоронят, она сразу уволит Кэлпурнию. Джим сказал — может, на Аттикуса подействует, если я стану реветь и кататься по полу, ведь я ещё маленькая, да к тому же девочка. Это тоже не помогло.
Но потом Аттикус увидел, что мы уныло бродим вокруг дома, не едим, забросили все игры, и понял, до чего мы напуганы. Как-то вечером он принёс Джиму новый футбольный журнал, Джим нехотя перелистал его и бросил. Тогда Аттикус спросил:
— Что тебя тревожит, сын?
— Мистер Юэл, — напрямик сказал Джим.
— А что случилось?
— Ничего. Мы за тебя боимся, надо, чтоб ты с ним что-то сделал.
Аттикус невесело усмехнулся.
— Что же с ним сделать? Заставить его подписать пакт о ненападении?
— Когда человек говорит, что он с тобой расправится, это не шутка.
Аттикус сказал:
— Он и не шутил тогда. Попробуй-ка на минуту влезть в шкуру Боба Юэла, Джим. На суде я окончательно доказал, что ни одному его слову верить нельзя, если ему до этого хоть кто-нибудь верил. Ему необходимо было на ком-нибудь это выместить, такие люди иначе не могут. Что ж, если оттого, что он плюнул мне в лицо и пригрозил убить, на долю Мэйеллы досталось меньше побоев, пусть так. Должен же он был на ком-то сорвать зло, так уж лучше на мне, чем на своих ребятишках. Понимаешь?
Джим кивнул.
— Нам нечего бояться Боба Юэла, он уже отвёл душу, — сказал Аттикус.
И тут вошла тётя Александра.
— Я в этом совсем не так уверена, Аттикус, — сказала она. — Такой на всё пойдёт, лишь бы отомстить за обиду. Ты же знаешь этих людей.
— Но что мне такого может сделать Юэл, сестра?
— Какую-нибудь гадость исподтишка, — сказала тётя Александра. — Уж не сомневайся.
— В Мейкомбе мало что можно сделать исподтишка, — возразил Аттикус.
Больше мы не боялись. Лето кончалось, и мы не теряли времени даром. Аттикус объяснил нам, что Тому Робинсону ничто не грозит, пока его дело не рассмотрят в следующей инстанции, и что его скорее всего освободят или в крайнем случае назначат новое разбирательство. А пока он на тюремной ферме, в Честерском округе, в семидесяти милях от Мейкомба. Я спросила, позволяют ли жене и детям навещать Тома, но Аттикус сказал — не позволяют.
— А что с ним будет, если апелляция не поможет? — спросила я как-то вечером.
— Тогда его посадят на электрический стул, — сказал Аттикус, — если только губернатор не смягчит приговор. Подожди волноваться, Глазастик. Мы вполне можем выиграть это дело.
Джим растянулся на диване и читал журнал «Популярная механика». Тут он поднял голову и сказал:
— Это всё несправедливо. Даже если он виноват, он никого не убил. Он никого не лишил жизни.
— Ты же знаешь, по законам штата Алабама за изнасилование полагается смертная казнь, — сказал Аттикус.
— Да, сэр, но всё равно присяжные не должны были присуждать его к смерти… Если уж решили, что он виновен, присудили бы двадцать лет.
— К двадцати годам, — поправил Аттикус. — Том Робинсон — цветной, Джим. Ни один состав присяжных в наших краях, разбирая подобное дело, не скажет: «Мы считаем, что ты виноват, но не очень». Тут могло быть либо оправдание, либо самый суровый приговор.
Джим помотал головой.
— Нет, это всё неправильно, только я не пойму, в чём ошибка… может, изнасилование не надо считать таким тяжким преступлением…
Аттикус уронил газету на пол. Он согласен с законом об изнасиловании, вполне согласен, но весьма опасно, когда на основании одних лишь косвенных улик прокурор требует смертного приговора и присяжные его выносят.
Тут он увидел, что я тоже слушаю, и объяснил:
— Иными словами, для того чтобы человека приговорили к смерти, скажем, за убийство, требуются один или два очевидца. Надо, чтобы кто-то мог сказать: «Да, я там был, я сам видел, как он спустил курок».
— Но ведь очень многих казнили на основании косвенных улик, — возразил Джим.
— Знаю, и многие из них, вероятно, этого заслуживали… Но если нет очевидцев, всегда остаётся сомнение, пусть хотя бы тень сомнения. Закон называет это «допустимое сомнение», но, по-моему, мы не имеем права даже на тень сомнения. В противном случае всегда остаётся вероятность, пусть самая малая, что осуждённый не виновен.
— Значит, опять выходит, что во всём виноваты присяжные. Тогда надо с ними покончить, — убеждённо сказал Джим.
Аттикус очень старался сдержать улыбку, но не сумел.
— Уж слишком ты с нами крут, сын. Я думаю, можно найти лучший выход: изменить закон. Так изменить, чтобы для самых тяжких преступлений определять наказание мог только судья.
— Тогда поезжай в Монтгомери, пускай изменят закон.
— Ты даже не подозреваешь, как это трудно. Мне не дожить до того времени, когда изменят закон, а ты, если и доживёшь, будешь уже стариком.
Джиму это не понравилось.
— Нет, сэр, с присяжными надо покончить. Ведь вот Том не виновен, а они сказали — виновен.
— Будь на месте этих присяжных ты и ещё одиннадцать таких, как ты, Том уже вышел бы на свободу, — сказал Аттикус. — Жизнь не успела ещё отучить тебя рассуждать ясно и здраво. Двенадцать присяжных, которые осудили Тома, в повседневной жизни люди вполне разумные, но ты сам видел: что-то помешало им рассуждать здраво. То же самое ты видел и в ту ночь перед тюрьмой. Они ушли тогда не потому, что в них верх взял разум, но потому, что они натолкнулись на нас. Есть в нашей жизни что-то такое, от чего люди теряют облик человеческий: они бы и хотели быть справедливыми, да не могут. Когда у нас в суде белый выступает против чёрного, выигрывает всегда белый. Такова неприкрашенная правда жизни.
— Всё равно несправедливо, — упрямо сказал Джим. Кулаком он постукивал себя по коленке. — При таких уликах нельзя осудить человека, нельзя — и всё.
— По-твоему, нельзя, и ты бы не осудил, а вот они осудили. И чем старше ты будешь становиться, тем больше такого увидишь. В суде, более чем где бы то ни было, с человеком должны поступать по справедливости, какого бы цвета ни была его кожа, но люди ухитряются приносить с собой на скамью присяжных все свои предрассудки. Становясь старше, ты всё больше будешь замечать, как белые каждый день на каждом шагу обманывают чёрных. Но вот что я тебе скажу, сын, и ты это запомни: если белый так поступает с чёрным, кто бы ни был этот белый, как бы он ни был богат, из какой бы хорошей семьи ни вышел, всё равно он — подонок.
Аттикус говорил совсем тихо, но это последнее слово нас оглушило. Я подняла голову — глаза его горели.
— Белый негодяй, который пользуется невежеством негра, — что может быть гнуснее? Не надо обманывать себя — счёт всё растёт, и рано или поздно расплаты, не миновать. Надеюсь, вам не придётся это пережить.
Джим почесал в затылке. И вдруг широко раскрыл глаза.
— Аттикус, — сказал он, — почему люди вроде нас и мисс Моди никогда не бывают присяжными? Наши городские никогда не бывают, а всё только какие-то из самой глуши.
Аттикус откинулся в своей качалке. Почему-то он был очень доволен Джимом.
— Я всё ждал, когда ты до этого додумаешься, — сказал он. — На то есть много причин. Прежде всего мисс Моди не может быть присяжной, потому что она женщина…
Я возмутилась.
— Разве в Алабаме женщины не могут?…
— Вот именно. Как я подозреваю, это для того, чтобы оберечь нежных дам от грязных дел, таких вот, как дело Тома. И потом, — Аттикус усмехнулся, — боюсь, мы бы ни одно разбирательство не довели до конца: дамы всё время задавали бы вопросы.
Мы с Джимом расхохотались. Мисс Моди присяжная — вот бы поглядеть! А миссис Дюбоз в своём кресле на колёсах: «Прекрати этот стук, Джон Тейлор, я хочу кой о чём спросить этого человека!» Пожалуй, наши предки рассудили мудро.
— Ну, а что до людей вроде нас, нам тоже придётся платить по тому счёту, — продолжал Аттикус. — Мы получаем таких присяжных, каких заслужили. Во-первых, наши доблестные мейкомбцы слишком равнодушны. Во-вторых, они боятся. Потом они…
— Почему боятся? — спросил Джим.
— Ну… допустим, мистеру Линку Дизу придётся решать, сколько должна мисс Рейчел уплатить мисс Моди, если она, скажем, сбила её машиной. Линку ведь не захочется терять ни одну из своих покупательниц, правда? Вот он и говорит судье Тейлору, что не может заседать в суде, ему не на кого оставить магазин. И судья Тейлор его освобождает. Иной раз и сердится, а всё-таки освобождает.
— А почему мистер Диз думает, что мисс Моди или мисс Рейчел перестанут у него покупать? — спросила я.
— Мисс Рейчел перестанет, а мисс Моди нет, — сказал Джим. — Аттикус, но ведь это тайна, кто из присяжных за что голосует.
Отец усмехнулся.
— Тебе предстоит ещё многое уразуметь, сын. Да, предполагается, что это тайна. Став присяжным, человек должен принимать решения и высказывать их. Люди этого не любят. Это ведь не всегда приятно.
— Насчёт Тома присяжные, уж конечно, решали наспех, — пробормотал Джим.
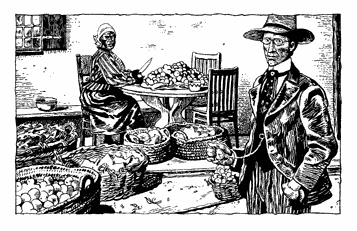
Аттикус взялся за кармашек для часов.
— Нет, не наспех, — сказал он почти про себя. — Понимаешь, именно потому я и подумал: может быть, это всё-таки начало. Присяжные совещались не один час. Приговор, вероятно, всё равно был предрешён, но обычно такие дела отнимают всего несколько минут. А на этот раз… — Аттикус замолчал на полуслове и посмотрел на нас. — Вам, наверно, интересно будет узнать, что был там один присяжный, которого насилу уломали… вначале он требовал безоговорочного оправдания.
— Кто же это? — удивился Джим.
Глаза Аттикуса весело блеснули.
— Не надо бы говорить, но я вам всё-таки скажу. Это один ваш приятель из Старого Сарэма.
— Из Канингемов? — заорал Джим. — Из… я их никого не видел… Нет, ты шутишь! — Он исподлобья смотрел на Аттикуса.
— Это их родич. Я как почуял — и не отвёл его. Прямо как почуял. Мог бы отвести, но не отвёл.
— Одуреть можно! — изумился Джим. — Только что они его чуть не убили, а через минуту чуть не выпустили… Нет, ввек мне не понять, что это за народ за такой.
Аттикус сказал — просто надо их узнать. Он сказал — с тех самых пор, как Канингемы переселились в Новый Свет, они ни у кого ничего не брали и не перенимали. И ещё: уж если заслужил их уважение, они за тебя в огонь и в воду. А ему кажется, нет, вернее сказать, мерещится, сказал Аттикус, что в ту ночь, когда они повернули от тюрьмы, они преисполнились уважения к Финчам. И потом, сказал он, переубедить Канингема может только чудо, да и то в паре с другим Канингемом.
— Будь у нас в этом составе два Канингема, присяжные так никогда и не вынесли бы приговора.
— И ты не отвёл из присяжных человека, который накануне хотел тебя убить? — медленно сказал Джим. — Как же ты мог пойти на такой риск, Аттикус, как ты мог?
— Если разобраться, риск был не так уж велик. Какая разница между двумя людьми, если оба они готовы засудить обвиняемого? А вот между человеком, который готов осудить, и человеком, несколько сбитым с толку, разница всё-таки есть, согласен? Из всего списка только о нём одном я не знал наверняка, как он проголосует.
— А кем он приходится мистеру Уолтеру Канингему? — спросила я.
Аттикус встал, потянулся и зевнул. Даже нам ещё не время было спать, но ему хотелось почитать газету. Он поднял её с полу, сложил и легонько хлопнул меня по макушке.
— Сейчас прикинем, — прогудел он. — Ага, вот. Дважды двоюродный брат.
— Это как же?
— Две сестры вышли за двух братьев. Больше ничего не скажу, соображай сама.
Я думала-думала и решила: если б я вышла за Джима, а у Дилла была бы сестра и он на ней женился, наши дети были бы дважды двоюродные.
— Вот это да, Джим, — сказала я, когда Аттикус ушёл. — Ну и чудные эти Канингемы. Тётя, вы слышали?
Тётя Александра крючком вязала коврик и не смотрела на нас, но прислушивалась. Она сидела в своём кресле, рабочая корзинка стояла рядом на полу, коврик расправлен на коленях. Я никогда не могла понять, почему настоящие леди вяжут шерстяные коврики в самую жару.
— Да, слышала, — сказала она.
Мне вспомнилась та давняя злополучная история, когда я кинулась на выручку Уолтеру Канингему-младшему. Как хорошо, что я тогда это сделала.
— Вот пойдём в школу, и я позову Уолтера к нам обедать, — объявила я, совсем забыв, что поклялась себе при первой же встрече его отлупить. — А то можно зазвать его к нам и после уроков. А потом Аттикус отвезёт его в Старый Сарэм. А когда-нибудь он, может, и переночует у нас, ладно, Джим?
— Там видно будет, — сказала тётя Александра.
Эти слова у неё всегда означали угрозу, а вовсе не обещание. Я удивилась:
— А почему нет, тётя? Они хорошие люди.
Она поглядела на меня поверх своих рабочих очков.
— Я нисколько не сомневаюсь, что они хорошие люди, Джин Луиза. Но они не нашего круга.
— Тётя хочет сказать, они неотёсанные, Глазастик, — объяснил Джим.
— А что это — неотёсанный?
— Ну, грубый, любит музыку погромче и всякое такое.
— Подумаешь, я тоже люблю…
— Не говори глупостей, Джин Луиза, — сказала тётя Александра. — Суть в том, что, если даже отмыть Уолтера Канингема до блеска, надеть на него башмаки и новый костюм, он всё равно не будет таким, как Джим. К тому же все Канингемы чересчур привержены к спиртному. Женщины из рода Финчей не интересуются подобными людьми.
— Тё-о-тя, — протянул Джим, — ей же ещё и девяти нет.
— Всё равно, пусть знает.
Спорить с тётей Александрой было бесполезно. Я сразу вспомнила, как она в последний раз стала мне поперёк дороги. Почему — я так и не поняла. Я тогда мечтала побывать дома у Кэлпурнии — мне было до смерти интересно, я хотела быть её гостьей, поглядеть, как она живёт, увидеть её друзей. Но это оказалось так же невозможно, как достать луну с неба. На этот раз тактика тёти Александры была другая, но цель та же. Может, для того она и поселилась у нас, чтобы помогать нам в выборе друзей?
— Ну раз они хорошие люди, почему мне нельзя хорошо обходиться с Уолтером?
— Я не предлагала тебе обходиться с ним плохо. Будь с ним учтивой и приветливой, со всеми надо быть любезной, милочка. Но совершенно незачем приглашать его в дом.
— Тётя, а если б он был нам родня?
— Но он нам не родня, а если бы и так, всё равно я сказала бы тебе то же самое.
— Тётя, — вмешался Джим, — Аттикус говорит, друзей выбираешь, а родных-то не выберешь, и признавай их, не признавай — всё равно они тебе родня, и не признавать их просто глупо.
— Узнаю вашего отца, — сказала тётя Александра, — и всё-таки, повторяю, Джин Луизе незачем приглашать Уолтера Канингема в этот дом. Будь он ей хоть дважды и трижды двоюродный, всё равно его незачем принимать у себя в доме, разве только он придёт к Аттикусу по делу. И хватит об этом.
Запрет окончательный и бесповоротный, но всё-таки теперь ей придётся дать объяснение.
— Тётя, а я хочу играть с Уолтером, почему нельзя?
Тётя Александра сняла очки и посмотрела на меня в упор.
— А вот почему, — сказала она. — Потому, что он — по-до-нок. Вот почему я не позволяю тебе с ним играть. Я не потерплю, чтобы ты водила с ним компанию, и перенимала его привычки, и училась у него бог весть чему. Твоему отцу и без того хватает с тобой хлопот.
Уж не знаю, что бы я сделала, если бы не Джим. Он удержал меня за плечи, обхватил одной рукой и повёл к себе. Аттикус услыхал, как я реву от злости, и заглянул в дверь.
— Это ничего, сэр, — сердито сказал Джим, — это просто так.
Аттикус скрылся.
— На, держи, Глазастик, — Джим порылся в кармане и вытащил пакетик жевательной резинки. Не сразу я её разжевала и почувствовала вкус.
Джим стал наводить порядок у себя на столике. Волосы у него надо лбом и на затылке торчали торчком. Наверно, они никогда не улягутся, как у настоящего мужчины, разве что он их сбреет, тогда, может, новые отрастут аккуратно, как полагается. Брови у него стали гуще, а сам он сделался какой-то тонкий и всё тянулся и тянулся кверху.
Он оглянулся и, наверно, подумал, что я опять зареву, потому что сказал:
— Сейчас я тебе кое-что покажу. Только никому не говори.
Я спросила: а что? Он смущённо улыбнулся и расстегнул рубашку.
— Ну и что?
— Ну разве не видишь?
— Да нет.
— Да волосы же.
— Где?
— Да вон же!
Он только что меня утешал, и я сказала — какая прелесть, но ничего не увидала.
— Правда, очень мило, Джим.
— И под мышками тоже, — сказал он. — На будущий год уже можно будет играть в футбол. Глазастик, ты не злись на тётю.
Кажется, только вчера он говорил мне, чтобы я сама её не злила.
— Понимаешь, она не привыкла к девочкам. По крайней мере к таким, как ты. Она хочет сделать из тебя леди. Может, ты бы занялась шитьём или чем-нибудь таким?
— Чёрта с два! Просто она меня терпеть не может. Ну и пускай. Это я из-за Уолтера Канингема взбесилась — зачем она его обозвала подонком, а вовсе не потому, что она сказала, будто Аттикусу со мной и так много хлопот. Мы с ним один раз всё это выяснили. Я спросила, правда, ему со мной много хлопот? А он сказал, не так уж много, пускай я не выдумываю, что ему со мной трудно. Нет, это из-за Уолтера… Джим, он никакой не подонок. Он не то что Юэл.
Джим скинул башмаки и задрал ноги на постель. Сунул за спину подушку и зажёг лампочку над изголовьем.
— Знаешь что, Глазастик? Теперь я разобрался. Я всё думал, думал и вот разобрался. На свете есть четыре сорта людей. Обыкновенные — вот как мы и наши соседи; потом такие, как Канингемы, — лесные жители; потом такие, как эти Юэлы со свалки; и ещё негры.
— А как же китайцы и канадцы, которые в Болдуинском округе?
— Я говорю про Мейкомбский округ. Вся штука в том, что мы не любим Канингемов, Канингемы не любят Юэлов, а Юэлы просто терпеть не могут цветных.
Я сказала — а почему же тогда эти присяжные, которые все были вроде Канингемов, не оправдали Тома назло Юэлам?
Джим от меня отмахнулся, как от маленькой.
— Знаешь, я сам видел, когда по радио музыка, Аттикус притопывает ногой, — сказал Джим, — и он ужасно любит подбирать поскребышки со сковороды…
— Значит, мы вроде Канингемов, — сказала я. — Тогда почему же тётя…
— Нет, погоди, вроде-то вроде, да не совсем. Аттикус один раз сказал, тётя потому так похваляется семьёй, что у нас всего и наследства — хорошее происхождение, а за душой ни гроша.
— Всё-таки я не пойму, Джим… Аттикус мне один раз сказал — все эти разговоры про старинный род одна глупость, все семьи одинаково старинные. А я спросила — и у цветных и у англичан? И он сказал — конечно.
— Происхождение — это не то, что старинный род, — сказал Джим. — Я думаю, тут всё дело в том, давно ли твоя семья умеет читать и писать. Глазастик, я над этим знаешь сколько голову ломал, и, по-моему, в этом вся суть. Давным-давно, когда Финчи ещё жили в Египте, кто-нибудь из них, наверно, выучил два-три иероглифа, а потом научил своего сына. — Джим рассмеялся. — Представляешь, тётя гордится тем, что её прапрадедушка умел читать и писать… Прямо смех с этими женщинами, чем гордятся!
— Ну и очень хорошо, что умел, а то кто бы научил Аттикуса и всех предков, а если б Аттикус не умел читать, мы б с тобой пропали. Нет, Джим, по-моему, хорошее происхождение это что-то не то.
— Тогда чем же, по-твоему, мы всё-таки отличаемся от Канингемов? Мистер Уолтер и подписывается-то с трудом, я сам видел. Просто мы читаем и пишем дольше, чем они.
— Но ведь никто не рождается грамотный, всем надо учиться с самого начала. Уолтер знаешь какой способный, он только иногда отстаёт, потому что пропускает уроки, ведь ему надо помогать отцу. А так он человек как человек. Нет, Джим, по-моему, все люди одинаковые. Просто люди.
Джим отвернулся и стукнул кулаком по подушке. А когда опять обернулся, он был уже чернее тучи. Опять на него нашло, я знала — когда он такой, надо быть поосторожнее. Брови сдвинуты, губы в ниточку. Он долго молчал.
— В твои годы я тоже так думал, — сказал он наконец. — Если все люди одинаковые, почему ж они тогда не могут ужиться друг с другом? Если все одинаковые, почему они так задаются и так презирают друг друга? Знаешь, Глазастик, я, кажется, начинаю кое-что понимать. Кажется, я начинаю понимать, почему Страшила Рэдли весь век сидит взаперти… Просто ему не хочется на люди.

