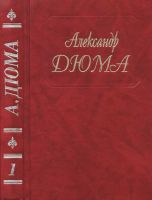Вирджиния Вулф
ВМЕСТЕ И ПОРОЗНЬ
Их познакомила миссис Дэллоуэй и добавила: он вам понравится. Разговор начался, когда они еще молчали: и мистер Сэрль и мисс Аннинг смотрели в небо, и для обоих небо лучилось чем-то непонятным и важным, впрочем, для каждого своим, но вдруг мисс Аннинг так отчетливо ощутила рядом с собой мистера Сэрля, что стало невозможно видеть небо, просто небо, но только небо над высокой фигурой, над темными глазами и седеющими волосами и сухим, грустным (ей говорили: притворно грустным) лицом Родерика Сэрля, и, зная, что это глупо, она не удержалась и сказала:
— Какой чудесный вечер!
Глупо! Страшно глупо! Но можно ли не быть глупой в сорок лет и под этим небом, пред которым все — несусветная чушь, а она и мистер Сэрль у окна гостиной миссис Дэллоуэй — точки, пылинки в лунном свете, и вся их жизнь не дольше жизни ночного мотылька.
— Да… — произнесла мисс Аннинг и многозначительно похлопала по дивану. Он сел рядом с ней. Правду ли говорят, что он «притворно грустен»? Впрочем — и это опять из-за неба, — ей было почти безразлично, что там говорят и что делают, и она снова сказала нечто совсем банальное:
— Я знала одну мисс Сэрль, в Кентербери, когда была там девочкой.
Повинуясь чарам ночного неба, мистер Сэрль тотчас же увидел могилы своих предков в голубовато-романтическом свете, глаза его расширились и потемнели, и он ответил:
— Да. Мы ведем свой род от норманнов — тех, что приплыли с Вильгельмом. В Кентерберийском соборе похоронен некто Ричард Сэрль. Он был кавалер ордена Подвязки.
Мисс Аннинг почувствовала, что случайно задела настоящего мистера Сэрля, того, на котором выстроен второй, притворный. Зачарованная луной (а луна виделась ей как символ мужского начала, и, глядя на нее сквозь щелку между занавесками, мисс Аннинг плескалась в лунном свете), она могла сказать почти все что угодно и решилась выкопать настоящего мистера Сэрля из-под притворного, говоря себе: «Вперед, Стэнли, вперед!» — это у нее был такой боевой клич, тайная хитрость, чтобы себя пришпорить, подхлестнуть, как это делают иногда немолодые люди, страдающие неисправимым пороком, а она страдала от страшной застенчивости, вернее, лени, ибо ей не хватало даже не смелости, а скорее энергии, особенно в разговоре с мужчинами, которых она побаивалась, и чаще всего разговор с ее стороны выливался в поток банальностей, и у нее было очень мало друзей-мужчин, вообще очень мало близких друзей, подумала она, но если честно, так ли они ей нужны? У нее есть Сара, Артур, дом и собака, и «это», думала она, сидя на диване рядом с мистером Сэрлем и в то же время купаясь, нежась в «этом», в том чувстве, которое охватывало ее всякий раз, когда она возвращалась домой, уверенная, что дома ждут чудеса, заповедное царство, такое, чего ни у кого больше нет и быть не может (ведь только у нее одной есть Артур, Сара, дом и собака), и, снова погружаясь в сладостное чувство обладания, она понимала, что «этого» и луны (а луна — чудная музыка) ей довольно и не нужен ей этот человек с его гордостью за умерших Сэрлей. Нет! В этом главная опасность — нельзя, нельзя в ее возрасте давать волю сладкой дремоте. «Вперед, Стэнли, вперед!» — сказала она себе и спросила его:
— А сами вы знаете Кентербери?
Знает ли он Кентербери! Мистер Сэрль улыбнулся, подумав, какой это нелепый вопрос — как мало она знает, эта милая тихая женщина с добрыми глазами и, кажется, умная, с очень красивым старинным ожерельем и, говорят, музыкантша, — как плохо она знает, о чем спрашивает. Спросить у него, знает ли он Кентербери! Когда лучшие годы его жизни, все его воспоминания, все, чего он никогда за всю жизнь не смог рассказать, что пробовал описать — м-да, пробовал описать (он вздохнул), все это было в Кентербери; просто смех.
Его вздох, а потом смех, его грусть и веселость нравились людям, и он это знал, но сознание того, что он нравится, не утолило разочарования, и хотя он использовал всеобщее расположение (и наносил длинные визиты участливым дамам — длинные, длинные визиты), но не без горечи душевной — ибо он не достиг и десятой доли того, чего мог бы достичь, о чем мечтал когда-то мальчиком в Кентербери. При всяком новом знакомстве он оживлялся: тот, кто лишь теперь узнал его, не ведал о несбывшихся надеждах и, поддаваясь его обаянию, позволял начать все сначала — это в пятьдесят-то лет! Она напала на родник. Цветы, и поля, и дома из серого камня тонкой струйкой потекли по его сознанию, собираясь в серебристые капли на его темных, иссохших стенах и стекая на дно. С такого образа часто начинались его стихи. И сейчас ему страстно захотелось создавать образы, здесь, рядом с этой тихой женщиной.
— Да, я знаю Кентербери, — произнес он с задумчивым, сентиментальным выражением, ожидая, как почувствовала мисс Аннинг, новых, не слишком нескромных вопросов, и вот почему всем с ним так интересно, и эта-то удивительная способность легко и остро реагировать на чужие слова погубила его, как часто думал он сам, отстегивая запонки и складывая ключи и мелочь на столик у кровати после очередного приема (а во время лондонского сезона ему случалось бывать в гостях чуть ли не каждый день), а наутро, спускаясь к завтраку, становился совсем другим, злым и раздражительным, и резко говорил с женой; жена его была очень больна и никогда не выходила из дому, но ее порой навещали знакомые — главным образом знакомые женщины, которые интересовались индийской философией, разными лекарствами и докторами, о чем Родерик Сэрль любил бросить едкую, уничтожающую фразу, слишком для нее остроумную, так что в ответ она могла лишь горько покачать головой да тихо всплакнуть, — он потому ничего не достиг, часто думалось ему, что не смог полностью покинуть свет и общество женщин, столь нужное ему, и писать. Он слишком дал жизни захлестнуть себя — тут он перебрасывал ногу на ногу (все его движения были изысканны и немного оригинальны) — и не винил себя — нет, он винил скорее богатство своей натуры и в этом смысле считал себя лучше, чем, скажем, Вордсворт, он слишком много отдал людям, и теперь, думал он, подперев голову руками, они тоже должны помочь ему — такова была прелюдия, трепетная, чарующая, вдохновенная прелюдия к разговору; и образы переполняли его.
— Она похожа на белое дерево — на вишню в цвету, — сказал он, глядя на молодую женщину с пышными светлыми волосами. Красивый образ, подумала Рут Аннинг, очень приятный образ, и все-таки она не уверена, что ей нравится этот изысканно грустный человек и его жесты; странно, как безотчетны наши чувства, подумала она. Ей не нравится он, но понравилось это его сравнение женщины с цветущей вишней. Тонкие нити ее ощущений произвольно относило то туда, то сюда, как щупальца морского цветка, рождая то трепет, то недоуменье, в то время как мозг ее, вдали от метущихся страстей, в прохладной одинокой тиши получал сигналы, которые надлежит обработать, с тем чтобы, когда речь зайдет о Родерике Сэрле (а он был своего рода личность), она могла сразу и определенно сказать: «Он мне нравится» или «Он мне не нравится», раз и навсегда составив свое мнение. Какая странная мысль, какая важная мысль; в ней, словно сквозь зеленую толщу воды, проглядывает суть наших взаимоотношений.
— Как странно, что вы знаете Кентербери, — сказал мистер Сэрль. — Так трудно бывает понять, — продолжал он (светловолосая женщина уже затерялась среди других гостей), — когда вот так кого-нибудь встретишь (они никогда раньше не встречались), случайно, казалось бы, и вдруг он мимоходом затронет нечто такое, что много значило для тебя, затронет не думая, ведь Кентербери для вас всего лишь милый старый городок, не так ли? Вы там, наверное, провели одно лето, в гостях у тетушки. (Как раз это, только это, Рут Аннинг и собиралась рассказать ему о своей поездке в Кентербери.) Вы осмотрели достопримечательности и уехали, и больше об этом никогда не вспоминали.
Пусть он так думает: он ей не нравится, к чему его разубеждать? На самом-то деле три месяца, проведенные в Кентербери, потрясли ее. Она помнила до последней мелочи, хотя это был самый обыкновенный визит, как они ходили в гости к мисс Шарлотте Сэрль, знакомой ее тетки. Даже теперь она могла бы наизусть повторить слова мисс Сэрль о громе: «Когда я просыпаюсь и слышу гром среди ночи, я всегда думаю: кого-то убило». И в памяти у нее — жесткий мохнатый ковер с ромбиками и мигающие, слезящиеся глаза старушки, когда она, держа перед собой пустую чашку, говорит о громе. И всегда, вспоминая Кентербери, ока видела грозовые тучи, и лиловые отблески на цветах яблонь, и длинные серые стены зданий.
Гром пробудил ее от припадка старческого безразличия. «Вперед, Стэнли, вперед!» — проговорила она про себя, что значило: нет, этот от меня не ускользнет, как все остальные, истолковав все превратно; я скажу ему правду.
— Я полюбила Кентербери, — сказала она.
Он сразу весь как-то загорелся. В этом был его дар, его беда, его судьба.
— Полюбили? — переспросил он. — Да-да, я понимаю.
Ее щупальца метнули новый сигнал: ей приятно общество Родерика Сэрля.
Их глаза встретились: скорее — столкнулись, ибо каждый почувствовал, что кто-то там, в глубине, во мраке вечного уединения, тот, кто всегда невидим позади бойкого и болтливого, броского и вертлявого своего двойника, вдруг поднялся во весь рост, сбросил капюшон и шагнул навстречу. Было страшно, было чудесно. Они оба немолоды, и жизнь отполировала их до ровного блеска, так что Родерик Сэрль ходил порой на десяток приемов за сезон и ничего при этом не испытывал, кроме разве туманных сожалений и потребности в красивых образах — вроде этого, с цветущей вишней, — и все время в нем бродило застарелое чувство превосходства над теми, кто его окружает, чувство неиспользованных возможностей, которое, по возвращении домой, выливалось в недовольство жизнью и самим собой, в пустоту, скуку и раздражительность. Но теперь вдруг, как белая стрела сквозь туман (этот-то образ возник сам собою, метнувшись, как молния с небес), явилось оно, старое опьянение жизнью, явилось и обрушилось на него; и это было неприятно, хотя и наполняло радостью и молодостью, и рассыпало по всему телу лед и огонь, это было ужасно.
— Кентербери двадцать лет назад… — сказала мисс Аннинг, как прикрывают рукой нестерпимо яркий свет, как прячут пламенеющий персик под зеленым листком, ибо он уже слишком сочен, слишком нежен, слишком спел.
Порой она жалела, что не вышла замуж. Порой ей казалось, что покой и прохлада середины жизни и хорошо отлаженный механизм для защиты души и тела от ударов — все это в сравнении с грозовым небом и яблочным цветом Кентербери — низость. Она могла себе представить нечто другое, нечто пронзительное, громоподобное. Какое-то физическое ощущение. Что-то такое… Теперь — и это странно, потому что она впервые видела его, — ее чувства, эти щупальца, которые только недавно вздрагивали и колыхались, больше не передавали сигналов, а лежали неподвижно, словно она и Сэрль настолько близки, что могут спокойно плыть бок о бок вниз по течению.
Самое странное, что есть на свете, — это человеческое общение, подумала она, настолько оно изменчиво, настолько лишено всякой логики, вот и ее неприязнь превратилась в самую что ни на есть пылкую и восторженную любовь, но только лишь слово «любовь» пришло ей на ум, как она его отбросила, опять подумав, как непонятно то, что с нами происходит, и как мало у нас слов для всех этих удивительных ощущений, этой смены боли и наслаждения. Как назвать то, что с ней творится? Она утратила способность быть доброй и понимать других, и Сэрль куда-то исчез, и оба испытывают нестерпимое желание скрыть то, что так тлетворно, так губительно для человеческой природы, то, что всякий старается как-нибудь поприличнее схоронить, — этот порыв, стремление выйти из игры, наплевав на всех, — и, подыскивая какой-нибудь приличный, известный и общепринятый способ захоронения, она проговорила:
— Конечно, как бы там ни было, а Кентербери испортить невозможно.
Он улыбнулся; он принял это; он перебросил ногу на ногу. Она сделала свое дело, он — свое. Вот и все. И сразу же их обоих сковала та полная, непроницаемая пустота, которая, кажется, обволакивает сознание, не пропуская ни мысли, ни чувства сквозь свою плотную завесу, от которой испытываешь почти физическую боль, и глаза, застыв, неподвижно смотрят в одну точку — будь то рисунок на ковре или уголек в камине — и видят с пугающей ясностью, от которой делается не по себе, ибо нет ни мысли, ни впечатления, способного изменить, повернуть, приукрасить то, что открыто глазу, ибо источник чувств наглухо закупорен и мозг онемел, а за ним и тело замерло, как изваяние, так что мистер Сэрль и мисс Аннинг не могли ни заговорить, ни шевельнуться, и им показалось, что с них слетело страшное колдовство и живительная сила хлынула по венам, когда Майра Картрайт игриво коснулась плеча мистера Сэрля и прощебетала:
— Я видела вас вчера в театре, а вы улизнули, негодник вы этакий. Да я после этого и говорить с вами не хочу.
И они смогли расстаться.
На главную: Предисловие