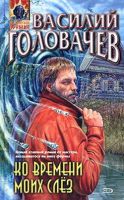28
Время проходит, и все в этом мире проходит вместе с ним. Александр ел, начал спать, встречаться с друзьями. Он даже принимал у себя просителей. Обрезанные волосы понемногу отросли. Порой царь заговаривал со мною об обычных, повседневных вещах. Но он не отозвал своих посланников, не развернул их с полпути к Сиве.
Осень перешла в зиму. Минуло то время, когда цари привыкли покидать летний дворец, отъезжая в Вавилон. Чтобы приветствовать Александра, туда уже направились бесчисленные посольства со всех концов империи и из-за дальних ее границ.
Египтяне показали все свое искусство, бальзамируя Гефестиона. Он лежал в золоченом гробу, на помосте, обитом драгоценными тканями, в одном из наиболее торжественно обставленных залов дворца. Вокруг него были разложены военные трофеи и дружеские приношения. Его не стали пеленать бинтами, класть в саркофаг или закрывать лицо маской, как делают здесь, в Египте. Тело, над которым потрудились мастера, даже не обернутое, сохранит жизнеподобные черты на многие века… Александр часто навещал его.
Однажды он взял с собою и меня – ибо я достойно оплакал смерть его друга – и поднял крышку гроба, чтобы я мог взглянуть. Гефестион лежал на золотом шитье, в остром аромате благовоний и селитры; он вспыхнет свечою, когда наступит пора сжечь его тело в Вавилоне. Лицо оставалось красивым и было строгим в неумолимости сжатых губ, цвета потемневшей слоновой кости. Скрещенные на груди руки покоились на обрезанных прядях волос Александра.
Время шло. Когда Александр уже мог говорить с друзьями, его военачальники, в своей воинской мудрости, принесли ему лечебное питье, чья сила превосходила все мои старания. Птолемей пришел к царю с вестью: коссаянцы явились получить положенную дань.
То было племя знаменитых разбойников, жившее в горах где-то меж Экбатаной и Вавилоном. Караванам, желавшим пройти той дорогой, приходилось ждать, пока торговцев не соберется достаточно для того, чтобы нанять маленькую армию для охраны. Кажется, набеги совершались на все, что двигалось по перевалу, включая и царские повозки, пока не было решено ежегодно, в середине осени, откупаться от коссаянцев сумой, полной золотых дариков. Оговоренное время минуло, и разбойники послали спросить, что сталось с их данью.
Александрово «что?» прозвучало почти как в старые времена.
– Дань? – переспросил он. – Пусть подождут. Будет им дань.
– Это очень трудная страна, – озадаченно проговорил, почесывая щеку, умница Птолемей, – их крепости похожи на гнезда орлов. Оху так и не удалось справиться с разбойниками за все эти годы.
– А мы с тобой справимся, – твердо отвечал Александр.
Он выступил против коссаянцев, не прошло и недели. Царь сказал, что всякий разбойник, павший от его руки, будет посвящен Гефестиону, как это делал Ахилл с троянцами у погребального костра Патрокла.
Я собрал свои вещи, даже не спросившись. Царь больше не бросал на меня те скрытые взгляды; он взял меня, ибо не рассматривал иной возможности, я же только того и ждал. В своем сердце я смирился с тем, что он может уже никогда не возлечь со мною, чтобы не огорчить ненароком дух Гефестиона. Весь этот траур понемногу превратился в привычку. Я смогу жить, только если буду рядом с моим господином.
В горах Александр разделил войско, поручив одну часть Птолемею, а вторую возглавив сам. Там, наверху, уже стояла настоящая зима. Мы были армейским лагерем, как в горах великого Кавказа, и двигались налегке от одной крепости к другой. Каждую ночь Александр приходил в свой шатер, не скорбя более, но полный дум о дневном марше или осаде. На седьмой день похода он впервые рассмеялся.
Хоть все коссаянцы были грабителями и убийцами, без которых человечество могло лишь вздохнуть спокойнее, я опасался (ради Александра, разумеется), что царь устроит жуткую, диктуемую безумием резню. Но он пришел в себя. Конечно, он убивал врагов там, где битва взывала об этом; возможно, Гефестион был доволен, если только мертвые и впрямь так обожают кровь, как поет о том Гомер. Но Александр захватывал пленных, не отступая от своего обычая, и пленял вождей, чтобы ставить свои условия оставшимся на свободе. Мысль его работала ясно, как прежде. Он видел каждую козью тропу, ведущую к очередному орлиному гнезду; его военные хитрости и сюрпризы были виртуозны. А ведь ничто не излечит творца лучше собственного его искусства.
После одной блестящей победы он устроил в своем шатре ужин для военачальников. Еще перед тем, как явились гости, я беспечно сказал ему: «Аль Скандир, тебе надо подровнять волосы», – и он позволил мне поправить неровные концы. В ту ночь он выпил немало и опьянел. Царь не делал этого со дня смерти Гефе-стиона: вино могло утопить его чистую скорбь. Теперь он пил за победу, и, помогая ему добраться до постели, я чувствовал облегчение в своем сердце.
Мы двинулись к следующей крепости. Александр выставил осадные линии. Первый снег коснулся вершин белой кистью, и люди жались поближе к кострам. Огни сверкали на царских одеждах, когда он вернулся в шатер и привычно приветствовал стоявших на страже юношей. Когда я внес ночной светильник, он притянул меня к себе, поймав за руку.
В ту ночь я не предложил ему изысков своего искусства – или не больше, чем вошло в мою плоть и кровь; во мне была одна только нежность, из которой удовольствие рождается само, питаемое ею, как цветы питаются пролившимся накануне дождем. Мне пришлось зарыться лицом в подушку, дабы скрыть слезы радости. На спящем челе Александра я видел морщины – отметины безумия, боли и бессонницы, но то были всего лишь следы свежих ран, уже затянувшихся и превращающихся в старые шрамы. Лик царя говорил об умиротворении.
Я думал тогда: Александр возродит легенду об Ахилле, он отольет ее в вечной бронзе. Он будет верен ей, даже если проживет втрое больше. Полк Гефести-она всегда будет носить его имя, кто бы им ни командовал. Сам же он вовеки останется любовником Александра, никто и никогда не услышит: «Я люблю тебя больше всех прочих». Но в гробнице не поселится никто, кроме легенды; сам Гефестион станет шипящим синим пламенем, а затем – прахом. Пусть он живет отныне на Олимпе, среди бессмертных, пока мое место здесь.
Я тихонько собрался и вышел, стараясь не разбудить Александра. Он возьмет новую крепость на рассвете; у него не будет лишнего времени, чтобы обдумать план осады.
За всю нечистую историю коссаянцев еще никто не преследовал их в разгар зимы. Последние крепости сдались под угрозой голодной смерти, в обмен на свободу пленников. Вся война отняла сорок дней, не более. Александр расставил гарнизоны в крепостях вдоль переходов, уничтожил все прочие – и война окончилась. Караваны потекли непрерывной струйкой. Царскому двору было приказано собраться и последовать за своим господином в Вавилон. Твердые красные почки уже украсили голые кусты, сбрасывавшие с себя снег.
Если бы не охватившее царя безумие, он зимовал бы там, внизу, где было не так холодно. Он мог бы заняться созданием нового порта и флотилии, надобных для похода на Аравию. Теперь он направлялся в Вавилон, когда любой прежний царь Персии подумал бы о Персеполе. Всю войну с коссаянцами несметные толпы посольств ожидали его, сгорая от нетерпения.
Они пришли, когда Александр встал лагерем по ту сторону Тигра. Он готовился встретить их, исполненный царственной власти, но никто не сумел бы хорошо приготовиться к такому нашествию.
Послы явились не просто из разных концов империи, но из стран всего известного мира – из Ливии, с короною африканского золота; из Эфиопии, с зубами гиппокампов и слоновьими бивнями невероятных размеров; из Карфагена, с ляписом, и жемчугом, и благовониями; из Скифии, с гиперборейским янтарем… Огромные беловолосые кельты явились с северо-запада, смуглые этруски – из Италии; пришли даже иберийцы из-за Столбов. Все они восхваляли Александра, называя повелителем Азии, они привезли споры из городов, бывших далеко за пределами границ его империи, с тем, чтобы испросить его мудрого решения. Они пришли с дарами, посоветовавшись с оракулами, как то делают греки перед путешествием к самым почитаемым храмам своей страны.
Действительно, в наше время само лицо Александра изменило лики богов. Поглядите на что угодно, на статуи или картины. Весь мир помнит сегодня его глаза.
То, что эти люди явились увидеть царя во всем величии, помогло Александру справиться с болезнью. После всего, что он пережил, греки шептались, будто судьба его вышла за пределы человеческого жребия, а потому боги прониклись завистью. Одному из таких греков я отвечал: «Говори за себя. Наш царь велик и не ведает зависти; он правит, осиянный светом и славою. Вот почему мы поклоняемся ему через огонь». Нечего удивляться, отчего это у греков завистливые боги, – сей народ и сам исполнен зависти.
Целых три дня у Александра не было ни единой свободной минуты, чтобы отдаться горестям. Ум его был возбужден: царь вспоминал о Сиве и думал о западных землях, чьи народы увидел впервые. Но что-то в его лице постоянно менялось, как если бы печаль касалась вдруг его плеча, спрашивая: «Ты забыл обо мне?»
В речных долинах всходы уже окрасили зеленью плодородные, жирные земли. На горизонте проступили черные стены Вавилона, когда к нашему последнему лагерю подскакал одинокий путник. То был Неарх, прибывший прямо из города. Хоть трудности походов оставили на нем свою печать, сейчас можно было судить о его подлинном возрасте – едва за сорок. Мне он сразу показался озабоченным. О нет, подумал я. Только не теперь, когда царю едва стало лучше! В общем, я остался выслушать Неарха.
Александр тепло встретил старого друга, осведомился о его здоровье и о делах флота; потом просто сказал:
– А теперь расскажи мне, что случилось.
– Александр, речь о халдейских жрецах, астрологах.
– Что такое? Я потратил целое состояние, чтоб они заново отстроили храм Зевса-Бела. Чего им еще не хватает?
– Дело не в том, – сказал Неарх.
Пусть я не мог видеть его из своего укрытия, мое сердце все же замерло: отважный моряк Неарх никогда прежде не ходил вокруг да около.
– Тогда в чем же? – терпеливо спросил Александр. – Что могло произойти?
– Александр, халдеи читали мне по звездам, прежде чем мы ушли в Индию. Все вышло так, как они говорили… В общем, недавно я снова побывал у них. Они предвещают нечто такое… от чего я совсем растерялся. Послушай, Александр, я ведь знал тебя, еще когда ты был таким вот крохой. Мне ведом день твоего рождения, место, час – все, что им нужно. Я попросил прочесть для тебя звезды, и они говорят, что прямо сейчас Вавилон таит опасность. Халдеи собираются выйти тебе навстречу, предупредить. Для тебя этот город – что подветренный берег, говорят они. Несчастливый. Вот почему я здесь.
Небольшая пауза. Потом – тихий голос Александра:
– Что ж, я в любом случае рад тебя видеть. Скажи, они закончили храм?
– Нет, едва только заложен фундамент. Не знаю почему.
Царь рассмеялся:
– Зато я знаю. Они таскали из казны деньги на возведение храма с тех самых пор, как Ксеркс сровнял его с землей. Должно быть, теперь халдеи – самые богатые жрецы на всем свете. Они думали, я не вернусь, и решили, что так может продолжаться вечно. Неудивительно, что они не хотят впускать меня в город.
Неарх прочистил горло:
– Ну, этого я не знал. Но… они поведали, что меня ждет испытание водой, царское уважение, а затем – свадьба на девушке чужого народа. Помнишь, я говорил на пиру?
– Они прекрасно знали, что ты – мой друг, а в придачу наварх моего флота. Чудесно! Пошли ужинать.
Александр выделил Неарху шатер для ночлега и завершил работу, назначенную на день.
Когда царь лег, я наклонился над ним, и он шепнул, глядя вверх:
– Мой прекрасный соглядатай! Не будь таким мрачным, тебе это не к лицу.
– Аль Скандир! – Я упал на колени рядом с кроватью. – Делай то, что советуют халдеи. Не думай о деньгах, пусть они оставят их себе. Они не прорицатели и не нуждаются в чистоте сердец, но их познания велики. Всякий скажет тебе.
Александр потянулся ко мне и пробежал по моим локонам пальцами.
– Вот как? Каллисфен тоже многое знал.
– Халдеи не могут лгать. Вся их слава – в правдивых предсказаниях. Я жил в Вавилоне и говорил со всякими людьми в домах танцев.
– Правда? – Александр легонько потянул меня за волосы. – Ну-ка, рассказывай дальше.
– Аль Скандир, не ходи в город.
– Ну что с тобою делать? Залезай, ты не уснешь в одиночестве.
Халдеи пришли говорить с ним на следующий день.
Они явились в священных одеяниях, чей покрой не менялся веками. Благовония сжигались перед ними; их жезлы были усыпаны звездами. Александр встретил астрологов в своем парадном облачении – в македонских доспехах. Им как-то удалось убедить его уединиться с ними, отойти в сторонку, дабы никто, кроме толмача, не слыхал разговора. У халдеев свой тайный язык, а вавилоняне к тому же не сильны в персидском; но я надеялся, что толмач поймет как раз достаточно, чтобы убедить Александра передумать.
Назад царь вернулся с серьезным выражением на лице. Он не был из тех, кто слепо считает, что бог может иметь одно лишь имя – то, что было открыто человеку еще в детстве.
Халдеи упрашивали Александра идти на восток, в Сузы. Но все мечты, надежды и неотложные, дорогие его сердцу дела сходились в Вавилоне: новый порт, завоевание Аравии, похороны Гефестиона… Царь все еще сомневался в добрых намерениях астрологов. Старый Аристандр, который толковал для него знамения, уже умер.
В любом случае царь заявил, что, поскольку запад неблагоприятен, он обойдет город вокруг и вступит в него с востока, через Южные врата.
Восточных врат в Вавилоне нет – и вскоре мы уже знали отчего. Обогнув город, мы угодили в топь – растянувшееся, насколько хватало глаз, питаемое Евфратом болото, полное коварных мелких озер. Александр мог бы сделать круг пошире, даже если для этого пришлось бы дважды переходить Тигр и возвращаться к Евфрату. Но он сказал нетерпеливо: «Довольно. Я не собираюсь прыгать с кочки на кочку, подобно болотной жабе, только чтобы доставить удовольствие халдеям». В городе ждали посольства – и царь знал, что глаза всего мира сейчас устремлены на него. Быть может, именно поэтому все вышло так, как вышло. Он вернулся обратно, зайдя с северо-запада.
Но Александр и тогда не спешил входить в город, намереваясь разбить лагерь на берегу реки. Потом он услыхал, что к Вавилону движутся новые послы, на сей раз из Греции.
Как всегда навязчивый, Анаксарх поспешил напомнить ему, что греческие мыслители более не верят в знамения. Это уязвило гордость Александра.
Дворец давно был готов принять его. Когда Александр въехал в городские врата в колеснице Дария, над его головой дрались вороны – и один пал мертвым под копыта его коней.
Как бы там ни было, вопреки всем знамениям, первые встретившие царя новости сулили жизнь и удачу. Согдианская жена Александра Роксана двинулась из Экбатаны прямо в дворцовый гарем. Когда царь навестил ее, выяснилось, что та носит ребенка.
Она знала и прежде, еще в Экбатане, и сказала ему, что ждала, желая увериться. Между тем истина – и я ничуть не сомневаюсь в том, что говорю, – была проста: как раз тогда Александр был безумен, и Роксана боялась сообщить ему новость, которая привела бы его к ней.
Царь сделал все приличествующие моменту подарки и послал добрую весть отцу согдианки. Сам же встретил ее тихо. Быть может, он уже смирился с мыслью, что Роксане не зачать от него, и надеялся в скором будущем взрастить наследника от Страте-ры. Возможно, впрочем, что думы его были совсем о другом.
Когда он поведал мне эту новость, я вскричал:
– О Аль Скандир! Живи долго, чтобы увидеть его победы!
Я обхватил Александра обеими руками, словно бы обладал властью бросить вызов небожителям. Мы долго простояли, молча обнявшись, понимая друг друга. Наконец Александр сказал:
– Если бы я женился в Македонии, как того хотела моя мать, прежде, чем идти в Азию, мальчику сейчас было бы двенадцать. Но у меня не было времени. Его никогда не хватает.
Поцеловав меня, он ушел.
Всякий раз, когда я не мог быть рядом с Александром и видеть его, разлука превращалась в мучительную пытку. Я наблюдал, как он ходит по роскошным залам, знакомым мне с детства. Тогда я приехал сюда с легким сердцем. Теперь же страх и печаль пожирали меня, подобно болезни. Почему он послушал халдеев, внял их предупреждению – и затем пренебрег им? Это из-за Гефестиона, думалось мне. Это он тянется к Александру из страны мертвых.
«Жить следует так, – сказал мне царь давным-давно, – словно проживешь вечно, но как если бы каждое мгновение твоей жизни могло оказаться последним». Сразу по прибытии Александр повелел копать великий порт и строить флот для похода к аравийским берегам, назначив командовать Неарха. Сейчас в Вавилоне была весна – столь же жаркая, как лето в Сузах. Александр возвращался со строительства порта на коне, истекая потом, и сразу спешил к царским купальням. Ничто во всем дворце не доставляло ему большего удовольствия. Ему нравились прохлада стен и резные ширмы, за коими виднелась река, просторный бассейн с его небесно-лазурными плитками и с золотыми рыбками на них. Он плавал здесь, и вода развевала ему волосы.
Но всюду его преследовали мысли о Гефестионе. Пришла пора возводить костер.
Флот и новый порт уже строились. У Александра появилось время заняться иными приготовлениями, и уже очень скоро он не думал ни о чем, кроме похорон. Безумие ненадолго вернулось. Проснувшись средь ночи, он говорил разумно, но очень скоро вновь погружался в свой сон наяву. Сны Александра были демонами. Он изгонял их, и понемногу они повиновались.
Десять фарлонгов городской стены Александр повелел разобрать наполовину и выровнять до квадрата. Так была воздвигнута огромная платформа. Подножие будущего костра выложили красивыми плитками. На нем, все выше и меньше, этаж за этажом, рядами строились новые ступени. Каждый ярус – с резными скульптурами, столь прекрасными, словно им предстояло навечно украсить город. Внизу – носы кораблей с лучниками и воинами величиною более настоящих; затем факелы в двадцать футов длиною, украшенные орлами и змеями; потом сцена охоты на диких зверей, блиставшая позолотой. Еще выше – военные трофеи, сразу и македонские, и персидские; для того чтобы показать – оба наших народа воздают почести умершему. А наверху – мне трудно описать – слоны, львы, гирлянды из цветов… Где-то в вышине укреплены статуи крылатых сирен, полые внутри; в них должны были прятаться певцы, коим следовало исполнить погребальную песнь незадолго до того, как все сооружение будет подожжено. Громадные стяги малинового цвета свисали с каждого яруса. Внутри была размещена лестница – с тем, чтобы мертвого можно было с почестями вознести на самую вершину. Ни одного царя не хоронили так с начала мира, думал я. Александр замыслил все это словно для себя самого. Я смотрел ему в лицо – глаза, обращенные к вершине костра, горели изнутри тихим помешательством – и ничего не мог поделать, не решаясь даже прикоснуться к нему.
Погребальная колесница прибыла из Экбатаны в сопровождении Пердикки. Гефестион лежал на ней, как и в том большом зале, спокойный и торжественный. Александр все чаще ходил взглянуть на тело; скоро его не станет. Медий из Лариссы, бывший ему другом, заказал знакомому обоим скульптору бронзовый образ Гефестиона и подарил Александру. Тот принял дар с такой радостью, что и прочие друзья, стремясь превзойти один другого, заказывали маленькие статуи из золота, слоновой кости или же из алебастра. Скоро комната была полна ими; Гефестион был повсюду, куда я ни отвернул бы взгляд. А я-то воображал: стоит зажечь огонь – тут ему и конец!
Однажды, будучи один, я взял в руку лучший из образов и пристально вгляделся в него, думая: «Кто ты такой? Что ты такое? Зачем ты делаешь это с моим господином?» Александр появился за моей спиною и с таким гневом рявкнул: «Поставь на место!» – что я едва не уронил статуэтку. Сотрясаясь от страха быть изгнанным, я как-то смог поставить ее и обернулся. Царь спросил немного спокойнее:
– Что ты здесь делаешь? Я отвечал:
– Он был дорог тебе. Я пытаюсь понять. Александр прошелся по комнате и, застыв в углу, тихо проговорил:
– Он знал меня.
И ничего больше. Я был прощен; Александр не хотел напугать или поранить. Я спросил – он ответил.
Они родились в одном месяце, на одних и тех же холмах, среди одного народа, во власти одних и тех же богов… Они жили под одной крышей с четырнадцати лет. Воистину, если они с Александром казались нерасторжимым целым, до какой же степени я был чужаком для них?
Время пройдет, думал я. Они могли перенести долгую разлуку в походе. Вскоре смерть Гефестиона тоже станет казаться такой разлукой, не более. Если у нас будет время.
Пришел назначенный день. В предрассветном сумраке люди окружили платформу: в одном ряду стояли военачальники и принцы, сатрапы и жрецы, знаменосцы и глашатаи, музыканты… Раскрашенные слоны… У ступеней пылали жаровни, стояли столы, заваленные приготовленными факелами.
Носильщики подняли тело Гефестиона по скрытой внутри лестнице. Когда они достигли верха – маленькие, будто игрушечные фигурки – и положили тело на помост, запели крылатые сирены: слабые голоса скорби донеслись до нас с небес. Они спустились, не прекращая печальной песни, и факелы были зажжены у жаровен.
Помост с телом Гефестиона стоял на колоннах пальмового дерева; пространство между ними было забито просмоленным деревом и сухой соломой. Александр ступил вперед – один, с факелом.
Он был так возбужден, что безумие, казалось, сдалось под натиском эмоций. Певкест, видевший Александра, когда тот продолжал сражаться с маллийской стрелою в боку, позже сказал мне, что выражение на его лице было тем же самым. Слоны подняли хоботы и затрубили.
Царь бросил факел. Языки пламени рванулись вверх. Его примеру последовали друзья; факелы посыпались к подножию страшной пирамиды; огонь подпрыгнул, преодолевая решетки первого яруса, к носам кораблей. Уже тогда пламя ревело.
Изнутри костер заполняло дерево. Ослепительное, жаркое пламя рванулось вверх по спирали, проглатывая корабли, и лучников, и львов, и орлов, и щиты, и гирлянды… Наверху оно окутало тело и взметнулось еще выше острием огромного огненного копья на фоне бирюзы рассветного неба.
Когда-то, на огненном пиру в Персеполе, они вместе с Гефестионом взирали на эту пляску, стоя рядом, плечом к плечу.
Какое-то время огненная башня стояла во всем своем пугающем, ослепительном блеске; потом ряд за рядом, ярус за ярусом, она стала проваливаться вниз, внутрь себя самой. О платформу ударился деревянный орел с горящими крыльями; сирены упали внутрь; тело пропало, словно его и не было. Дерево и тяжелые резные скульптуры с шумом летели вниз, оставляя за собою слепящий след из множества искр выше любых деревьев. Весь погребальный костер уподобился одному гигантскому факелу, прогоревшему до основания, – и при его свете я видел одно лишь лицо…
Взошло солнце. Весь наш строй стоял, оглушенный жаром и печальной красою не виданного прежде зрелища. Когда не осталось ничего, кроме красных угольев и белого пепла, Александр отдал приказ расходиться. Он отдал его сам, без подсказок. Я уж думал, сначала полководцам придется разбудить его…
Когда царь повернулся, чтобы уйти, к нему придвинулись жрецы в парадных одеждах всех храмов города. Александр коротко отвечал им и прошел мимо. Жрецы показались мне расстроенными, и я догнал одного из царских стражей, бывших рядом. Я спросил, чего хотели от царя эти люди?
– Они просто спрашивали, нельзя ли вновь разжечь священные огни в храмах. Александр сказал: нет – до заката.
Я глядел на него, не веря собственному слуху. – Огни в храмах? Он приказал погасить их?
– Да, в знак скорби. Багоас, ты скверно выглядишь. Наверное, из-за жары. Идем сюда, в тень. Что, в Вавилоне это что-нибудь означает?
– Это делается, если только умирает сам царь.
Молчание сковало нам губы. Наконец страж сказал:
– Но когда он отдавал приказ, жрецы должны были поведать ему об этом.
Я поспешил во дворец, надеясь застать Александра одного. Если зажечь огни теперь, мы все еще могли отвратить знамение… Неужели же прежних знаков не хватало ему, чтобы теперь Александр сам создавал их?
Но царь уже собрал множество людей и заканчивал готовить погребальные игры. Мрачные лица персов сказали мне, что и другие пытались убедить его. Старые дворцовые евнухи, за всю свою жизнь лишь трижды видевшие огни погашенными, шептались меж собою и косились в мою сторону. Я не подходил к ним. Храмы простояли во тьме до заката. Весь день Александр потратил на приготовления к играм. Уже не особенно много оставалось сделать, но он, кажется, просто не мог остановиться.
Игры и состязания продолжались добрую половину месяца. Все лучшие актеры из греческих земель побывали в Вавилоне. Я ходил на все представления, в основном для того лишь, чтобы видеть лицо моего господина; только одна из пьес вспоминается мне теперь – «Мирмидоняне», которую Теттал и прежде играл для Александра. Пьеса посвящена Ахиллу и смерти Пат-рокла. Теттал и сам потерял недавно близкого друга, умершего за время путешествия из Экбатаны. Он перенес свою утрату стойко, будучи все-таки актером. Александр сидел и взирал на сцену, но по глазам можно было судить, что разум его блуждает где-то совсем в иных краях. Я узнал этот взгляд. Я уже видел его, когда Певкест пилил древко стрелы, застрявшей в легком Александра.
Казалось, музыка помогла ему совладать с болью; Александр словно отпустил сам себя, пока играли кифаристы. Когда все закончилось, царь устроил маленький ужин для победителей и каждому из них нашел нужные слова. Возможно, думалось мне, этот грандиозный огонь выжег из него последние остатки безумия.
Александр вновь начал посещать будущий порт. Он устроил состязание для гребцов и предложил им призы. Потом прибыли греческие посольства.
Они явились воспеть хвалу благополучному возвращению Александра с самого конца мира, привезли с собою дары: золотые царские короны и венки изысканной и утонченной работы искусных ювелиров, а также свитки, описывающие деяния великого Александра. Даже завистливые афиняне явились, полные лживых комплиментов. Царь понимал, конечно, что они лгут. Но в ответ он подарил им статую Освободителей, привезенную из Суз, чтоб афиняне вновь водрузили ее в своей цитадели. Показывая свой дар послам, он словно бы случайно указал на кинжалы и поймал мой взгляд.
Последнее посольство явилось из Македонии.
Оно весьма отличалось от прочих. Регент Анти-патр, которого должен был сместить Кратер, послал к Александру своего сына, дабы тот защитил отца.
Все время регентства, все эти годы, начавшие отсчет с гибели царя Филиппа, царица Олимпиада ненавидела его, желая, на мой взгляд, только одного – править самой. Зная ее клеветническую натуру, нечего удивляться, что Антипатр решил, что все ее письма к сыну в конце концов приведут к тому, что Александр задумает вершить суд над ним. За десять лет он ни разу не встречался с Александром и не мог знать, как именно тот относится к писаниям своей матушки. Даже если отчаяние наконец довело его до крайней меры, приходится только удивляться, что у Антипатра недостало разумения не посылать к Александру своего сына Кассандра, если только регент все еще был верен царю.
Что бы Александр ни рассказывал мне о своем детстве, в этих историях постоянно возникал сей юноша – и всякий раз царь отзывался о нем с не поблекшим за годы отвращением. Они возненавидели друг друга с первого же взгляда и пронесли эту ненависть через все годы учения; однажды они просто подрались. Причина того, что Кассандр остался в Македонии, заключалась лишь в том, что Александр не хотел терпеть его в своей армии.
Впрочем, Кассандр помог своему отцу подавить какое-то восстание в Южной Греции и справился со своею задачей весьма неплохо; вне сомнения, теперь оба они надеялись, что сей славный подвиг послужит ему лучшей рекомендацией. Он прибыл после стольких лет, словно чужой человек; вот только Александр и этот незнакомец возненавидели друг друга с первого взгляда, как некогда в детстве.
Кассандр был самонадеянным рыжеволосым мужчиной, чье лицо украшали бледные веснушки и старомодная македонская борода. К тому же, разумеется, он не имел ни малейшего представления о жизни царского двора Персии. Признаюсь, я уже позабыл, что подобные ему люди еще где-то существовали.
Вне сомнений, зависть сотрясала его, сводя с ума. Тронный зал дворца был недавно обставлен заново для приема посольств; вкруг самого трона большим полукругом были расставлены кушетки с серебряными ножками, где во время приемов имели право сидеть дорогие царскому сердцу друзья – как македонцы, так и персы. Возвращение к древним традициям приема послов позволяло всему царскому двору встать за спинкою трона, а мое собственное место было сбоку от Александра. Потому я был там, когда Кассандр вошел, чтобы приветствовать царя. Пока все мы ожидали появления Александра, я заметил, как Кассандр посматривал на нас, евнухов: в его взгляде было столько желчи, что можно было подумать, мы – нечто вроде вредоносных паразитов.
Прием шел не слишком гладко. Из Македонии прибыли и другие посланцы, оказавшиеся истцами, принесшими жалобы на регента. Кассандр чересчур поспешно объявил, что все эти люди явились издалека затем лишь, чтобы скрыть свою неправоту за невозможностью доказать ее прямо на месте. Мне кажется, по меньшей мере одна жалоба была послана Александру самой царицей Олимпиадой. Только один человек на всем свете мог бы осудить ее в разговоре с Александром, и этот человек был уже мертв. Царь попросил Кассандра подождать, пока он не примет нескольких персов.
Какие-то варвары вперед него? Я видел, как Кассандр вскипел от ярости. Он шагнул назад, и персы, не получившие ранга царских родичей, пали ниц пред Александром.
Кассандр фыркнул. Не верно, как говорят некоторые, будто он рассмеялся в голос. Он все-таки был послом, которому вскоре предстояло продолжить переговоры. Неправда также и то, что Александр якобы ударил его головою о стену. В том не было нужды.
Истина в том, что насмешка Кассандра прозвучала вполне открыто; полагаю, гнев сделал его беспечным.
Он повернулся к своему спутнику, вошедшему вместе с ним, и указал пальцем, чтобы тот обратил внимание на особенно смешную деталь. Александр подождал, пока персы встанут, поговорил с ними и дал им разрешение уйти. Потом он сошел с трона, одною рукою ухватил Кассандра за волосы и уставился в его перекошенное лицо.
Я подумал: все, сейчас царь убьет его. По-моему, Кассандру пришла на ум та же мысль. Но все не так просто; это было превыше царской власти, превыше слова, сказанного оракулом Амона… Александр прошел сквозь огонь и тьму, и теперь ему всего-навсего было достаточно сделать это видимым. Кассандр смотрел на него, как птичка смотрит на подползающую змею, белый от чистого ужаса одного человека пред другим.
– Ты можешь идти, – сказал ему Александр.
Путь до дверей не мог показаться Кассандру близким. Должно быть, он понимал, что страх клеймит не хуже тавра, и все мы – нелюди, достойные одной лишь насмешки, – видели его столь же ясно, как если б оно было выжжено на его лбу.
Позже, оставшись наедине с Александром, я сказал:
– Ненависть, подобная этой, может быть опасна. Почему ты не отправишь его домой, в Македонию?
Царь отвечал мне:
– Ну нет. Кассандр вернется и заявит Антипатру, что я – его смертный враг. Он убедит его восстать, а Кратера убьет, едва тот войдет в город, и приберет Македонию к рукам. Антипатр может послушать сына, если решит, будто я угрожаю его жизни. И потом, мой регент – не из глупцов. Если бы я желал ему зла, я вряд ли держал бы при себе его второго сына в качестве виночерпия, не так ли? Мой регент слишком долго был регентом – и все, ни больше и ни меньше. Нет, пока Кратер не попадет в Македонию, Кассандр останется в Вавилоне, под моим присмотром… Гефестион тоже не мог его выносить.
В былые дни я умолял бы царя тихонько убрать этого человека с дороги. Я знал теперь, что Александр никогда не сделает ничего, что впоследствии не сможет признать своим деянием. Многие годы я сокрушался, что не осмелился взять это на себя. Меня и сейчас мучает мысль: одним маленьким фиалом с ядом я мог бы оборвать ту убийственную ненависть, что преследует моего господина даже после смерти; я мог бы спасти его мать, его жену и сына, которого я никогда не видел, но который оставил бы нам нечто большее, нежели просто память об Александре.
Настало лето. Все персидские цари давно уже отдыхали бы в Экбатане, но я-то знал: Александр в жизни не заставит себя вновь проехать в те ворота. Мне оставалось лишь радоваться, что теперь он постоянно бывал занят флотом и строительством причалов в новом порту. Четыре месяца минуло с тех пор, как халдеи вышли из города, чтобы предупредить Александра о грядущей беде. Я забыл бы об их пророчестве, если бы не возносящийся все выше храм Бела.
Вскоре мы ненадолго оставили город. Каждый год, когда таяли снега, река выходила из берегов ниже по течению, и жившие там ассирийцы всякий раз терпели лишения от ее разливов, живя поэтому в достойной сочувствия бедности. Александр хотел поставить там дамбы и прорыть каналы, чтобы река дала этим людям возможность освоить новые поля. Это было всего лишь небольшое путешествие по реке, но я не мог нарадоваться тому, что Александр наконец-то выбрался из сулившего недоброе города.
Царь всегда любил реки. Корабли скользили в зарослях камыша, достигавшего человеческого роста; навигаторы-ассирийцы знали все речные каналы и ответвления назубок. Иногда над нашими головами сплетались тенистые кроны огромных деревьев, и мы плыли под ними, словно по пронизанной солнцем зеленой пещере; иногда в открытых заводях мы прокладывали свой путь по сплошным зарослям белоснежных лилий; в этих местах река имела множество рукавов. Александр стоял на носу и порою брался за руль. На нем была та самая сплетенная из соломы шляпа от солнца, которую он носил в Гедросии.
Поток расширился меж плачущих ив, грустно покачивавших нависшими над водою ветвями. Среди них стоял скверно обтесанный каменный столб с еле заметными с реки, траченными временем и непогодой фигурами крылатых львов и быков с человечьими ликами. Когда Александр спросил о них, корабельщик из Вавилона отвечал ему: «О Великий царь, это могилы правителей древних времен, ассирийцев. Здесь они хоронили своих мертвых».
С этими его словами налетевший вдруг порыв ветра сорвал с головы Александра шляпу и бросил ее за борт. Ее пурпурная лента – символ царской власти – отвязалась и была унесена прочь. Отлетев к берегу, она застряла в камыше.
Наше судно скользило далее само по себе; гребцы подняли весла. По всему кораблю пронесся вздох благоговейного трепета. Один из гребцов, быстрый в движениях смуглый парень, нырнул с борта, в несколько сильных гребков подплыл к берегу и отвязал ленту. Он постоял там, сжимая ее в руке и раздумывая об илистой воде, после чего завязал ее на собственной голове, чтобы оставить сухою. Александр принял ее со словами благодарности. Мы двинулись дальше; царь молчал, а я едва сдерживался, чтобы не закричать в голос. Царский венец побывал на могиле и вслед за этим оказался повязан вкруг головы какого-то гребца!
Завершив работу, Александр вернулся в Вавилон. Мне хотелось выть и бить себя в грудь при одном только виде черных стен.
Когда царь поведал прорицателям о новом знамении, они отвечали ему в один голос: голову, что носила ленту, необходимо тотчас же отделить от тела.
– Нет, – твердо сказал им Александр. – Он желал мне добра и сделал только то, что на его месте сделал бы всякий. Его можно наказать, если боги жаждут искупления, но не бейте его слишком сильно, а потом пришлите ко мне.
Когда гребец явился, царь дал ему талант серебра. Мы вернулись в Вавилон, где судьба не сулила ничего, кроме процветания и благополучия. Певкест с гордостью провел парад армии из двадцати тысяч персидских воинов. Его провинция содержалась в отменном порядке; народ любил его как никого прежде. Александр похвалил друга за рвение (и глашатаи объявили о том горожанам), после чего занялся планами устройства нового персо-македонского войска. Никто не возражал; даже македонцы начали подозревать, что персы могут быть неплохими воителями.
Кое-какие наши слова уже прочно вошли в их собственную речь.
Пришел долгожданный день возвращения царского посольства из Сивы.
Александр принял своих послов в тронном зале, где вокруг него на серебряных кушетках расселись Соратники. Церемонно и медленно глава послов развернул папирус Амона. Бог отказался разделить с Ге-фестионом божественность, но тот по-прежнему оставался в числе бессмертных. Друг Александра был объявлен смертным героем, за свои подвиги взятым на небо.
Александр был вполне доволен. После того как первая волна его безумия схлынула, он догадался, наверное, что бог не захочет сделать большего. Помимо того, Гефестиону все еще можно было поклоняться. Во все города империи были направлены приказы о строительстве нового храма или алтаря. (Здесь, в Александрии, я часто прохожу мимо огороженной пустой площадки на острове Фарос. Подозреваю, бывший в то время сатрапом Клеомен присвоил себе все деньги.) Гефестиону следовало молиться и приносить жертвы, в его силах было защитить просителя от напастей. Все официальные договоры заключались его именем, рядом с именами богов.
(Храм Гефестиона, который должен был стоять в Вавилоне, был задуман в греческом стиле, с лапифа-ми и кентаврами на фризе. Место, отведенное под его строительство, также пустует. Не думаю, чтоб хотя бы один камень всех этих священных построек был возложен на другой. Что же, Гефестион не должен гневаться. Он получил свою жертву.)
Александр устроил для послов пир в честь дарованного Гефестиону бессмертия. Другими гостями были друзья, которые могли бы понять. Сам Александр лучился радостью, восседая на пиру. Можно было подумать, все знамения позабыты.
Несколько дней впоследствии он был занят, приглашая архитекторов и рассматривая чертежи новых храмов. Он навестил Роксану, которую нашел здоровой и сильной; согдианки спокойно относятся к своей беременности и не делают из нее большого события. Затем Александр вновь занялся планами устройства нового смешанного войска.
Это сулило перемены во всех частях нынешней армии. Подготовившись заново распределить командование, Александр призвал во дворец военачальников, дабы сделать необходимые назначения. Он встретил их в тронном зале; сейчас он прекрасно понимал, что для персов означает правильно построенная церемония. За спинкою трона собрался весь царский двор. Лето было в полном разгаре, стояла нестерпимая жара. Где-то посреди церемонии Александр объявил перерыв и пригласил друзей во внутренние покои, чтобы сделать по глотку холодной воды с вином и лимоном. Они не могли отсутствовать долго; смысла уходить не было, и все мы продолжали стоять за пустым троном и кушетками, тихо разговаривая о каких-то пустяках.
Мы не видели вошедшего, пока он не оказался среди нас. Мужчина в грязных обносках – обычный воин среди многих тысяч, если б не его лицо. В ясно читавшемся на нем безумии все мы были для него невидимы; он не представлял себе, что делает… Мы не успели даже двинуться с места, а он уже сидел на троне.
Мы испуганно таращились на него, не веря собственным глазам. То было самое ужасное из всех знамений, какие только можно вообразить; вот почему на протяжении всей истории нашего народа это всегда оставалось государственным преступлением. Кто-то из нас бросился вперед, чтобы стащить его с трона, но старики завыли, предупреждая остальных. Царство будет обескровлено и останется вообще без мужчин, если евнух освободит трон. Они стали причитать, бия себя в грудь, а все прочие присоединились к общему скорбному хору. Стенания быстро притупили мой разум, и я уже ни о чем не мог думать.
Стражники в дальнем конце зала пробудились от нашего крика и, прибежав в ужасе, стащили преступника с помоста. Он тупо пялился вокруг, явно не понимая, из-за чего поднялся такой шум. Сопровождаемый друзьями, к нам вышел Александр, в недоумении спросивший: что здесь происходит?
Один из стражников поведал ему и показал на дурачка. То был простой воин, уксианин, насколько я помню. У нас царь ничего не спрашивал – полагаю, наш вопль был достаточно красноречив.
Подойдя к преступнику, царь вопросил:
– Зачем ты сделал это?
Тот стоял, моргая, без тени уважения, будто бы перед простолюдином. Александр сказал:
– Если кто-то послал его, я должен знать, кто это был. Не допрашивать без меня.
Обратившись к нам, он молвил:
– Тише. Вполне достаточно крику. Прием продолжается.
Он закончил назначать военачальников – безовсякой спешки, без небрежности.
На закате он явился в свою комнату сменить одежду. Теперь, оказавшись в Вавилоне, мы возобновили весь ритуал. Я держал митру. Прочитав мольбу в моих глазах, Александр отослал остальных, едва это было пристойно. На мой еще не высказанный вопрос он ответил:
– Да, мы пытали его, но я остановил это. Бедняга ничего не знает, не помнит даже, зачем явился во дворец. Он говорит, что попросту увидел красивое кресло и решил отдохнуть в нем. Ему грозил военный суд за постоянное неповиновение; конечно, он попросту не понимал приказов. Я убежден, что он – обычный сумасшедший, и мне этого довольно.
Царь говорил холодно и спокойно. Кровь застыла в моих жилах. Я жаждал услыхать, что воин был кем-то подослан, что за ним прячется какой-то обман или заговор. Впрочем, один-единственный взгляд, которым я окинул лицо Александра, ответил на все мои вопросы. Это истинные знамения – те, что никем не подстроены.
– Аль Скандир, – позвал я, – этого человека придется умертвить.
– Уже сделано. Закон есть закон; к тому же все прорицатели говорят, это необходимо… – Александр отошел к столику с вином, наполнил чашу и дал мне выпить. – Ну, улыбнись же, ради меня. Боги сделают то, что сочтут нужным. А пока мы еще поживем…
Я проглотил вино, словно лечебное питье, и попытался улыбнуться. Из-за ужасной жары Александр носил тонкое белое одеяние из индской ткани, в складках которого тело читается столь же ясно, как в тех одеждах, что высекают скульпторы. Поставив чашу, я обнял его. Как всегда, Александр словно бы светился изнутри. Он казался мне неутолимым и неиссякающим, как само солнце.
Когда царь вышел, я оглянулся на статуэтки из золота, и бронзы, и слоновой кости, мрачно взиравшие на меня со своих подставок. «Оставь его в покое! – сказал я им. – Неужели ты не можешь остановиться? Ты умер из-за собственной оплошности, нетерпения, жадности. Неужели ты настолько не любишь его, чтобы требовать к себе? Оставь его мне, ибо я люблю его больше, чем ты». Все они посмотрели на меня и тихо ответили: «Да, но я знал его».
Из Греции прибыли новые послы, увитые венками и гирляндами, словно совершали паломничество к обиталищу бога. Вновь они короновали Александра; золотая оливковая ветвь, золотые усики ячменя, золотой лавр, золотые полевые цветы… Я и сейчас еще вижу его в каждой из этих корон.
Несколько дней спустя кто-то из друзей Александра напомнил ему, что после всех этих триумфов царь так и не отпраздновал победу над коссаянцами (победа эта была столь полной, что Александр принял несколько тысяч бывших разбойников в собственное войско). Друзья заявили, что царь давненько не устраивал шествий с музыкой и танцами, а пир в честь Геракла уже не за горами.
Они не хотели причинить зло. Худшие из друзей искали благосклонности; лучшие в доброте своей стремились подарить царю спокойный, радостный праздник, напомнить ему о славе и помочь забыть о печалях. Боги могут сотворить что им угодно из всех наших желаний и побуждений.
Александр объявил о пире, принес жертвы Гераклу и каждому воину своей армии выставил по чаше вина. Шествие началось на закате.
Стояла знойная вавилонская ночь. С едой было покончено довольно быстро. Я приготовил, с несколькими друзьями Александра, небольшой сюрприз: танец македонцев и персов, по четверо с каждой стороны: поначалу вроде как война, потом – дружба. Мы были наги, если не считать шлемов и юбок либо штанов. Александру танец пришелся по душе, и он пригласил меня сесть рядышком и разделить с ним вино в золотой чаше.
Лицо Александра пылало; ничего удивительного, в ночной духоте и после нескольких чаш вина, но блеск в его глазах мне чем-то не понравился. Не так давно я протирал его губкой, чтобы смыть пот, но ночь, разумеется, была теплой. Когда царь обнял меня, его тело показалось мне горячее воздуха.
– Аль Скандир, – прошептал я, стараясь, чтобы меня не услышали, – у тебя, по-моему, жар.
– Ерунда. Здесь просто слишком душно. К тому же я собираюсь уйти сразу после песнопения с факелами.
Вскоре, подхватив горящие факелы, они с песнями вышли в сад, чтобы освежиться первыми дуновениями ночной прохлады. Выскользнув из толпы, я направился в опочивальню, чтобы проследить за приготовлениями ко сну. Когда песня понемногу стала стихать, я вздохнул с облегчением. Вошел Александр. Останься я наедине с ним, я сказал бы: «В постель, и не возражай мне», но перед царским двором всегда старался придерживаться формальностей. Поэтому я просто шагнул вперед, чтобы принять венец. Одеяние оказалось влажным от пота, и я видел, как Александра знобило.
– Просто разотри меня и сыщи что-нибудь потеплее.
– Господин мой, – проговорил я, – ты ведь не собираешься куда-то идти посреди ночи?
– Да, Медий пригласил нескольких старых друзей выпить и поговорить. Я тоже обещал заглянуть…
Мой взгляд истекал немой мольбою, но Александр улыбнулся в ответ и покачал головой. Он был великим царем, решения которого нельзя оспаривать перед двором. Эти законы – в нашей крови; никто из нас не в состоянии преступить их, не проявив непозволительной дерзости… Протирая царя губкой, я поглядывал на расставленные вокруг изображения Гефестио-на, думая: почему ты сейчас не здесь? Только ты мог бы сказать ему: «Не дурачься, Александр. Ты отправишься в кровать, даже если мне придется затолкать тебя туда. Багоас, беги к Медию, скажи ему, что царь не может прийти…»
Но статуи молча стояли в героических позах; Александр облачился в греческое одеяние из мягкой шерсти и вышел, сопровождаемый факельщиками, в коридор с львиным фризом.
Прочим я сказал:
– Все вы можете уйти. Я подожду царя и позову, если ваше присутствие будет необходимо.
В комнате стоял диван, на котором я обычно спал, если Александр возвращался поздно; его шаги всегда пробуждали меня. Сегодня, впрочем, я долго не мог сомкнуть глаз и видел, как луна вскарабкалась на небо. Когда Александр вернулся, петухи уже кричали, приветствуя утро.
Царь показался мне уставшим, раскрасневшимся, да к тому же и шел нетвердо. Он пил вино от заката и до рассвета, но сейчас был в хорошем настроении и вновь похвалил мой вчерашний танец.
– Аль Скандир, я гневаюсь на тебя: ты ведь знаешь, при лихорадке нельзя пить.
– О, все уже прошло. Я говорил тебе, ничего страшного. Сейчас лягу и высплюсь… Пошли окунемся – ты всю ночь провел здесь в своих одеждах.
Первые лучи солнца сияли сквозь резные ширмы, пели птицы. Бассейн освежил меня, но не снял сонливость; уложив Александра в постель, я отправился к себе и проспал до самого вечера.
Тихо войдя в опочивальню, я видел, что Александр уже проснулся, но не спешит встать, ворочаясь. Я подошел ближе и коснулся его лба.
– Аль Скандир, твоя лихорадка вернулась.
– Ерунда, – твердо отвечал он мне. – У тебя холодные руки, не убирай их.
– Я прикажу принести ужин. Речная рыба сегодня особенно хороша. И как насчет лекаря?
Лицо Александра окаменело, и он отвернул голову, сбрасывая мою руку.
– Никаких лекарей. На них я уже насмотрелся. Нет, я сейчас встану. Медий приглашал меня на ужин.
Я спорил, умолял, но царь проснулся раздраженным и нетерпеливым.
– Говорю тебе, ерунда. Болотная лихорадка, она отпустит меня в три дня.
– Не суди по вавилонянам, они привыкли к своему климату. Жар – это всегда скверно. Почему ты не можешь позаботиться о себе? Мы ведь не на войне.
– Если ты не прекратишь нянчиться со мною, я устрою войну. Мне бывало и хуже, когда я целыми днями носился по горам. Пойди скажи, что мне нужно одеться.
Я хотел бы, чтоб Александр ужинал с кем угодно, но не с Медием, которого ничуть не заботило чужое здоровье. Медий с азартом поддерживал Гефестиона в ссоре с Эвменом и лишь усугублял ее, как я слышал, ибо имел на редкость острый язык, и некоторые из его насмешливых изречений передаются сейчас от имени самого Гефестиона. Нет сомнений, скорбь Медия была искренней, но он отнюдь не медлил, желая использовать выгоду, которую принесла ему смерть друга. Язык Медия умел изливать как уксус, так и мед, и он всегда смешил Александра, любившего остроумные беседы. Не плохой человек, но и не особенно хороший.
Когда Александр вернулся с пирушки, я уже клевал носом. Судя по небу, было недалеко за полночь, и я обрадовался, что царь вернулся ко мне так рано.
– Я оставил их заканчивать ужин и ушел, – заявил он. – Жар немного поднялся. Освежусь в бассейне – и спать.
Когда я помогал ему разоблачиться, то не мог не заметить, что дыхание Александра было неровным, словно бы он долго бежал.
– Давай я лучше просто протру тебя губкой, – предложил я. – По-моему, сейчас тебе не стоит купаться.
– Окунусь, и мне сразу полегчает.
Александр не хотел слышать уговоров и отправился в бассейн в купальном халате. Впрочем, он не задержался в воде надолго. Я вытер его и едва успел накинуть халат ему на плечи, когда Александр заявил мне:
– Пожалуй, я посплю прямо тут, – и двинулся к скамье у кромки воды.
Забежав вперед, я заслонил ее собою. Тело Александра сотрясалось в жестоком ознобе, его зубы щелкали.
– Найди мне теплую простыню, – сказал он.
В Вавилоне, посреди лета, в полночь! Я сбегал в царские комнаты и вернулся с зимним плащом.
– Это сойдет, пока не кончится приступ. Я согрею тебя.
Я накрыл Александра плащом, набросил сверху собственную одежду, после чего залез внутрь и сжал его в объятиях. Александр содрогался от холода – прежде я не видел, чтобы человека так колотила дрожь, хотя кожа оставалась горячей. «Ближе», – просил он, словно бы мы, нагие, согревали друг друга посреди метели. Прижавшись к нему, я слушал внутренний голос, но пророк, сказавший в Экбатане: «Сохрани это в сердце своем», сейчас молчал. Он не добавил: «Никогда больше».
Озноб прекратился, разгоряченный Александр стал потеть, и я оставил его. Он сказал, что заснет здесь, где воздух посвежее, – я же оделся и разбудил хранителя опочивальни, чтобы тот послал в бассейн все необходимое для Александра и какой-нибудь тюфяк – для меня. Перед рассветом лихорадка отступила, и я сомкнул глаза.
Проснулся я под звук его голоса. Бассейн был наполнен людьми, на цыпочках обходившими мою постель. Александр только что поднялся и приказывал позвать сюда Неарха. «Зачем ему Неарх?» – недоумевал я, совсем позабыв за прочими заботами, что уже подходило время путешествия в Аравию. Александр просто-напросто думал о делах на нынешнее утро.
Он ушел в опочивальню, чтобы одеться; потом лег на диван, ибо лишь с трудом мог держаться на ногах. Когда явился Неарх, Александр осведомился: все ли готово к принесению жертвы для безопасного плавания? Встревоженный состоянием Александра, Неарх отвечал ему: да, все готово, и спросил, кому царь поручит принести жертву вместо себя?
– Что? – переспросил Александр. – Я все сделаю сам, разумеется. Я отправлюсь в порт в паланкине, потому что не очень хорошо себя чувствую; кажется, сегодня – последний приступ.
Протесты Неарха он решительно отклонил:
– Милость богов позволила тебе благополучно вернуться из опасного плавания по океану. Я принес тогда жертвы ради тебя – и был услышан. Сейчас я сделаю то же самое. Это необходимо.
Его снесли к воде, под навес, хранящий от убийственного солнца Вавилона, и Александр сам совершил возлияния богам, встав и пройдя несколько шагов. Вернувшись, он едва коснулся заказанного мною легкого обеда, но тут же призвал Неарха, всех военачальников и делавшего заметки писца. Четыре полных часа он обсуждал с ними маршрут, склады и корабли.
Дни шли. Лихорадка не оставляла Александра. Царь намеревался, когда корабли двинутся в путь, возглавить небольшую армию, которая следовала бы берегом, разведывая подходящие места для портов и пристаней; поэтому ему пришлось отложить плавание. Каждое утро Александр встречал меня радостной вестью: сегодня ему лучше. Каждый день его приносили к дворцовому алтарю, где он совершал утренние молитвы; с каждым разом он был все слабее; каждый вечер его терзал нестерпимый жар.
Опочивальня теперь была полна народу, приходившего и уходившего. По дворцу бродили ожидавшие приказов полководцы. Хотя крепкие стены хранили от жалящих лучей, Александр мечтал о траве, о древесной сени и приказывал переправить его через реку, в царские сады. Там он лежал в тени, прикрыв глаза, рядом с фонтаном, плескавшимся в порфировой чаше. Иногда он посылал за Неархом и Пердик-кой, чтобы говорить с ними о будущем походе; иногда – за Медием, чтобы послушать сплетни и остроты, поиграть в кости. Медий гордился своим положением и неизменно утомлял Александра, задерживаясь слишком долго.
Другие дни Александр проводил за резными ширмами бассейна. Его постель ставили у самой воды; царю нравилось охлаждать свой жар в купании, вытираться досуха, сидя на выложенной голубыми плитками кромке, и возвращаться на чистые простыни ложа. Он далее спал здесь, в прохладе, слушая сквозь тонкие стены журчание реки, плескавшейся в окаймлении берегов.
Я не оставлял его на попечение Медия, или полководцев, или кого-либо еще. Я с легкостью сбросил с себя дворцовые обязанности; старик, которого я недавно сменил, с радостью принял их на себя. Свое парадное платье я променял на простую льняную одежду, подходящую для слуги. Как глава евнухов опочивальни я должен был бы отлучаться от Александра по ежедневным делам, требовавшим моего присутствия. Теперь же всякий, кто приходил, видел рядом с царем всего лишь персидского мальчика с опахалом или с чашей, приносящего свежие простыни, когда Александра охватывал озноб, протиравшего царя губкой и менявшего ему одежды или просто сидящего невдалеке, на небольшой подушке у стены. Я был в безопасности: никто не завидовал моему положению теперь; один лишь человек на свете мог бы отнять его у меня, но этот человек давно был белым прахом на небесном ветру…
Отослав великих государственных мужей, царь оборачивался ко мне, встречая понимающий взгляд. Я держал под рукою одного-двух рабов, которые могли что-то принести-унести, но все нужды Александра оставил своим заботам. Поэтому люди попросту не замечали меня, как не замечали подушек или кувшина с водой. По старому обычаю, во дворец присылали свежую родниковую воду, которая всегда была излюбленным напитком персидских царей. Она освежала Александра, и я смотрел за тем, чтобы на столике у постели, в земляном охлаждении, всегда стоял полный кувшин.
Ночью я раскладывал свой тюфячок как можно ближе к царскому ложу. До воды он мог достать сам; если требовалось что-то еще, я всегда знал о том заранее. Порою, если лихорадка не давала ему уснуть, Александр говорил со мной, вспоминая тяготы старых походов и былые раны, чтобы доказать: скоро, очень скоро он одержит верх над болезнью. Он никогда не вспоминал о скверных, суливших смерть знамениях, как никогда не говорил о сдаче посреди продолжающейся битвы. Болея уже с неделю, он все еще убеждал меня, что не более чем через три дня пустится в новый поход.
– Сперва я могу отправиться и в паланкине; выйдем, как только спадет мой жар. Эта лихорадка – ерунда по сравнению с тем, что я переносил прежде.
Друзья уже перестали просить Александра впустить лекаря.
– Мне не нужно дважды заучивать один и тот же урок. Багоас помогает мне не хуже любого врачевателя.
– Я бы с удовольствием помог, если б ты только позволил, – говорил я, когда все эти люди выходили. – Лекарь заставил бы тебя отдохнуть. Но ты думаешь: «Лекарь? Нет, это всего лишь Багоас» – и поступаешь как хочешь.
В тот день Александр вновь отправился в паланкине совершать жертвоприношение ради благополучия армии. Ему впервые пришлось служить богам, не вставая с ложа.
– Воздать почести богам необходимо. Ты должен хвалить меня за послушание и покорность, мой милый тиран. Мне хотелось бы выпить немного вина, но я даже не прошу о нем.
– Пока рано. Здесь, на твоем столе, лучшая вода во всей Азии. – Когда царя навещал Медий, я не отходил ни на шаг из страха, что этот дурак принесет ему вино.
– Да, вода чудесная. – Александр осушил чашу; он всего лишь поддразнивал меня.
Когда его охватывало игривое настроение, я уже знал: у него жар. Но этим вечером лихорадка трясла его меньше обычного. Я возобновил свои мысленные клятвы, обещая отдать богам все, что у меня есть, в обмен на его выздоровление. Когда Александр выступил против скифов, знамения были скверными, но принесли лишь тяжкую болезнь. Я спал, вновь охваченный надеждой.
Разбудил меня голос Александра. Было все еще темно – часы ночной стражи.
– Почему ты не растолкал меня? Мы потратили половину ночи. Что ты наделал! Раньше полудня мы не дойдем до воды. Почему никто не разбудил меня?
– Аль Скандир, – взмолился я, – это был сон. Мы вовсе не в пустыне.
– Выставь охрану у лошадей. Про мулов забудь. С Буцефалом все в порядке?
Глаза Александра смотрели прямо сквозь меня. Я обмакнул губку в теплую воду реки и протер ему лицо.
– Посмотри, это я, Багоас. Так лучше? Царь оттолкнул мою руку со словами:
– Вода? Ты с ума сошел? Воинам нечего пить! Он бредил в жару в то время, когда обычно ему становилось легче. Я потянулся к чаше на краю стола.
Она была полна лишь наполовину, и даже в темноте я увидел, что жидкость не прозрачна. Вино. Кто-то был здесь, пока я спал.
Едва владея своим голосом, я тихо спросил:
– Аль Скандир! Кто принес вино?
– У Менедаса есть вода? Ему надо дать первому, у него лихорадка.
– У нас у всех есть вода, правда-правда. – Я выплеснул чашу и, ополоснув ее, налил туда воды из большого кувшина.
Александр жадно выпил ее.
– Скажи, кто дал тебе вина?
– Иоллий.
Что могло это значить? Так звали царского виночерпия. В бреду Александр мог только это и подразумевать. Но с другой стороны, Иоллий приходился братом Кассандру.
Я отошел, чтобы спросить у ночного стража-раба, и нашел того спящим. Я никого из них не просил служить и днем, и ночью, как делал это сам. Потому я оставил его там, где он был: предупрежденный заранее, он мог избегнуть кары.
Александр неспокойно дремал, ворочаясь до самого утра. Лихорадка не отпустила его, как было всегда в это время. Когда царя отнесли к алтарю и вложили ему в руку чашу для возлияния, она так тряслась, что половина пролилась прежде, чем он сумел опрокинуть ее над алтарем. Эта перемена произошла после того, как Александр глотнул вина. Клянусь, он уже поправлялся, когда это произошло.
Уснувший раб ничем не смог ответить на мои гневные вопросы; должно быть, он проспал всю ночь.
Царский двор последовал моему приказу, и раб получил порку освинцованной плетью. Стражники, стоявшие той ночью на часах, тоже ничего не знали; допрашивать их было не в моей власти. Охранять бассейн куда сложнее, чем опочивальню: кто-то мог забраться сюда со стороны реки.
Тот день был мучительно жарким. Александр попросил отнести его к фонтану в саду, в тень дерев. Только там можно было поймать хотя бы слабое дуновение ветерка. Я заранее набил летний домик всем, что могло ему понадобиться. Укладывая царя на ложе, я расслышал новый хрип в его дыхании.
– Багоас, ты не поможешь мне чуть-чуть приподняться? Что-то свербит меня здесь, – Александр прижал руку к боку.
Он был обнажен, если не считать тонкого покрывала. Ладонь его закрыла рану от маллийской стрелы, и, кажется, именно тогда я понял все.
Найдя несколько подушек, я уложил Александра повыше. Отчаяние было бы предательством, пока он продолжал сражаться. Он не должен заметить его в моем голосе, в нежности моих рук…
– Не стоило мне пить вина. Сам виноват, это я попросил тебя. – Он задыхался даже после нескольких слов и вновь зажал рану.
– Я не давал тебе вина, Аль Скандир. Ты не помнишь, кто сделал это?
– Нет. Нет, оно просто стояло в чаше. Я проснулся и выпил.
– Может, Иоллий принес?
– Не знаю, – Александр прикрыл глаза.
Оставив его отдыхать, я уселся неподалеку, прямо на траву. Но царь отдыхал для того лишь, чтобы говорить снова. Отдышавшись, он послал за главой телохранителей. Я сходил и жестом пригласил его. Александр сказал ему:
– Общий сбор. Всем военачальникам собраться… во внутреннем дворике… ждать приказов.
Тогда я понял, что и он сам тоже начал догадываться.
«Он не станет устраивать прощание, – думал я, качая опахалом, чтобы охладить Александра и отогнать от его ложа докучливых мух. – Он не сдастся. И я тоже не должен сдаваться».
С переправы пришли друзья, явившиеся осведомиться о здоровье царя. Я встретил их, чтобы предупредить: ему сложно говорить. Когда они приблизились, Александр прошептал:
– Пожалуй… я бы… вернулся.
Позвали носильщиков. На пароме люди обступили паланкин, но Александр, обведя их взглядом, позвал:
– Багоас!
Кому-то пришлось уступить мне место.
Царя сразу же отнесли в опочивальню, где крылатые позолоченные демоны охраняли огромное ложе. Давным-давно, в иной жизни, я готовил его для другого царя.
Мы подняли Александра на высокие подушки, но резкие хрипы в его дыхании не желали смолкать. Если царю бывало что-нибудь нужно, он говорил со мною, не напрягая голоса, как привык делать это, пока рана была свежей. Он знал, я пойму.
Несколько часов спустя в опочивальню вошел Пер-дикка: он хотел напомнить, что военачальники все еще дожидаются приказов, собравшись во внутреннем дворе. Александр сделал знак ввести их, и они набились в опочивальню. Царь махнул рукой, приветствуя друзей. Он набрал воздуху, чтобы сказать что-то, но вместо этого закашлялся кровью. Последовал знак удалиться; все поспешили выйти, но только когда последний из военачальников покинул опочивальню, Александр прижал ладонь к старой ране.
После всего этого полководцы привели лекарей, уже не спрашивая позволения. Явились трое. Каким бы он ни был слабым, все они дрожали от страха, вспоминая участь Главкия, но Александр молча страдал под напором их пальцев, сжимавших запястье, пока один из лекарей слушал дыхание, приникнув ухом к царской груди. Царь внимательно наблюдал за тем, как они переглядывались. Когда ему принесли питье, он выпил его до дна и немного поспал. Один из лекарей остался в опочивальне, и я тоже смог отдохнуть, не более часа-двух, зная, что понадоблюсь ему ночью.
Ночь принесла новый приступ лихорадки. Никто уже не хотел оставлять Александра на одно лишь мое попечение; трое Соратников сидели рядом, храня его покой. Один из лекарей присел у изголовья, но Александр поднял руку и держал меня за плечо, так что лекарь вскоре вышел.
То была долгая ночь. Соратники дремали в креслах. Царь кашлял кровью, после чего уснул ненадолго. Где-то около полуночи его губы зашевелились. Я склонился послушать. Он сказал:
– Не прогоняй его.
Я оглянулся, но никого не увидел.
– Змей, – шепнул Александр, указывая в темный угол. – Не причиняйте ему вреда. Он послан мне.
– Никто не тронет его, – успокоил я, – под страхом смерти.
Александр опять уснул. Я поцеловал его в лоб и не стал ничего говорить. Царь улыбнулся во сне и затих.
Утром он узнал меня и понял, где находится. Военачальники вновь вошли и встали, окружив ложе. Хриплое дыхание Александра разносилось по всей комнате, пока он переводил взгляд с одного лица на другое. Он прекрасно понимал, что это может значить.
Выступив вперед, Пердикка склонился над ним: – Александр, мы все молим богов сохранить тебя на долгие годы. Но если божеская воля в ином, кому ты оставишь свое царство?
Александр осторожно покашлял, собираясь сказать что-то вслух. Он начал – я твердо в это верю – произносить имя Кратера, но горло сдавило, и конец имени слился с новым приступом кашля. Пердикка выпрямился и пробормотал другим: – Он говорит – сильнейшему.
Кратерос, кратистас. Звучание слов похоже; более того, имя Кратера как раз и означало «Сильнейший». Этот человек, ни разу не подорвавший доверие Александра, направлялся сейчас в Македонию. По моему собственному убеждению, царь хотел сделать его регентом еще не родившегося ребенка или даже царем, если родилась бы девочка. Но Кратер был далеко отсюда, и никого здесь не волновала его дальнейшая судьба.
Я и сам мало задумывался о ней тогда. Что такое Македония? Какое мне дело, кто там правит? Я взглянул на своего господина: не обеспокоило ли его, что Пердикка неверно истолковал его волю? Но Александр просто не слышал. Пока он лежал здесь в мире, мне все было едино. Если бы я оспорил мнение Пер-дикки, меня могли увести от царского ложа. И я прикусил язык.
Отдышавшись, Александр вновь поманил к себе Пердикку и затем, стащив с пальца перстень с резной царской печатью, изображавшей Зевса на троне, протянул другу. Он избрал заместителя на то время, пока сам слишком слаб, чтобы править. Это не значило ничего более.
Сидя у кровати, я молчал, как подобает персидскому мальчику, и видел, как военачальники переглядывались, уже примеряя на себя власть и прикидывая, какое направление примет политика, бросая косые взгляды на перстень.
Он видел. Глаза его были устремлены куда-то мимо пришедших, но зрачки двигались; я знаю, он все видел. Решив, что виденного достаточно, я заслонил собою остальных, склонившись над Александром с губкой. Он глядел на меня с тонкой улыбкой, словно мы только что разделили меж собою какой-то секрет. Я возложил свою ладонь на его руку; на пальце Александра остался светлый ободок – там, где перстень с печатью хранил кожу от солнца.
В спальне было бы тихо, если б не тяжкие хрипы его дыхания. В наступившем безмолвии я услыхал идущий снаружи глубокий вздох, многоголосый шепот, движение огромной толпы… Птолемей вышел взглянуть. Когда прошло несколько минут, а он еще не вернулся, Певкест последовал за мим. Потом вышли все прочие, но вскоре появились снова. Пердикка позвал:
– Александр. Снаружи стоят македонцы, все воины до последнего. Они… Они пришли увидеть тебя. Я сказал, что это сейчас невозможно, ты слишком болен, но они не уходят. Как ты думаешь, если я впущу сюда двух-трех человек, не больше, только для того, чтобы они рассказали остальным, сможешь ли ты вынести это?
Глаза Александра широко распахнулись. Он закашлялся вновь. Пока я держал у его рта полотенце, он сделал рукою жест, означавший: «Подожди, я сейчас». Откашлявшись, царь сказал: – Всех. Каждого.
На чьем бы пальце ни находился сейчас перстень, царь был по-прежнему тут. Пердикка вышел.
Александр посмотрел на меня. Я передвинул подушки, чтобы поднять его повыше. Кто-то открыл заднюю дверцу, чтобы люди выходили, минуя царское ложе. Бормочущие голоса приблизились. Певкест поглядел на меня с теплой улыбкой и чуть наклонил голову. Он всегда был вежлив со мною, поэтому я внял ему. Сказав Александру: «Скоро вернусь», я вышел через заднюю дверь.
Они пришли проститься – как воины с полководцем, как македонцы со своим царем. Теперь, в эту последнюю минуту, они имели право не видеть персидского мальчика, сидящего ближе к Александру, чем любой из них.
Спрятавшись в алькове, я наблюдал, как они проходят мимо, один за другим – поток, который, казалось, никогда не кончится… Они плакали, или говорили что-то глухим шепотом, или же просто глазели в недоверии, словно бы узнав, что завтра солнце уже не поднимется на востоке.
Они шли и шли. Время бежало, и день клонился к полудню. Я слышал, как один из воинов шепнул другому, выходя:
– Он приветствовал меня глазами. Говорю тебе, он узнал меня.
Другой сказал:
– Он сразу вспомнил меня и даже пытался улыбнуться.
Совсем молодой воин с горечью пролепетал:
– Он взглянул – и мне показалось, что мир рушится.
Пожилой отвечал ему:
– Нет, парень, мир не рухнет. Но одни лишь боги ведают, где мы проснемся завтра.
Наконец все они вышли, и я вернулся. Александр находился в том же положении, как я и оставил его – все это время он лежал на подушках, подняв лицо, и ни один воин не прошел мимо без его приветственного взгляда. Теперь он казался мертвым, если б не тяжелое дыхание. Я подумал: «Они выпили последние силы, остатки его жизни, и ничего не оставили мне. Да пожрут их собаки!»
Приподняв его голову, я поправил подушки, чтобы Александру легче дышалось. Он вновь открыл глаза и улыбнулся. Чего бы это ему ни стоило, царь не стал бы просить у своего бога-хранителя ничего иного, кроме возможности проститься со своими соратниками. Как мог я негодовать? И я изгнал гнев.
Полководцы стояли в стороне, пока воины шли мимо. Птолемей вытирал глаза. Пердикка, помедлив, вновь шагнул к кровати:
– Александр. Когда боги примут тебя в свой круг, в какие дни нам следует приносить тебе жертвы?
Не думаю, что полководец ждал какого-то ответа; просто хотел – если все еще мог быть услышан – сделать царю подарок, которого тот заслуживал. Александр слышал и вернулся к нам, словно всплыв с большой глубины. Улыбка все еще не покинула его уст, когда он шепнул: – Во дни счастья. Затем он прикрыл глаза и вернулся туда, где был прежде.
Весь тот день он не поднимал головы с высоких подушек, лежа меж позолоченных демонов с распростертыми крыльями. Весь день к его постели приходили великие мужи империи, а вечером привели отягощенную ребенком Роксану. Она кинулась на кровать, бия себя в грудь и терзая волосы, завывая так, словно бы царь уже умер. Я видел, как дрожали веки Александра. С Роксаной я заговорить не решился, ибо видел полный ненависти взгляд, который она метнула в меня у входа; тогда я шепнул Пердикке:
– Он может услышать. – И евнухи вывели ее из опочивальни.
Порой мне удавалось разбудить Александра и дать ему глоток воды; порой он, казалось, засыпал, чтобы более не проснуться, и мои попытки оставались тщетны. Но я все же чувствовал его присутствие и думаю, он чувствовал мое. Про себя я снова и снова повторял: «Нет, я не стану просить небеса о каком-либо знаке; пусть моя любовь не беспокоит царя, но, если богу угодно, пусть он знает о ней; ибо любовь для него – жизнь, и он никогда не отталкивал ее».
Пала ночь, и слуги зажгли светильники. Птолемей стоял у кровати и смотрел вниз, вспоминая Александра, мне думается, ребенком в Македонии. Пришел Пев-кест; он сказал, что с несколькими друзьями собирается держать бдение в его честь во храме Сераписа. Александр привез культ этого бога с собою, возвратившись из Египта; это один из ликов возродившегося Осириса. Певкест хотел спросить оракула, не исцелит ли Александра бог, если царя принесут в святилище.
Человеку свойственно надеяться даже в самую последнюю минуту. Когда колышущийся свет двигался по неподвижному лицу Александра, дразня меня тенями жизни, я ждал какого-то обещания от бога. Но если не разум, то тело мое все понимало, все знало, со всем смирилось. Смерть Александра отяготила меня, и я не мог поднять руку – слишком та была тяжела, словно вылепленная из сырой глины.
Ночь прошла в напряжении. Я давно не спал и порою пробуждался от дремоты, касаясь головой подушки Александра. Всякий раз я смотрел на него, пытаясь понять, жив ли он. Но царь продолжал спать, вдыхая воздух быстрыми неглубокими глотками, прерываемыми тяжкими вздохами. Светильники побледнели, когда рассветное небо показало нам очертания высоких окон. Дыхание Александра вдруг изменилось, и что-то шепнуло мне: «Он здесь, рядом с тобой».
Я придвинулся ближе и, сказав: «Я люблю тебя, Александр», поцеловал его. Мне все равно, думал я, чей голос он услышит. Пусть будет так, как он того хочет.
Волосы мои опустились ему на грудь. Александр открыл глаза; его рука шевельнулась, и коснулась пряди, и пробежалась по ней пальцами.
Он узнал меня. Я клянусь перед ликами богов. Это со мною он простился, уходя.
Остальные, видя его движение, поднялись на ноги, – но он уже ушел, переступив порог в конце своего пути.
Певкест тихо вошел в двери; Птолемей и Пердик-ка отошли встретить его. Он сказал им:
– Всю ночь мы провели в святилище и наутро пошли к оракулу. Бог говорит, ему лучше остаться здесь.
Когда дыхание Александра замерло, евнухи принялись завывать, оплакивая господина. Наверное, я тоже плакал. Наши крики разнеслись далеко за пределы дворца, пронеслись по городским улицам… Не было нужды объявлять о смерти царя. Когда мы убрали из-под него высокие подушки и положили прямо, стоявшие на страже телохранители вошли, и в отчаянии стояли вокруг, и вышли в слезах.
Александр умер с закрытыми глазами и ртом, в мире, словно бы спал. Волосы его остались взъерошенными после метаний в жару, и я причесал их, осторожно распутывая узелки, как если бы он по-прежнему был с нами. Потом я поднял голову, ожидая увидеть толпу великих мужей, заполнившую опочивальню, ибо кому-то следовало отдать приказ о похоронах и о том, как надлежит поступить с телом. Но все эти люди уже вышли. Мир разбился, и осколки лежали горсткой золота, которая достанется сильнейшему. Все они поспешили собрать их.
Какое-то время спустя дворцовые евнухи стали беспокоиться, не понимая, кто теперь царь. Один за другим, они выходили, чтобы узнать новости… Поначалу я даже не замечал, что остался наедине с Александром.
Я остался, ибо не мог подумать о каком-то другом месте, где мне следовало бы быть. Кто-нибудь придет, думалось мне. Он мой, пока его не заберут от меня. Я убрал покрывало и взирал на раны Александра, которые знал по прикосновениям в темноте, и накрыл его снова. Потом я сел на пол у кровати и опустил на край голову… Кажется, я уснул.
Помню косые лучи заката. Никто не явился. Воздух в опочивальне был тяжел от жары, и я подумал: «Они скоро должны прийти, ибо его тело не вынесет промедления». Но ни дуновения порчи не исходило с царского ложа; казалось, Александр всего лишь спит.
Жизнь всегда была сильнее в нем, чем в любом другом человеке. Я напрасно потревожил его, пытаясь послушать сердце; дыхание не замутило зеркальца, но где-то глубоко внутри его душа могла медлить, готовясь к разлуке, но еще не уйдя прочь. Я говорил с нею, зная, что уши Александра не услышат меня, но что-то, возможно, услышит.
– Уходи к богам, непобедимый Александр. Пусть Река Испытаний будет ласкова к тебе, как молоко, и омоет тебя светом, а не огнем. Пусть мертвые простят тебя; ты даровал людям больше жизней, чем причинил смертей. Бог сотворил быка, чтобы тот питался травою, льва же – нет; и один только бог может рассудить их. Любовь никогда не оставляла тебя; найди же ее и там, куда уходишь.
И тогда я вспомнил Каланоса, распевавшего гимны на ложе, увитом цветами. Я подумал: «Он сдержал свое слово. Он принес в жертву бессмертие, чтобы родиться вновь. В мире прошел он сквозь огонь, и теперь он здесь, чтобы провести Александра через Реку». Сердце мое вздохнуло с облегчением, зная, что Александр не остался один.
В застывшей вокруг меня тишине шум многих голосов, возникший где-то во дворце и быстро приближавшийся, показался мне внезапным раскатом грома. В окружении нескольких воинов и царских стражей в опочивальню вбежали Птолемей и Пердикка. Кто-то крикнул: «Закройте двери!» – и их захлопнули с треском. Снаружи кто-то ломился внутрь, раздались крики… Пердикка и Птолемей призвали своих людей защитить тело царя от предателей и притворщиков. Меня едва не смяли обступившие ложе воины. Начиналась война за осколки мира; эти люди собирались сражаться за владение телом Александра, словно бы он стал теперь вещью, символом, вроде митры или трона. Я обернулся к нему, и, увидев, что он по-прежнему лежит в спокойствии, тихо снося все это и не противясь, – вот тогда я наконец понял, что Александр и вправду умер.
Завязался бой и полетели дротики. Я встал, чтобы закрыть Александра собою, и одно из копий задело мне плечо. Сей шрам остается на мне и поныне: единственная рана, которую я когда-либо получил во имя моего господина.
Вскоре они о чем-то договорились и вышли вместе, дабы продолжить свой спор снаружи. Обмотав руку полотенцем, я ждал, ибо нельзя было оставлять тело без всякого ухода. Я возжег ночной светильник, поставил у изголовья и оставался рядом с возлюбленным, пока утром не пришли бальзамировщики и не забрали его у меня, дабы сохранить навечно.
Назад: 27
На главную: Предисловие