Глава тридцать пятая
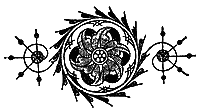
Я ненавижу шестидесятые, особенно шум, сумасшествие и грубость тех сумбурных лет. Чаще всего мне вспоминается непрерывный ор, потом — позерство и, наконец, несоблюдение правил элементарной гигиены. Это единственное десятилетие, которое, когда вышло его время, даже ради приличия не сообщило, что увольняется. И худшим из всех прожитых лет стал 1970-й.
С тех пор я возненавидел фольклорную музыку, и набожность, и растительность на лице, и «вареные» рубашки, и политическую риторику. Для меня ад — это застрять в аэропорту во время метели и слушать, как стареющая хиппи бряцает на своей пошарпанной акустической гитаре, исполняя «Blowinʼ in the Wind», «Puff the Magic Dragon», «I Gave My Love a Cherry», «Lemon Tree» и «We Shall Overcome», причем именно в таком вот порядке. Когда-то я был наивным пленником тех времен, и ничто не могло отвлечь меня от глупой болтовни, перед которой я не смог устоять в мрачную эпоху вьетнамской войны. Самой большой трагедией той войны была даже не бессмысленная гибель молодых людей на полях сражений с незнакомыми названиями, а то, что вся страна как-то в одночасье поглупела. Война сделала врагами ближайших друзей. Стараясь следовать Zeitgeist, мы сами себя загнали в ловушку и с тех пор стали другими.
Когда дым рассеялся, я пообещал себе, что никогда не потеряю друга из-за чего-то столь субъективного и скользкого, как политические убеждения. «Я американец, — объявил я всем, кто меня окружал. — И имею право думать, как захочу, и вы тоже, ради бога, можете думать, как вам будет угодно». Это стало моим кредо, моей жизненной философией, и если бы не нетерпимость и тупое упрямство, которые я тогда демонстрировал с упорством, достойным лучшего применения, то я вступил бы в период зрелости таким же равнодушным к мировым идеям, как и любой другой южанин. Вьетнамский вопрос сформировал мой характер, и мне дорогого стоило признать это.
В четверг, после приема у Люси, я ехал по шоссе номер 17 в Чарлстон, а Ледар сидела рядом. Мы открыли окна. Пахло сжатой пшеницей, ветер развевал рыжеватые волосы моей подруги. Майк прислал приглашения нам обоим, настойчиво попросив приехать в театр на Док-стрит в Чарлстоне ровно к двум часам дня. И хотя ответа на письмо не требовалось, Майк сформулировал свое приглашение так, что отказаться было невозможно.
— Интересно, что еще затеял Майк? — спросил я.
— Уж точно ничего хорошего, — отозвалась Ледар.
— Но ты ведь должна знать.
— У него для нас какой-то сюрприз, — ответила она, бросив на меня насмешливый взгляд. — Но он все держит в секрете.
— Почему?
— Боится, что мы не рискнем показаться там, если узнаем, что к чему.
Ни один театр Америки не может сравниться с этим, на Док-стрит, так как в нем есть и своя интимность, и скрытое величие. Сцена этого театра размером с маленькую танцплощадку. Кажется, что здание затаило дыхание, а его безмятежность несет успокоение как актерам, так и публике. Он выглядит так же скромно, как церковь шейкеров, и когда туда попадаешь, хочется поскорее бежать домой и написать пьесу. Когда мы вошли, я увидел Майка, следившего за работой команды телеоператоров и звукооператора, которого, по словам Ледар, Майк заставил прилететь аж с Западного побережья. Я вспомнил, как Майк когда-то говорил, что первый свой спектакль он еще ребенком увидел именно в театре на Док-стрит, и это была пьеса Артура Миллера «Суровое испытание». Постановка произвела на него такое сильное впечатление, что это навсегда изменило его жизнь. И с тех пор ему страшно нравилось, что актеры, притворяясь кем-то другим, страстно произносят слова любви, принадлежащие совершенно незнакомым людям. Хотя увлечение Майка началось с театра, именно кино в конце концов притянуло его к себе. Майк любил говорить, что в театре можно создать ощущение напряжения и стиля, но в кино он может сотворить целый мир, причем только за счет того, что свет фиксирует форму на струящейся реке пленки. После успеха своего первого фильма Майк тут же стал членом правления театра на Док-стрит. Наш друг никогда не забывал о своих истоках.
— Чтобы через десять минут все было готово, — приказал Майк команде, работавшей точно и слаженно. — Каждый знает свою задачу. Когда мы начнем, гости должны забыть о вашем присутствии в этом здании. Comprende? Вас должно быть не видно и не слышно. Мы сюда явились не ради искусства. Мне просто нужно, чтобы все было заснято, — говорил он, пока мы с Ледар шли по проходу.
— А какой у нас здесь профсоюз? — насмешливо спросил мужчина, устанавливающий камеру.
— Никакого, недоносок несчастный, — улыбнулся Майк. — Что касается трудового законодательства, Южная Каролина — правильный штат. После форта Самтер они ненавидят все, что имеет отношению к слову «профсоюз».
— Для чего это все?! — крикнул оператор с балкона.
— Домашнее видео, — хлопнул в ладоши Майк.
Когда мы подошли, Майк еще раз хлопнул в ладоши, его команда исчезла, и больше мы ее не видели. Майк подготовился просто прекрасно.
— Вы рано, — заметил Майк. — Ранние гости меня нервируют.
— Тогда мы уйдем, — пригрозила Ледар.
— Нет. Я специально распределил время появления каждого из вас. Первыми должны были прийти Кэйперс и Бетси, но они что-то запаздывают. Идите наверх и занимайте свои места. Будете сидеть на сцене слева. Еда — пальчики оближешь, и напитков — хоть залейся.
— А наша какая роль? — поинтересовалась Ледар.
— Сегодня будем импровизировать. Пусть действие идет своим чередом, — ответил Майк. — Когда все появятся, сами поймете.
Меня привлекло какое-то движение в конце зала, и, обернувшись, я заметил неподвижный силуэт генерала Ремберта Эллиота, стоявшего навытяжку у задних рядов. К генералу присоединился седовласый человек более высокого роста, и я был крайне удивлен, увидев собственного отца, который шел по проходу в судейской мантии. Похоже, их вместе привезли из Уотерфорда. Потом я услышал, как за моей спиной пару раз кашлянула какая-то женщина. Я оглянулся и обнаружил Селестину Эллиот, вышедшую, должно быть, из кулис и смотревшую на мужа испепеляющим взглядом.
При виде жены генерал Эллиот застыл и, в свою очередь, не отрываясь смотрел на жену, пока та усаживалась с левой стороны сцены. Я знал, что они не встречались со времени той катастрофической поездки в Рим и общались только через адвокатов. Потом генерал подчеркнуто официально поклонился нам с Ледар.
— Мне страшно, Джек, — призналась Ледар, глядя, как Эллиоты направляются к своим местам.
— Что? — не понял я.
— Когда мне стукнет семьдесят, я хочу, чтобы все мои ошибки остались позади. Я хочу иметь позади тридцать лет тихой, спокойной жизни. Ты только посмотри на них! На судью, на генерала, на Селестину. Как они страдают! Я точно не перенесу, если вся отпущенная мне жизнь будет так же мучительна, как и прошлая.
— Нечего заниматься самокопанием, — ответил я. — Плыви себе по течению и будь счастлива.
— Это не ответ, — нахмурилась Ледар.
— Согласен, — сказал я. — Но по крайней мере, я предлагаю тебе правила игры.
Тут мы услышали обращенное ко всем громкое приветствие Кэйперса Миддлтона, который вместе с Бетси смело и уверенно шагал по проходу. Все в них казалось мне преувеличенным, словно процессы метаболизма протекали у них более интенсивно, чем у других. Их улыбки были похожи на гримасы. Кэйперс, как и все политики, с которыми мне довелось встречаться, похоже, с одного взгляда оценил обстановку в зале. Я видел, как он кивнул Ледар: снисходительно и небрежно, словно списав ее со счетов. Уж если Кэйперс оставлял кого-то позади, то никаких апелляций уже не принимал, если, конечно, потом ему не требовалось, чтобы этот человек оказал ему услугу. Он деловито вел Бетси на сцену, не желая понапрасну тратить время на то, чтобы перекинуться парой слов с Майком или с нами. Кэйперсу, как всегда, было очень важно держать под контролем любую ситуацию, а потому сейчас он явно нервничал, видя, как постепенно собираются люди из нашего общего прошлого.
Майк посмотрел на часы, а затем — в сторону боковой двери, выходившей на Док-стрит. Мой отец уселся за столом на возвышении, положив рядом с собой судейский молоток. Судья дважды ударил молотком по дубовому столу, чтобы разрядить напряженную обстановку в зале. Отец выглядел даже не старым, а скорее сломленным, и я подумал, что после возвращения из Италии уделял ему слишком мало внимания, так как занимался исключительно матерью. Мне и хотелось бы испытывать к нему сыновние чувства, но я не мог расшевелить себя, изобразить эмоции, которых у меня не было. Я жаждал пробудить в своем сердце любовь, но непослушное сердце всего лишь слегка защемило от жалости. Отец поднялся, разгладил судейскую мантию, поправил галстук и воротничок, а затем снова уселся и стал терпеливо ждать, как и все из нас.
Мизансцену Майк организовал просто замечательно. В глубине сцены, прямо в центре, стоял стол судьи, а справа — элегантное кресло с высокой спинкой. По бокам были расставлены полукругом удобные стулья с бархатной обивкой. Цвет обивки удачно сочетался со всем остальным, что делало обстановку веселой и почти домашней. Слева от стола сидели Ледар, Селестина и я. Стул рядом со мной оставался незанятым. Напротив нас расселись Кэйперс, Бетси и генерал Эллиот. С их стороны тоже был еще один свободный стул. Вторым рядом за нашими спинами стояли несколько деревянных стульев. Слева от себя, высоко над головой, я заметил едва уловимое движение: это оператор настраивал объектив камеры.
Майк стоял в центре сцены, возле судьи, рядом с креслом с высокой спинкой, откуда ему было хорошо видно всех нас.
— Добро пожаловать, друзья мои! Благодарю за то, что откликнулись на мое приглашение. Я хочу, чтобы вы знали, что вас всех снимают и записывают. Если захотите выступить, поднимите руку, и судья Макколл даст вам слово. Когда я займу свое место, все будет похоже на заседание суда. Председательствовать будет судья Макколл. Он единственный участник нашего собрания, чьи услуги оплачиваются. Все остальные присутствуют здесь, так как мне это очень нужно. Я вас всех люблю и всеми восхищаюсь. С большинством из вас я знаком практически всю жизнь. Почему именно здесь? — задал риторический вопрос Майк. — Я выбрал для нашей встречи театр, чтобы присутствующие почувствовали себя персонажами пьесы, драмы, которую мы вместе сегодня напишем. Я привез на Док-стрит двух таинственных гостей. По ходу пьесы нас ожидают сюрпризы, а потом закономерная развязка. Все мы в конце представления будем голосовать. Человек, которого будут судить, дал мне разрешение позволить каждому из вас решить его судьбу путем голосования. Ага! Я вас заинтересовал. Возможно, даже заинтриговал. Я мог бы объяснить вам правила игры, но здесь нет никаких правил. Вы будете просто давать свою оценку событиям, имевшим место в прошлом. Все, за исключением Бетси, были участниками или свидетелями событий, о которых пойдет речь. Некоторые играют главную роль в этой постановке, но все вы в той или иной степени способствовали развитию ее действия. «Гамлет» не был бы «Гамлетом» без Розенкранца и Гильденстерна, и эта история была бы неполной без каждого из вас. Все знают, что Кэйперс, Джек и я в детстве были неразлучны. Когда я думаю о дружбе, то на ум прежде всего приходят их имена. Потом мы с Джеком разошлись, и от этого мне так больно, что даже и не передать. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Джек ненавидит Кэйперса или по меньшей мере очень его не любит.
— Правильнее будет сказать «ненавидит», — уточнил я, глядя Кэйперсу прямо в глаза.
— Майк, я с самого начала говорила тебе. Не нравится мне все это. Не хочу сидеть здесь и видеть, как моего мужа судит поддельный судья и критикует какой-то повар-самоучка, — обиделась за Кэйперса Бетси.
— Я ценю ваш ум, Бетси, — улыбнулся я. — Я просто плакал, когда на конкурсе талантов вы играли на казу «Оду к радости».
— Джек, не смей задирать мою бедную жену, — нахмурился Кэйперс. — Это тебе не идет.
Отец стукнул по столу судейским молотком и строго произнес:
— Все. Хватит, сын.
— Ты никак не можешь понять, — продолжил Кэйперс. — Джек, я по-прежнему люблю тебя. Вот чему и посвящен этот вечер.
— Ну, тогда этот вечер будет весьма долгим, приятель, — хмыкнул я.
Но тут снова раздался стук судейского молотка.
— Попрошу порядка в зале! — рявкнул мой отец, и на сей раз я заткнулся, увидев, как побагровело от гнева его лицо.
Но тут не выдержал генерал Эллиот. Он вскочил со своего места — типичный военный с головы до ног, очень властный и порывистый. У него был такой вид, словно он был вполне готов переплыть реку и перерезать горло часовому, охраняющему склад с боеприпасами.
— Я так понимаю, этот вечер посвящен моему сыну, — обратился он к Майку.
— То, что произошло с Джорданом, генерал, — центральная тема нашей пьесы. И все мы, здесь собравшиеся, прекрасно это знаем. Если бы Корпус морской пехоты не направил вас на базу на острове Поллок, ничего не случилось бы. Джек и Кэйперс остались бы лучшими друзьями. Вы с Селестиной сейчас не находились бы в состоянии развода. Возможно, и Шайла была бы жива, хотя это, наверное, и натяжка. Но то, что Джордан приехал в наш город, изменило ход событий. Он стал не только нашим лучшим другом, но и нашей судьбой.
— Если тебе хоть что-нибудь известно о местонахождении моего сына, ты просто обязан сообщить об этом федеральным властям. В противном случае тебя обвинят в укрывательстве преступника. Я сам тебя сдам, Майк, а ты знаешь, что я слов на ветер не бросаю.
— Заткнись! — не выдержала Селестина.
Судья снова стукнул молотком, призывая к порядку. Генерал же снова повернулся к Майку. И его голос был таким страдальческим, словно готовился отдать приказ приступить к расстрелу.
— Если ты знаешь о местонахождении моего сына, то твой нравственный долг — предоставить эту информацию властям, — повторил он.
Занавес в глубине слегка колыхнулся, и на сцену вышел Джордан Эллиот, легкий и подтянутый в своем траппистском облачении. Джордана сопровождали еще один монах и отец Джуд, которые затем скромно уселись сбоку, в тени.
— Привет, папа, — улыбнулся генералу Джордан. — Ты и понятия не имеешь о том, что произошло. Ты знаешь все об этой истории, за исключением моей роли в ней.
— Из-за тебя погибли два невинных человека, — произнес генерал уже без прежнего апломба: так поразило его неожиданное появление сына. — Я воспитал не солдата, а мямлю и дезертира.
— Никто из нас тогда этого не знал, папа, — возразил Джордан. — Но ты воспитал священника.
— Моя церковь не примет убийцу у алтаря, — отрезал генерал, взглянув на двух других священнослужителей.
Аббат поднялся и встал рядом с Джорданом.
— Я встретился с вашим сыном в Риме, когда он был еще послушником. Я стал его наставником и духовником. Для нас, служителей Римской католической церкви, прощать грехи — основная работа. Трапписты, которым удалось поближе познакомиться с вашим сыном, считают его хорошим человеком, а некоторые — даже святым.
— Он позор для своей страны и своей веры, — возразил генерал. — Кто считает его святым?!
— Его духовник, — ответил аббат и, поклонившись, вернулся на свое место.
— Я еще не разрешал вам садиться, — рявкнул генерал.
— Спасибо, генерал, но я не нуждаюсь в вашем разрешении, чтобы сесть, — ответил аббат, утерев рукавом лоб. — Вы, сэр, вышли в отставку, и ваше звание теперь чисто декоративное. Я же в настоящее время возглавляю аббатство Мепкин, и мои полномочия санкционированы незыблемой двухтысячелетней Божественной властью. Так что не советую повышать на меня голос, сэр. Ваш сын находится здесь исключительно с моего согласия. Я привел его сюда, а потому могу увести в любой момент и спрятать так хорошо, что вам в жизни не найти.
— Второй Ватиканский собор, — усмехнулся генерал. — Вот когда церковь свернула с истинного пути. Тот жирный Папа, который даже под страхом смерти не смог бы отжаться, откопал невесть откуда всех либеральных пустобрехов и фатов, собрал их вокруг себя на Втором Ватиканском соборе, чтобы опорочить все истинные и незыблемые ценности католицизма. Когда церковь была суровой, эта была настоящая Церковь. А эта, новая, мне отвратительна: мягкотелая, самодовольная, чувствительная церковь, где священники трахаются с монашками, как кролики, а во время торжественной мессы распевают под гитару «Кумбайю».
Мой отец, стукнув судейским молотком по столу, громко произнес:
— Генерал, вы впустую тратите время. Хватит болтать! Пора двигаться дальше.
— Нас ожидает еще один таинственный гость, — объявил Майк. — Для многих это человек-легенда. Если в студенческие годы в Каролине вы читали газеты, вы вспомните это имя. Леди и джентльмены, позвольте вам представить Радикального Боба Меррилла, лидера организации «Студенты за демократическое общество» с тысяча девятьсот шестьдесят девятого по тысяча девятьсот семьдесят первый год.
Когда я оглянулся и увидел, как на сцену выходит Боб Меррилл, то сразу понял, что сегодняшний вечер окажется тяжелее и будет иметь более разрушительные последствия для каждого из нас, причем такие, о каких Майк даже и не мечтал. Я считал, что больше всех на свете ненавижу Кэйперса Миддлтона, но совсем забыл о Радикальном Бобе Меррилле. Он оставил неизгладимый след в нашей жизни — словно вырезал камею на раковине, — причинил нам невосполнимый ущерб и скрылся из виду.
Меррилл подошел к Кэйперсу, и мужчины обнялись. Потом Боб приблизился к Джордану и обнял его. Затем, повернувшись ко мне, осторожно протянул руку.
— Если я правой рукой пожму тебе руку, то левой схвачу за горло, — задохнувшись от злости, сказал я.
— Джек, пора бы тебе повзрослеть, — улыбнулся Боб. — Что было, то прошло.
— Боб, когда ты сегодня принимал это приглашение, то хоть на секунду задумался о том, что вряд ли выйдешь отсюда целым и невредимым. Можешь не сомневаться, я с удовольствием вытрясу из тебя все дерьмо! — заявил я.
Снова раздался стук молотка, судья откашлялся, а Майк встал между мной и Бобом.
— Кто такой этот Радикальный Боб? — поинтересовался отец.
— Радикальный Боб был лидером антивоенного движения в кампусе, которое и закрутило нас в вихре всех этих событий, — объяснил Майк.
— Майк, но к чему ты ведешь? — не понял отец.
— Судья, — начал Майк, обрадовавшись такой подсказке, — на этот вопрос я смогу ответить только в конце нашего представления.
Тут уже не выдержала Ледар, которая, вскочив с места, спросила Майка:
— Майк, а тебе с этого какая выгода? Ты всегда был щедрым, однако не в ущерб себе.
— Спасибо за столь лестную характеристику, дорогая, — ответил Майк. — Но Ледар попала прямо в точку. Устраивая этот вечер, я получаю права на историю Джордана. Если мы решим, что Джордан виновен, он сдастся соответствующим властям острова Поллок. Если Джордану будет предъявлено обвинение, Кэйперс готов его защищать. Бесплатно.
— И тогда в глазах избирателей Южной Каролины Кэйперс будет выглядеть настоящим героем, — бросила Ледар. — «Миддлтон защищает убийцу-священника, друга детства».
— Цинизм тебе не к лицу, дорогая, — улыбнулся Кэйперс.
— Ты что, согласился взять Кэйперса в адвокаты? — спросила Ледар у Джордана.
— Хорошее предложение, но я впервые о нем слышу, — отозвался Джордан.
— Если он станет твоим защитником, то электрический стул тебе обеспечен, — не выдержал я.
— Джек, Джек, — укоризненно покачал головой Кэйперс, — люди могут подумать, что мы с тобой ссоримся.
— Майк, — заявил я, поднимаясь с места. — Ты сделаешь из этого фильм. Кэйперс станет губернатором. Джордан, возможно, сядет в тюрьму. Скажи, к чему этот спектакль? К чему эта мизансцена? Друзья и враги в одной комнате. Все можно было урегулировать без лишнего шума. Если Джордан счастлив быть священником, то пусть будет счастлив. Отпусти его с миром. Пусть уйдет с этой сцены и вернется туда, откуда пришел. Ты подставил Джордана. И ради чего? Ради одного из твоих фильмов? Ради избрания Кэйперса?
— Нет, Джек, — отрезал Майк. — С годами я заметил, как редко ощущаю, что действительно живу. Когда я весь как будто наэлектризован и каждая клеточка моего тела горит и блестит и мне кажется, что я вот-вот вспыхну ярким пламенем. Прислушайтесь, как дышит этот зал. Почувствуйте напряжение. Это будет вечер, который никто из нас не сможет забыть. То, что с нами произошло, словно окружило нас толстой стеной и до сих пор не отпускает. И все же когда-то между нами бродила любовь, освещавшая нам путь и делавшая нас светлее. Сегодня я хочу, чтобы мы все вместе выяснили, что случилось с этой любовью и почему ненависть так легко заняла ее место.
— С чего начнем? — поинтересовался Кэйперс.
Тут отец в очередной раз стукнул молотком, сопроводив это словами:
— Тот, кто хочет высказаться, должен занять место свидетеля. Этот человек обязан говорить правду и только правду, как в настоящем суде.
— Наши истории такие разные, — заметила Ледар. — Я уже не та девушка, какой была в колледже. Ненавижу ее.
— Тогда расскажи об этой ненависти, — предложил Майк. — Мы все расскажем свои истории. Порядка устанавливать не будем. Наши истории и лягут в основу той правды, до которой сейчас никто не может докопаться. Наши голоса сформируют единую сюжетную линию. Никто из нас особо не пострадает от всего сказанного здесь… за исключением Джордана Эллиота. Но если мы наконец узнаем правду о Джордане, то, думаю, это поможет нам понять и правду о себе, о том, что же мы делали в то время.
Майк щелкнул пальцами, и свет в театре погас, только сцена была залита лучами софитов. На какой-то момент в зале наступила мертвая тишина, затем стукнул судейский молоток, и Майк произнес:
— А теперь вернемся к вьетнамской войне. В Белом доме президент Никсон. Страна воюет сама с собой. Кампусы превратились в храмы гнева. В Колумбии, штат Южная Каролина, студенческая жизнь в полном разгаре. Мы южане. Мы в основном аполитичны. Южная Каролина одобряет войну, так как это консервативный штат. И все же в университете что-то происходит. Зарождается антивоенное движение, которое день ото дня только усиливается. А мы все еще заняты исключительно свиданиями, футболом и планами найти работу после окончания учебы. Леди и джентльмены, предлагаю вам честно и беспристрастно оглянуться на то время. Мы добродушные, заводные, любящие выпивку и быструю езду ребята из Уотерфорда. Мы могли танцевать всю ночь напролет, а потому часто ездили в Миртл-Бич. Все наши мальчики красивы, а девочки чудо как хороши. Мы играли в полную силу, смеялись от души и были влюблены в себя и окружающий мир. Но потом большой мир похлопал нас по плечу, чтобы представиться. Похлопал сильно. Так сказать, обозначил свое присутствие. Ну а теперь начнем. Прошу не останавливать процесс, пока мы не выслушаем каждого.
И так, пробиваясь сквозь хор самых разных голосов, начала разворачиваться наша история. Отец вызывал очередного выступающего и поначалу не позволял никому его перебивать. Свет софитов увенчал его перламутровым нимбом, а черная судейская мантия придала ему легитимности. Он выглядел красивым и внушительным: власть ему очень шла.
Начав заседание, судья кивком вызвал Ледар, которая, поняв, что от нее требуется, заняла кресло свидетеля. Ледар пережила эту битву, которую мы сейчас воскрешали в памяти, поскольку оставалась пассивным наблюдателем, а потому было вполне уместно, чтобы именно она первой вышла на сцену, на которой нам было суждено вновь появиться.
Я слушал, как Ледар описывает, на каком фоне происходили события, и просто диву давался, так как и не подозревал, что ее это хоть сколько-нибудь интересовало. Мне казалось, что она скользит по обочине того крутого, решающего поворота, оставаясь нечувствительной к творящемуся произволу и безразличной к охватившему нас нервному возбуждению. Ледар предпочитала просто наблюдать, но ни в чем не участвовала, и, когда сейчас она начала говорить, я вдруг понял, что тогда, взяв на себя эту роль, моя бывшая подружка перестала для меня существовать, так как все остальные уже были в самом эпицентре событий.
— Кто сначала хоть что-нибудь знал о Вьетнаме? — спросила Ледар, бросив быстрый взгляд на моего отца. — Я просто хочу сказать, что к тому времени, как мы поступили в колледж, война уже была в полном разгаре. Да, я видела демонстрации по телевизору, но в Южной Каролине все было по-другому. Меня интересовали исключительно сестринство да вечеринки. Впрочем, все мы были такими. Макияж волновал меня куда больше, чем дельта реки Меконга. Вот какой я была девушкой, и нет смысла извиняться, потому что так уж меня воспитали. Родители хотели, чтобы я серьезно подошла к выбору мужа, и других обязательств у меня не было. На колледж они смотрели как на место, где меня окончательно отшлифуют. Первые два года моего пребывания в кампусе меня волновала лишь проблема парковки. Я серьезно. Для студентов это был больной вопрос, из-за которого они жутко злились. Затем все изменилось. Вот так, вдруг. Этого нельзя было не заметить. Это носилось в воздухе…
Я слушал ее, и на меня нахлынули собственные воспоминания: я перенесся в студенческие годы, когда, уже чувствуя себя частью системы, спешил на занятия по вполне благополучному и приветливому кампусу. В тот первый год война была жутко популярна, и мы все ходили слушать Дина Раска, когда государственный секретарь приехал в кампус отстаивать политику демократов, возглавлявших администрацию президента. К этому времени Дину Раску уже было довольно опасно появляться в американском кампусе, но только не в Каролине, где студенты приветствовали его с восхищением и энтузиазмом. Он предостерегал нас относительно коммунизма, тогда самого страшного слова в английском языке. Будучи южанами, мы легко представляли себя работающими в коммуне, но мало кто из нас мог вообразить себя среди безбожного народа, человеком, вынужденным до конца своих дней оставаться лишенным веры. И я совершенно спокойно считал, что именно из-за этого и началась вьетнамская кампания. Да, тогда мы не имели ничего против того, чтобы отправиться на войну против страны, о которой мы даже не слышали. Мы, южане, не одобряли наше федеральное правительство, когда оно повышало налоги или пыталось вмешиваться в законы штата, но всецело доверяли ему, когда оно посылало своих солдат в края с убийственным влажным климатом истреблять узкоглазых людей, говоривших на неизвестном языке. Офицеры, приезжавшие в Южную Каролину призывать солдат на войну, всегда набирали необходимую квоту.
А потом, в 1968 году, произошли: «Тет оффенсив», убийство Мартина Лютера Кинга, убийство Роберта Кеннеди, Чикагская резня, то есть целая череда ужасных событий, заключенных в одном временном отрезке.
И пока Ледар говорила, я постепенно припоминал, что наш кампус по-прежнему оставался молчаливым и равнодушным, в то время как в Гарварде и Колумбийском университете студенты приступом брали административные здания. Однако слабые намеки на перемены и первые признаки этих самых перемен начали появляться без громкой риторики или предварительной подготовки. Мы отрастили волосы, усы и даже первые бороды. Постепенное разоблачение началось где-то на подсознательном уровне, и студент в цивильном костюме казался теперь чудаком, музейным экспонатом, плавающим после кораблекрушения вдоль стройных рядов нашего братства. Дочери страховых агентов и баптистских проповедников из маленьких городов начали одеваться как хиппи и накладывали макияж только тогда, когда ездили домой на уик-энд. За исключением выхода из Федерации, Южная Каролина не сделала ничего такого, чтобы заслужить право считаться местом, где рождаются новые веяния. Но ход времени, знаменующийся в других кампусах волнениями и антиправительственными беспорядками, в Каролине измерялся лишь длиной баков на лицах тамошних студентов.
У таких девушек, как Ледар, жизнь была расписана еще задолго до их поступления в колледж. Красота Ледар была спокойной, домашней, не экзотической, как у Шайлы, и не опасной. Сестринство «Три-дельта» носило ее на руках: ее практически короновали, как только она ступила на территорию кампуса. Капитан школьной команды поддержки всего лишь поменяла цвет помпонов и юбки и научилась куда более занятным ритуалам на боковой линии спортплощадки колледжа. Ледар была из тех девушек, что ходили на свидания к квотербекам, но замуж выходили за парня, издававшего «Юридический вестник». На втором курсе ее избрали Мисс «Гарнет энд блэк», а на вечере встречи выпускников — королевой бала. За исключением Шайлы, мало кто заметил, что Ледар была членом общества «Фи-бета-каппа» и специализировалась по философии. Шайла пыталась привлечь свою школьную подругу к политическим дискуссиям, но та чувствовала себя в большей безопасности в библиотеке или в шумной толпе футбольных болельщиков, чем в злобной обстановке жарких дебатов.
Ледар боялась наступивших перемен и старалась отгородиться от них. Она была настолько красивой, что никто даже не пытался узнать ее получше, да она и сама себя не знала. И вот сейчас, в театре на Док-стрит, Ледар Энсли стала человеком, который лучше других смог беспристрастно описать события тех лет. Стоя у рампы на сцене, где происходили основные события, она видела всю картину целиком. И только она одна могла определить момент, когда в размеренную жизнь колледжа грубо вторглась вьетнамская война. Ледар сказала, что ключ от всего был у Шайлы. И именно с Шайлой произошли самые большие изменения, и именно Шайла превратилась в опасную и обворожительную женщину, и именно Шайла привела в нашу спаянную группу Радикального Боба.
Услышав свое имя, Радикальный Боб Меррилл от души рассмеялся.
— Радикальный Боб, — произнес он. — Эти слова уносят меня в далекое прошлое.
— Я согласен с Ледар, — заявил Кэйперс, который поднялся с места, чтобы сменить Ледар в кресле свидетеля. — Трудно описать Шайлу, какой она была в те дни. В младших классах средней школы Шайла не отличалась разговорчивостью. Вы же помните, какой болезненно застенчивой она была. Казалось, Шайла испытывала прямо-таки физическую боль, когда на нее кто-то смотрел. В старших классах это пропало. С каждым годом она становилась все красивее. Потом и сексуальнее. Не говоря уже о ее интеллекте и о том, какой яркой личностью она была. Да, она умела и задирать, и дразнить, и умасливать. Она могла увлечь за собой толпу. В колледже Шайла обнаружила в себе задатки лидера. Из нее мог бы получиться выдающийся член республиканской партии.
— Она всей душой ненавидела республиканцев, — вмешался Майк. — Во время избирательной кампании Макговерна Шайла сказала мне то, что я никогда не забуду. Она сказала: «Южан, ненавидящих чернокожих, привыкли называть расистами. Теперь их называют республиканцами».
— Республиканцы не сумели донести наши идеи до афроамериканского электората, — согласился Кэйперс. — Но мы над этим работаем.
— Если ты получишь хотя бы один голос чернокожего избирателя, значит, демократии в нашей стране не существует, — не выдержал я.
— В твоих устах это звучит как комплимент, — парировал Кэйперс.
— Довольно, Джек. Держи себя в руках, — стукнул молотком судья.
Кэйперс зааплодировал, но с явной издевкой, что только усилило напряжение в зале.
— У Джека талант все преувеличивать. Такой же большой, как и его фигура мальчика-переростка. У него такое огромное сердце, что не помещается в груди. Это трагическая ошибка всех американских либералов. Теоретически они любят чернокожих, униженных и оскорбленных, увечных и нищих, однако никогда в жизни не сядут с ними за один стол.
— Продолжим. Вы, мальчики, словно пауки в банке, — прервал Кэйперса судья, стукнув молотком.
Генерал Эллиот сидел с левой стороны сцены, отодвинувшись ото всех, а его лицо напоминало маску неодобрения. Если он и слушал, то виду не подавал. Эллиот не отрываясь смотрел на сына, а тот, в свою очередь, смотрел на отца, правда, совершенно спокойно, без осуждения. Джордан выглядел настоящим священнослужителем. При этом такой же прямой, поджарый и красивый, как генерал. Но между ними была одна, но существенная разница: темнота, которую принес с собой в театр Джордан, была спокойной, отполированной долгими часами молитв, а темнота, окружавшая его отца, была яростной — она словно пришла вслед за генералом прямо с линии огня.
— Мы с Кэйперсом начнем рассказ с того момента, когда все студенты стали носить длинные волосы, — произнес Майк.
— Я тогда отрастил их до лопаток, — улыбнулся Кэйперс.
— Длинные волосы — это понятно, — заметила Ледар. — Но самое главное, что все наши мальчики уцелели. С нами много чего было, но никто из наших друзей не погиб во Вьетнаме.
— А вот мои погибли! — выкрикнул с места генерал Эллиот.
— Но не Джордан. Не твой сын. Джордан сидит напротив тебя, — подала голос Селестина. — Сегодня он наконец-то смотрит на тебя.
— Селестина, Джордан для меня мертвее любого солдата, который сражался во Вьетнаме и пал там смертью храбрых. Джордан для меня не существует. Мои глаза не видят его, так как меня ослепила его трусость. Между нами густой, непроницаемый туман. Между нами реки крови. Крови людей, которых я вел в бой. Каждый раз, когда я пытаюсь посмотреть на сына, их кровь застилает мне глаза. Когда я пытаюсь хоть мельком увидеть Джордана, их имена заслоняют его. Они встают перед моими глазами на мемориальной Стене памяти погибших во вьетнамской войне. Сотни тысяч букв, фамилии всех погибших мальчиков, которые исполнили свой долг, верой и правдой послужив Америке, и их имена маршируют передо мной в нескончаемом строю каждый раз, как я пытаюсь увидеть нашего трусливого сына. Нашего Джордана.
В зале повисла звенящая тишина — и тут, не выдержав, я вскочил и начал орать на генерала Эллиота.
— Если нами руководили такие тупые задницы, то остается только удивляться, как хоть кому-то из американских солдат удалось вернуться из Вьетнама целым и невредимым. Как может один вышедший в тираж старый осел знать обо всем, что творится в мире? Ответьте мне, генерал. Перед вами сидит ваш сын. Это вам не флаг, не танк M1, не линейный флажок, не ручная граната, не окоп, но все эти вещи вы любили гораздо больше, чем собственного сыны. Когда он был маленьким, вы шпыняли и колотили его, и всем здесь это прекрасно известно. Вы и Селестину поколачивали, но об этом знают только двое из нас. Взгляните на этого бравого генерала, который еще смеет судить своего сына. Да вы мизинца его не стоите и никогда не стоили. Вы мучитель детей и жены, скудоумный хам и отморозок, и единственная причина, по которой я не могу назвать вас обыкновенным нацистом, так это то, что вы не говорите по-немецки и наша конституция не позволяет таким говнюкам распоясаться до конца.
Тут мою речь прервал стук молотка, и я услышал голос судьи.
— Заткнись, Джек. И сядь на место. Ты слишком эмоционально на все реагируешь, а мы только начали.
— Нет, судья, — возразил Майк. — Наш спектакль уже вовсю разворачивается.
— Я хочу задать Джеку вопрос, — произнес генерал и, поднявшись, угрожающе ткнул пальцем в мою сторону. — Это твое поколение стало первым, опозорившим Америку. Когда наша страна призвала своих сыновей, вы, трусливые ловкачи и маменькины сынки, приходили на медосмотр в девчоночьих трусиках, симулировали приступы астмы, подсыпали сахар в анализ мочи, голодали, чтобы вес недотягивал до нормы, или, наоборот, переедали, чтобы получить избыточный вес, брюхатили девчонок — и все для того, чтобы избежать призыва. Вы даже вступали в национальную гвардию — лишь бы не послали на передовую. Нам во Вьетнаме требовались парни из стали, а приходилось выбирать среди таких вот засранцев. Приходилось искать бойцов в грязном сборище хорошеньких мальчиков, которые чувствовали себя комфортнее на кушетке у терапевта, чем во время марш-броска через непролазные джунгли. Наша нация прогнила изнутри. Это республика без гонад. Разжиревшая, женоподобная, раздутая от всех излишеств, которые с удовольствием предоставляет общество. Меня тошнит от вас. Меня тошнит от тебя, Джек.
— Хорошо сказано, генерал, — произнес Кэйперс, нарушив затянувшуюся паузу.
Тут со своего места поднялась Селестина Эллиот.
— Поговори с нами о преданности, дорогой. Ты воспитывал Джордана в убеждении, что преданность — главное достоинство солдата.
— И я не изменил своим убеждениям, — ответил генерал, не глядя на свою теперь живущую отдельно жену. — А вот Джек даже понятия не имеет, какую преданность я имею в виду.
— Что касается преданности, то он может научить тебя тому, о чем ты и не мечтал, — отрезала она. — Джек ни разу не отвернулся от нашего сына. Он абсолютно предан нашему с тобой единственному ребенку. Ни разу не поколебался. Ни разу не отступил. И ни разу не попросил ничего взамен, не получил даже самой малости в счет оплаты.
— Это не совсем так, — возразил я.
— Джек, и какую же выгоду ты получил? — поинтересовалась Селестина.
— Джордан любил меня. Он всегда был мне верным другом. С ним я не чувствовал себя одиноким.
Во время этого разговора Джордан не отрываясь смотрел на отца. Выражение его лица не изменилось. Его чистый взгляд был спокойным и безмятежным, как монастырская жизнь.
Тем временем Майк продолжил свое повествование. Все мы, сказал он, видели, как изменилась Шайла Фокс с тех пор, как встретилась с Радикальным Бобом Мерриллом, который перевелся в Каролину из Колумбийского университета летом 1969 года. Боб был из числа радикалов, захвативших административное здание Колумбийского университета и выдвинувших ряд требований, столь жестких, что власти вынуждены были вызвать нью-йоркскую полицию, которая и прорвала блокаду, но сделала это весьма безжалостно, причинив тем самым непоправимый ущерб славной репутации Колумбийского университета. Во время того рейда сам Боб спал в Гарлеме, поскольку учился у чернокожего мусульманина изготавливать зажигательные бомбы, чтобы использовать их для нейтрализации сил полиции, брошенных на разгон демонстраций. Радикальный Боб приехал на Юг с целью создать в Университете Южной Каролины местное отделение организации «Студенты за демократическое общество», или СДО. Первой, кого он завербовал в кампусе, стала Шайла Фокс. До своего отъезда он сколотил группу СДО численностью более пятидесяти человек. Он подчинил их своей воле и изменил их политические взгляды. Радикальный Боб оказался настолько талантливым организатором сонных студентов, что даже получил благодарность из штаб-квартиры организации. Но это было позднее, после событий в штате Кент и бури, которая поломала жизнь всем нам, собравшимся в театре на Док-стрит.
— Я еще никогда не видел человека, похожего на Радикального Боба, — продолжал Майк. — Волосы у него были длинные и черные, как у индейца. Говорил он на трех языках и мог цитировать целые страницы из Уолта Уитмена и Карла Маркса — и ничто его не смущало и не волновало. Он был не слишком хорошим оратором, но зато потрясающе разбирался в людях и легко мог выявить настоящего лидера. Боб знал, что Юг не доверяет чужакам, а потому стал соблазнять южан, набивая цену. Сам он предпочитал держаться на заднем плане, оставаясь в тени, и только дергал за ниточки. Он начал образовывать нас политически. За исключением Шайлы, никто из студентов о войне особо не думал. Это точно. Но мы уже вполне созрели, и ему осталось только собрать урожай. Я всю свою жизнь ждал человека вроде Радикального Боба. Крутого. Он написал сценарий для крутых. Воплотил в жизнь идеи. Все мы попались в его сети. За исключением Джордана.
И вот сейчас Радикальный Боб, безупречно одетый, в костюме от «Брукс бразерс», хорошо подстриженный и с наманикюренными ногтями, сидел в кресле свидетеля и вещал.
— На Джордана абсолютно не действовали чары революционной мысли. Он не годился для участия в политическом движении из-за излишней эмоциональности. Он был опасен для меня тем, что будил в друзьях верноподданнические чувства. По своей наивности Шайла и Майк относились к нему с глубоким уважением. Но я видел в нем чужака. Я старался вбить клин между Шайлой и Джорданом, между Майком и Джорданом. Пытался разрушить его дружбу с Джеком.
— Боб, но твоей настоящей победой стал я, — произнес Кэйперс. — Я был твоим piece de resistance.
— О да, — согласился Боб, улыбнувшись Кэйперсу. — Я положил на тебя глаз в первый же месяц в кампусе. Шайла и в меньшей степени Майк были хорошей добычей, но, что скрывать, они евреи, а это принижало их в глазах недалеких южан. Чтобы подцепить их на крючок, я использовал собственное еврейство, но для тебя, Кэйперс, у меня был долгосрочный план. Итак, я разработал стратегию. Когда я выяснил, что всех вас связывает Уотерфорд, предложил Шайле собрать своих друзей в баре «Йестерди», где за кружкой пива можно было ненавязчиво перейти к разговору о серьезных вещах. О войне. О реакции на эту войну. И конечно, о гражданском неповиновении.
— Я хорошо запомнил одну из твоих фраз, — произнес Кэйперс. — «Если уж на рисовых плантациях Вьетнама должна пролиться кровь, то пусть столько же крови прольется на улицах Южной Каролины». Я многому от тебя научился, Боб.
— Вы с Шайлой были моими лучшими учениками. Кэйперс, ты, как никто другой, мог повести за собой толпу.
— Вьетнам, так или иначе, всех нас расшевелил, — заметил Кэйперс.
— Поцелуи сыграли с Иудой злую шутку, — бросил я, не глядя на Кэйперса. — Стукни молотком, отец. А не то эти два влюбленных голубка могут свалиться со сцены, поскользнувшись на собственных соплях и слюнях.
Боб и Кэйперс рассмеялись, но смех этот был нервным, и атмосфера в театре накалилась до предела. Отец Джуд кашлянул. Селестина, извинившись, вышла в дамскую комнату. Ледар подалась вперед на своем стуле. Раздался стук молотка, и Майк продолжил свое повествование, возвращающее нас в наше тяжелое, мучительное прошлое.
И хотя сейчас в роли рассказчика вступал Майк, у меня было такое чувство, будто я сам вспоминаю эти встречи в «Йестерди». С самого начала наша уотерфордская компания заняла видное место в университете, поскольку как группа мы проявили непривычную активность в студенческой жизни. Ледар, оставаясь верной южной традиции, с головой окунулась в работу сестринства и участие в конкурсах красоты. Она бегала по своим делам, в то время как мы орали друг на друга, всю ночь споря до хрипоты и стараясь своими идеями изменить мир. Нам хотелось быть умными, нам нравилось быть шумными, а Радикальный Боб платил за пиво, выпитое в «Йестерди». Ледар порвала с Кэйперсом сразу же, как тот сошелся с Радикальным Бобом. Кэйперс вышел из своего братства «Каппа-альфа» через месяц после того, как произнес перед своими братьями антивоенную речь.
К концу 1969 года Кэйперс Миддлтон, отпрыск одного из самых старых и выдающихся семейств в истории Южной Каролины, потомок трех подписантов Декларации о независимости, стал признанным лидером организации СДО и радикального движения студентов Южной Каролины в целом. Боб Меррилл держался на заднем плане, инструктируя, советуя и направляя. Второй в команде была Шайла, которая делила с Кэйперсом не только постель, но и его самоотверженное стремление прекратить войну в Юго-Восточной Азии и вернуть домой каждого американского солдата. К моему большому сожалению, в те сумасшедшие, лихие дни Кэйперс и Шайла были неразлучны. По утрам они пили эспрессо в кафе на Жерве-стрит и пытались уговорить молодых солдат в Форт-Джексоне отказаться от участия в войне. Вдвоем они объездили всю страну, участвовали в демонстрациях и конференциях, привлекая лидеров к движению за мир. Шайла прославилась своей красотой и красноречием, а Кэйперс — смелостью при стычках с полицией и способностью сочетать страсть и практичность в речах, которые он ежедневно произносил перед слушателями численностью от пяти человек и до тысячи. Его манера говорить оказывала на людей убаюкивающее, гипнотическое действие, и Кэйперс мог заворожить толпу за считаные минуты.
— Шайла была настоящей революционеркой, — сказал Радикальный Боб. — Я сразу понял, что шанс встретить такого человека выпадает только раз в жизни. Помню, как горько она плакала над рассказом одной из девушек о смерти любимой кошки, сдохшей десять лет назад. Шайла не знала ни кошку, ни девушку, но сочувствовала всем Божьим тварям. Она казалась очень наивной, что только усиливало ее притягательность. Но что касается дела, тут на Шайлу можно было полностью положиться. Она была настоящим человеком. Думаю, она уже тогда была влюблена в Джека, но Джек был слишком аполитичным и вряд ли изменился бы. Кэйперс завоевал любовь Шайлы тем, что перечеркнул свою прошлую жизнь и вместе с любимой пошел на баррикады. Шайла верила в то, что создала Кэйперса. И конечно же, я со своей стороны верил в то, что создал Шайлу. Шайла считала Вьетнамскую войну злом… Однако на ее видение ситуации наложилась история ее родителей. Ее еврейство было ключом к антивоенной деятельности. Вьетнамцы для нее были те же евреи. Американцы выступали в роли оккупантов, а потому в ее сознании превратились в нацистов. Каждый раз, как я начинал спорить с Шайлой насчет войны, она приводила мне в пример Освенцим. Стоило мне заговорить об осаде Кхесани, как она тут же брала меня в воображаемое путешествие по польским дорогам в фургоне для перевозки скота. Я понял, что отношусь к совсем другой разновидности евреев. Мои родители испытывали чувство безграничной благодарности к Америке. Я смотрел на окружающий мир глазами родителей. Она тоже смотрела на мир, но ее взгляд туманил лагерный номер отца. Мне кажется, она протестовала против войны, так как никто не сказал ни слова, когда нацисты забрали всю ее семью. Любая фотография убитого вьетнамца напоминала ей о рвах, заполненных телами евреев. Ее протест, ее крайний радикализм — все это являлось продолжением жизни ее семьи. Но чувства Шайлы отличались удивительной искренностью. Для нее это было вопросом жизни или смерти.
— А чем была война для моего сына? — спросил генерал Эллиот. — Я принимаю ваше объяснение протеста Шайлы. В ее искренности я ни разу не усомнился. Шайла была чиста душой. Если изменить несколько слов в вашем описании, то оно вполне подходит идеальному пехотинцу. Но вернемся к Джордану. Насколько мне известно, он был так же аполитичен, как и Джек. Тем не менее оба ввязались в ту глупость. Я так и не смог понять, почему это произошло.
— Шайла не успокоилась бы до тех пор, пока не привлекла бы к антивоенному движению Джордана и Джека, — ответил Кэйперс. — Они над ней посмеивались и дразнили за этот благоприобретенный радикализм. Какое-то время ее даже называли Джейн Фонда. Но она водила Джордана с Джеком на митинги. Они были умными парнями, и если бы не играли в бейсбол, то, думаю, ввязались бы во все это еще раньше.
— Нас подхватило и увлекло за собой все происходящее, — заметил я. — Все случилось само собой.
— Теперь твоя очередь, Джек, — сказал Майк.
Я кивнул и уселся в кресло свидетеля.
Назад: Часть VI
Дальше: Глава тридцать шестая

