Глава тридцатая
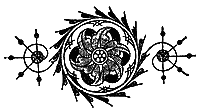
Я каждый раз с содроганием подходил к дверям дома Шайлы. Мне было, мягко сказать, не по себе, когда я привел свою дочь в дом, где прошло детство ее матери, где та росла, став в конце концов самой красивой самоубийцей за всю историю города. Между Фоксами и мной лежало ее тело, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Наши встречи были короткими, но достаточно сердечными. Бьющая ключом жизнерадостность Ли сделала нас союзниками, что, по общему мнению, стало самым ценным результатом моего возвращения в Уотерфорд. Поскольку Ли хотелось, чтобы мы любили друг друга, то все, как могли, пытались ублажать ее. Мы с Руфь разговаривали дружелюбно и по-деловому, а с Джорджем, по обоюдному согласию, старались не пересекаться и вели себя так, словно заключили молчаливый договор не афишировать свое презрение друг к другу. Правила корректного поведения делали проявления враждебности не столь радикальными.
Дом Руфи так и остался затерянным во временных аберрациях кусочком Европы. Фоксы привезли с собой ностальгию в чемоданах и сумках. Новой стране удалось сделать детей Фоксов американцами, однако до родителей она и пальцем не дотронулась. Английский их был весьма шероховатым, поскольку язык этот слишком многозначный и в то же время чересчур разговорный, чтобы дать эмигранту ощущение, что тот овладел им в совершенстве. Для Джорджа английский язык был четвертым, а для Руфи — третьим. Во сне Джордж Фокс до сих пор говорил по-польски, Руфь — на идиш, и оба считали настоящим чудом, что все еще видят сны.
Во время фестиваля Сполето Руфь Фокс позвонила мне и спросила, разрешу ли я Джорджу взять с собой Ли на концерт камерной музыки в Чарлстоне. Когда я с готовностью согласился, она позвала меня приехать к ней на ланч, сказав, что хочет кое-что со мной обсудить. На формальном языке наших взаимоотношений это означало, что Руфь хочет рассказать мне о своем детстве во время войны в Европе. Мы разработали с ней своеобразный стенографический код, чтобы обмениваться информацией без лишних слов. Ради Шайлы, в память о ней, мы старались быть вежливыми друг с другом. А ради Ли мы старались дипломатично соблюдать перемирие и ослабить напряжение, что, возможно, в один прекрасный день позволит нам снова понять друг друга.
Тема Ли была для нас островком безопасности, и мы еще долго говорили о ней, помахав на прощание деду и внучке, отправившимся в полуторачасовую поездку до Чарлстона. Мы сидели за белым плетеным столом и потягивали калифорнийское шардоне. Откуда-то издалека доносился собачий лай, на невидимых газонах жужжали газонокосилки. Воздух был напоен летними запахами, в пышных кустах жасмина гудели пчелы. И вот в этом самом безопасном и уединенном из всех южных городков Руфь начала рассказывать о Польше после вторжения немцев. Она не стала предварять рассказ вступлением, а начала говорить как-то отстранение, так что я едва узнал ее голос. Только однажды я попытался прервать ее, но она упреждающе подняла руку. Ей необходимо было выговориться, рассказать о событиях, которые перенесли ее из Польши на эту веранду в Уотерфорде, объяснить, отчего судьба еврейской девушки стала такой сложной, как получилось, что она сидит сейчас в этот южный полдень напротив зятя-христианина и рассказывает ему об ужасе и хаосе, воцарившихся в пылающем и перевернувшемся в результате глобальной катастрофы мире. Слушая ее рассказ, я очень скоро понял, что Руфь протягивает мне дар, не имеющий цены. Знакомя меня со своей историей, она тем самым показывала, что хочет оставить за дверью наше прошлое со всеми его боевыми действиями. А еще она демонстрировала акт милосердия, какого доселе мне еще ни разу не доводилось испытать на себе: она дала мне ключ к разгадке тайны смерти Шайлы.
Руфь Фокс выросла в городке Кронилов в Польше. Она была дочерью ортодоксального раввина по имени Эфраим Грубер, прославившегося далеко за пределами города знанием Талмуда. Мать звали Ханна Шем-Тов. Дед Руфь был виноторговцем. У этого грубоватого, прямолинейного человека на все имелось свое мнение. Бабушку Руфь звали Марта, и эту набожную женщину любили не только евреи, но и неевреи.
Детство Руфь было счастливым и безмятежным, но, когда ей исполнилось тринадцать, разразилась война. Казалось, весь мир запылал, когда на их город стали падать бомбы, а по дорогам сплошным потоком потянулись перепуганные беженцы.
После первого дня бомбежки Руфь и ее родные спали, ощущая запах горелой конины. Ее дед Мойше Шем-Тов спорил с ее отцом-раввином, настаивая на том, что им следует бежать поближе к русской границе, где у Мойше были друзья, способные помочь им перебраться на ту сторону. Но у Эфраима Грубера была община, и, как раввин, он чувствовал, что несчастные евреи, набившиеся в синагогу, нуждаются в нем, как никогда. Поскольку дочь Мойше ни при каких условиях не покинула бы мужа и поскольку его жена не оставила бы свою единственную дочь, побег Мойше через границу так и не состоялся, хотя желание бежать не оставляло его и в те страшные дни, которые очень скоро настали. Польская армия была уже разбита, и немцы обратили свою ярость на евреев, самых беззащитных жителей страны. Немцы, оккупировавшие Кронилов, казались вездесущими и непобедимыми.
С самого первого дня начала бомбежек и обстрелов мать Руфь принялась шить детям одежду. Когда она почти закончила новые платья для Руфи и ее сестры Тони, Ханна пришла к отцу и немало удивила его, попросив все деньги, которые он должен был оставить ей после смерти. Мойше был обескуражен и устроил дочери строгий допрос. Но Ханна унаследовала хитрость отца и его инстинкт самосохранения. Она слышала разговоры местных евреев о приходе к власти нацистов и Адольфа Гитлера и знала, что у тех, кто останется в городе, нет будущего. Руфь все говорила и говорила, и рассказ ее захватил меня.
«Моя мать подготовилась к приходу немцев. Она подготовилась, сшив по платью для меня и моей сестры. Мой дед Мойше не мог отказать своей единственной дочери, и та объяснила ему, что должна остаться с мужем-раввином, сказала, что у нее есть план по спасению детей. И Мойше дал ей шестнадцать золотых монет, которые хранил в специальном альбоме, золотых монет с профилем царя Николая Второго. И вот она берет монеты, обтягивает их материалом и делает из них пуговицы: восемь пуговиц для моего нового платья и восемь — для платья сестры.
К тому времени, как она закончила работу, немцы уже установили свои порядки в сломленном, парализованном городе и развлекались, унижая перепуганных горожан. Просто ради забавы немцы стараются сломить дух безоружных людей. Немцам нравится издеваться над хасидами, которых ненавидят из-за их странной внешности. Немцам нравится выслушивать мольбы этих самых богобоязненных мужчин, просящих пощады на немецком, который солдаты не вполне понимают.
Когда на улице начинается стрельба и акции устрашения, моя мать выходит из дому, чтобы помочь раненым. И однажды она приводит в дом польского мальчика, задетого пулей, когда солдаты открывают огонь по толпе. Зовут его Стефан, и мать ухаживает за ним, как за родным сыном. Несколько дней кажется, что Стефан вот-вот умрет, но мать выхаживает его. И вот она кормит его с ложечки и присматривает за ним. Моя мать Ханна всегда такая, и для нее не важно, кто еврей, а кто нееврей, если человек страдает и нуждается в помощи. Несколько дней Стефан без сознания, бредит и даже не знает, что он все еще в этом мире. Наконец он начинает поправляться. Это крестьянин из-под Кронилова, и когда он набирается сил, чтобы уйти, моя мать передает сообщение лудильщику по имени Фишман, который ходит из деревни в деревню и делает свою работу. Фишман говорит матери Стефана, что ее сын выздоравливает в доме раввина. Мать Стефана, Кристина, приходит в наш дом и видит, что ее сын жив, и ее переполняют радость и благодарность, она опускается перед моей матерью на колени и целует ей руки.
Война продолжается, и положение польских евреев становится все хуже и хуже. Возле комендатуры нацисты устанавливают виселицу. Там они с радостью вешают евреев, пойманных на краже хлеба или переправке ценностей. Организовывают гетто и переселяют туда евреев, в самые бедные и плохие районы города, где невероятная грязь, нечистая вода. После первой зимы еды почти не остается, и людей отправляют в концентрационные лагеря. А семьи отчаянно стараются, чтобы их не разлучали. Каждый день на улице убивают евреев только за то, что они евреи.
У моей матери есть подруга детства, христианка, жившая по соседству. Эта девушка по имени Мария росла без матери, потому что та умерла от гриппа. Потом ее отец женится на вдове с пятью детьми, а так как детей было слишком много и всех было не прокормить, то Марию отправляют в монастырь, где она становится монахиней. Там ее называют сестра Паулина, и она несколько раз в год пишет моей матери, сообщает о своей жизни и просит писать в ответ. В своих письмах Мария всегда говорит, что готова помочь матери, сделает для нее все, что сможет, хотя денег у нее нет, только молитвы и милость Господня. Итак, зашив монеты с профилем царя Николая Второго в пуговицы на моем платье, мать зашивает в платье и адрес монастыря в Варшаве, в котором живет сестра Паулина. Записку она прячет с изнанки, возле шва, но адрес пишет четко и разборчиво, чтобы, если нам удалось бы добраться до Варшавы, мы смогли найти сестру Паулину. А еще мать заставляет нас запомнить адрес и каждый день проверяет, хорошо ли мы его усвоили, совсем как задание в школе.
И вот однажды утром, когда еще темно, город просыпается от криков: „Эй, евреи! Выходите из домов, мерзавцы! Сброд. Juden. Juden“. Ты не знаешь, как звучит слово „еврей“, если оно исходит из ненавидящих тебя уст. Немцы произносили слово „Juden“ как самое страшное ругательство.
Они сгоняют на площадь всех евреев для селекции. По количеству пригнанных грузовиков дед понимает, что это будет самой масштабной селекцией, и не сомневается, что на этот раз возьмут и его семью. По секрету от нас дед организует нам тайное укрытие на чердаке соседнего дома. Когда евреи высыпают на улицу, дед приказывает нам потихоньку выйти через заднюю дверь и подняться по черной лестнице на хорошо замаскированный чердак, который он подготовил вместе с одним другом. Они выложили большие деньги за это укромное место, попасть куда можно только по приставной лестнице. Там хранятся продукты, купленные на черном рынке. Дед и его друг устанавливают строгие правила, сколько человек от каждой семьи можно спасти.
Нацисты окружают все еврейское гетто, а мы — две семьи — поднимаемся по лестнице, ведущей к спасению. Чердак маленький, вентиляции никакой, а с площади доносятся злобные выкрики немцев и шум моторов набитых людьми грузовиков, которые отъезжают от площади. Бабушка так боится и так дрожит, что прячет лицо в волосах моей сестры. Всем страшно, но все молчат. Любой звук может означать смерть.
Вскоре мы слышим, как немцы обыскивают дома, высматривая спрятавшихся людей. Слышатся крики, а потом — выстрелы. У моего отца такой вид, какой всегда бывает, когда он погружается в молитву, уходит от реального мира. Но все остальные здесь, на чердаке, и страх наш так велик, что его можно потрогать рукой.
Внизу, на первом этаже, идет обыск. Это немцы обшаривают уже наше здание. Мы сидим и даже дышать боимся. Слышно, как они поднимаются по ступеням первого этажа, и тут начинает плакать младенец старшей дочери Смитбергов.
Я вижу, как дочь Смитберга переглядывается со своим мужем. Смитберг переглядывается со своей женой. Моя бабушка слышит, как заливается ребенок, и приходит в отчаяние. „Ты, муженек, убил нас всех“, — говорит она деду, когда немцы начинают подниматься по лестнице. Мать младенца прикрывает ему рот, но это не помогает. Младенец на то и младенец, и он надрывается еще пуще. Мать младенца дает ему грудь, но ребенок не берет ее. Крики становятся все истошнее. Тогда отец младенца зажимает тому рот своей большой рукой. Младенец замолкает. Он начинает синеть. Все молчат, пока ребенок умирает прямо на наших глазах. А немцы обыскивают второй этаж. Находят кого-то спрятавшегося, потому что мы слышим автоматную очередь. А потом слышим и кое-что похуже. Мы слышим лай собаки. Спустя мгновение немцы уже под нами, а собака заливается яростным лаем и рвется в наше укрытие.
Нас сгоняют вниз. Стоит такой крик, что я не помню ничего, кроме того, что какой-то немец прикладом валит деда на пол. Я подбегаю к деду, падаю рядом, пытаясь заслонить его от ударов. Мать выкрикивает мое имя. И имя мое становится последним словом в ее жизни. Солдат загоняет ей пулю в голову. Перед моими глазами сверкает огромное лезвие ножа, и кровь деда фонтаном брызжет из его горла, окропляя дальнюю стену. Собака рвет зубами гениталии Смитберга, а он пытается защититься. Потом двое солдата хватают мою сестру, меня и других девушек, тащат вниз по лестнице и там насилуют нас. Сестру насилуют рядом со мной. Кончив свое дело, солдат вытаскивает нож и перерезает ей горло. Других девушек расстреливают и оставляют лежать.
Солдат, что насилует меня, совсем молодой. Немецкий мальчик с испуганными глазами. Мы одни в комнате рядом с мертвыми девушками. Он разорвал на мне штанишки, а когда кончил, то не может смотреть мне в глаза. Он поправляет брюки и стряхивает пыль со своей формы. Он поднимает автомат, чтобы пристрелить меня. Потом опускает его. Прикладывает палец к губам, чтобы я молчала. Затем наклоняется, окунает руку в кровь сестры и обмазывает мне лицо. Кровь сестры еще теплая. Затем он стреляет в мою убитую сестру и знаками показывает мне, чтобы я притворилась мертвой. Я лежу там, пока не уезжают грузовики и не становится совсем тихо. Поднимаюсь и направляюсь к люку канализационной трубы, что ведет к реке. Теперь мне совсем не страшно. Я иду, как мертвая, по нечистотам под улицами, и, добравшись до реки, дожидаюсь наступления ночи. А когда приходит ночь, иду и иду вперед, пока город не остается позади. Моюсь в реке, очищаю себя от крови, а еще от грязи города и того немецкого мальчика, что во мне. Пробираюсь до последнего городского моста и, убедившись, что меня никто не видит, иду через мост. В темноте пытаюсь отыскать ферму, где живут раненый поляк Стефан и его мать Кристина. В ушах у меня звучит материнский голос: „Найди Кристину. Отыщи Стефана. Они какое-то время позаботятся о тебе. Но они очень бедны. Ты не сможешь у них долго оставаться. Другие поляки выдадут тебя немцам. Немцы придут и убьют всех вас“.
Звезд на небе нет, кругом кромешная тьма, дорога черная, и я ничего не вижу, но продолжаю идти. Иду и думаю о родных, молюсь за них всю длинную, длинную ночь, что я иду к этим Стефану и Кристине.
Утром я останавливаюсь перед маленькой фермой и вижу, как из дома выходит мужчина с сигаретой в зубах. Я надеюсь узнать дорогу к ферме Стефана. Смотрю на лицо мужчины, и мне оно не нравится. Крадучись, иду дальше, пока не добредаю до еще одной фермы. Там я вижу девушку, чуть постарше меня. Я вижу еще мужчину в поле, но тот далеко. Я подхожу к ней и заговариваю, чувствуя, что умираю от голода. Она удивлена, но все же подходит ко мне и смотрит, словно со мной что-то не так. По моим ногам течет кровь, совсем немного, из-за того, что произошло со мной накануне. Девушка ведет меня в дом, к матери и двум младшим братьям. Я спрашиваю о Стефане и Кристине, и тогда мать говорит дочери, что я еврейка, и приказывает ей отвести меня туда, где нашла.
И мы пошли. Но прежде польская девушка отводит меня в амбар и дает куриное яйцо. Потом берет меня за руку и ведет через поля. Проходя мимо фермеров, она машет им рукой и меня заставляет махать, словно ничего не случилось. Хотя между нами не было сказано ни слова, я знаю, что она ведет меня к дому Кристины. Мы проходим мимо ручья, и она заставляет меня вымыть ноги. Мы идем долго-долго, но это только так кажется, потому что я очень голодна. Приходим в дом к Кристине и Стефану, и они рады меня видеть. Прежде чем девушка ушла, я иду в комнату и отрезаю пуговицу. Выхожу с ней во двор, даю девушке монету и благодарю. Первая золотая монета переходит ей. Первая пятирублевая монета с изображением царя Николая Второго.
Я понимаю, что представляю опасность для Кристины и Стефана. Они прячут меня в хлеву, где свиньи. От свиней идет такая вонь, что даже немецкие собаки не смогли бы учуять маленькую еврейскую девочку. Оба предупреждают меня, что муж Кристины ненавидит евреев и ему нельзя говорить, где я прячусь. Я все понимаю и говорю, что не знаю, умер ли мой отец, и хочу найти его и разделить с ним его судьбу, какой бы она ни была. Кристина и Стефан как-то странно переглядываются, и мать велит Стефану кое-что показать мне, но очень осторожно.
Они дают мне поесть, и Стефан ведет меня через поля, а потом вверх по пологому холму, где много деревьев. Мы еще не добрались до тех деревьев, а я уже слышу выстрелы. Стефан говорит, чтобы я сидела тихо и что мы должны спрятаться, иначе немцы нас убьют. Внизу, в долине, я вижу грузовики, из которых высаживают сотни и сотни евреев. Огромные ямы уже вырыты. Немцы заставляют несчастных евреев снять всю одежду и выстроиться у края рва. Маленькие дети плачут и хватаются за руки своих матерей. Старые женщины. Старые мужчины. Младенцы. Все падают в страшный ров. Потом другие пленные начинают лопатами бросать известь и землю на мертвые тела. Расстрелянных так много, что и сосчитать невозможно. Я ищу отца, но разве можно найти его среди всех этих людей из грузовиков, да и мы так далеко, что все они похожи на муравьев. В конце концов я отворачиваюсь и плачу, пока не кончаются слезы. Мне тринадцать лет. Стефан молча смотрит, а я плачу, пока не заходит солнце и не отъезжают грузовики.
Стефан хочет вернуться домой, но я не иду. Вместо этого я вылезаю из укрытия и бегу вниз, к подножию холма. Я все бегу и бегу, а спуск все не кончается. Сначала Стефан пытается остановить меня, потом все понимает и бежит следом. Он знает, что я просто хочу проверить, а вдруг отец остался в живых и лежит где-то в поле. Когда я добираюсь до поля, с неба уже светит луна. Пахнет кровью, известью и экскрементами. Я что-то слышу, только не понимаю, что именно. Я выхожу на поле, а Стефан идет сзади, словно посланник Бога, словно ангел-хранитель. Я начинаю звать отца. Иду по изрытой земле и выкрикиваю имена всех членов нашей семьи. Я что-то слышу. Вдруг чувствую, что земля подо мной начинает шевелиться. И я понимаю, что слышу крики евреев из-под земли. Их рты находят воздушный карман, они молят о помощи, пока не кончается воздух. Все подо мной корчится в агонии, и земля шевелится под ногами. И я с ужасом понимаю, что каждый мой шаг приходится на еще живого человека. Они шевелятся, потому что я иду. И вот, ступая по полуживым евреям, моим соседям из Кронилова, я зову своего отца. Стефан наконец ведет меня назад, в мое убежище, и каждый день приносит мне еду, пока однажды его отец не выслеживает его и не обнаруживает меня.
Его отец большой, сильный мужчина, и он страшно зол на Кристину и Стефана. Как посмели они без его спроса спрятать на ферме еврейку? Они говорят ему, что моя мать спасла Стефану жизнь, но этого человека невозможно растрогать. Он говорит, что убьет еврейку и скормит ее тело свиньям, если она завтра не уберется. В тот же вечер Кристина и Стефан ведут меня в лес и там прячут. Потом как-то утром Кристина говорит, что ее брат отвезет меня к сестре Паулине. Ее брат Юзеф повезет в фургоне на рынок в Варшаве коровьи шкуры и спрячет меня между ними. Перед уходом я даю Стефану и Кристине по монете за то, что спасли мне жизнь, затем сообщаю Юзефу адрес, что мать зашила мне с изнанки платья, адрес монастыря сестры Паулины.
Несколько дней я погребена под коровьими шкурами. Нас часто останавливают немецкие патрули, но Юзеф везет шкуры, из которых будут шить сапоги для немецких солдат, так что проблем нет. Вечером мы приезжаем в старую часть Варшавы, и я никогда еще не видела такого большого, красивого города. Мы переезжаем через Вислу, и Юзеф говорит мне, что это самая большая река в мире. И действительно, река кажется бесконечной. Он показывает мне свои любимые места в городе. Он очень гордится столицей своей родины. И он очень гордится тем, что он поляк, поэтому, когда мы встречаем на пути немцев, Юзеф приподнимает шляпу, а проехав мимо, бормочет, что с удовольствием добавил бы угля в адский огонь, чтобы их души вечно горели в аду. Он очень смешной человек и очень добр ко мне.
Наконец мы приезжаем на нужную улицу. Юзеф подходит к двери, берется за медное кольцо и стучит. Подмигивает мне.
На стук выходит старая монахиня и говорит с Юзефом. Он указывает на фургон, и монахиня отрицательно качает головой. Разговор идет на повышенных тонах, и монахиня уходит. Затем к двери подходит другая сестра и начинает спорить с Юзефом. Опять незадача. Но Юзеф упрямый человек, он хочет говорить только с одной сестрой, и только она подойдет. Наконец в дверях появляется другая монахиня и выслушивает Юзефа. Я уже знаю, что на этот раз все будет по-другому, потому что она выходит из тени и приближается ко мне. „Это дочь Ханны?“ — спрашивает она, и я киваю и знаю, что это Паулина.
На прощание я целую Юзефа в обе щеки и сую ему в карман мамину монету. Я делаю это незаметно, так как уверена, что он не примет подарок.
Паулина отводит меня к матери настоятельнице, которая говорит, что я могу остаться, хотя одна монахиня не одобрила это решение. Монахиня по имени Магдалена считает, что если еврейке позволят остаться в монастыре, сестер будут пытать, убьют и изнасилуют, а потом еще и осквернят Святые Дары. Эта сестра говорит, что еврейке не место в монастыре, предназначенном для молитв и тяжкого труда. Но другие монахини не желают слушать эту самую Магдалину.
Затем Паулина, к моему удивлению, говорит, будто я пожелала стать католичкой. Мать-настоятельница спрашивает меня, правда ли это, и я отвечаю „да“. Потом Паулина говорит, что если я стану католичкой, то, возможно, захочу стать и монахиней. И я снова соглашаюсь, потому что замечаю, что Магдалина ненавидит евреев не меньше любого нациста. Я киваю, улыбаюсь матери настоятельнице и говорю, что очень хочу стать монахиней.
В ту ночь я рассказываю Паулине о своей семье, о своей матери. Она горько плачет, потому что любила мою мать. Паулина тут же коротко стрижет мне волосы и одевает меня в форму послушницы. Месяц я живу с ней в одной комнате, и она день и ночь учит меня молитвам и катехизису. Я учусь весь день, а Паулина говорит, что я учусь спасать свою жизнь. Она учит меня осенять себя крестным знамением, преклонять колени перед алтарем и окроплять себя святой водой перед тем, как войти в церковь. Она говорит мне: „Руфь, это поможет спасти твою жизнь, если немцы тебя поймают“. Каждое утро я хожу с ней к мессе и внимательно наблюдаю за каждым ее движением. Я поднимаюсь, когда поднимается она. Я встаю на колени, когда встает на колени Паулина. Я читаю молитвы на латыни, учусь перебирать четки и читать все известные молитвы, и я все время молюсь.
В монастыре я живу два года. Каждый день я причащаюсь, я пою псалмы, я хожу на исповедь. Но у меня есть тайна, которую я храню от всех. Когда я впервые пришла в монастырь, на мне было платье с золотыми монетами, вшитыми в пуговицы, которое Магдалина приказывает отдать бедным. Я не могла просто так взять и отдать платье, так как оно может мне пригодиться, если что-то случится. Итак, однажды ночью, когда все спят, я отношу платье в церковь, примыкающую к монастырю, нахожу боковой придел, где стоит статуя Девы Марии. Под статуей есть выемка, и туда я прячу платье с монетами.
Каждый день я хожу к статуе Девы Марии, перебираю четки и читаю молитвы. Паулина и мать настоятельница замечают это, но думают, что я чувствую особое расположение к Святой Деве. И им это нравится, они даже поощряют меня. Я не могу каждый раз дотрагиваться до своего платья, но иногда делаю это, если рядом никого нет, потому что эту ткань когда-то держала в руках моя мать и каждый стежок был сделан женщиной, которую я люблю и которую никогда больше не увижу. И я успокаиваюсь, когда молюсь этой Марии. Я молюсь ей, как еврейская девушка еврейской девушке. Я говорю: „Мария, Ты еврейка, и я еврейка, ты воспитала Сына так, чтобы Он жил по еврейским законам, и меня так воспитывали. И я, как еврейка, прошу Тебя о помощи, Мария. Прошу Тебя помочь мне пережить все это. Если кто-то из моей семьи все еще жив, прошу Тебя, спаси и сохрани их. Я по-прежнему правоверная еврейка и останусь еврейкой, потому что я такая и есть. Такая, какой и Ты когда-то была. Прошу Тебя и Твоего Сына защитить меня. Скажи Ему, что я просто бедный еврейский ребенок, каким и Ты когда-то была. Таким, каким Он был в Назарете, когда рос в семье бедного плотника. Прошу Тебя, защити меня, сестру Паулину и других добрых сестер. Если Ты накажешь сестру Магдалину, я не стану переживать, потому что она ужасная антисемитка и, как мне говорили, названа в честь падшей женщины“.
Однажды после вечерней службы в церкви я молилась Марии и вдруг почувствовала, как на меня дохнуло холодом, дохнуло чем-то плохим. Я быстро осеняю себя крестным знамением, поднимаюсь, чтобы вернуться в свою крошечную келью, и тут слышу какой-то шум в коридоре, ведущем в монастырь.
Потом я вижу, что в церковь входят сестра Регина и сестра Паулина, и руки их сложены, так что не видно кистей. За ними идет эсэсовский офицер. Это был подтянутый невысокий человек. Его форма внушает мне ужас, который я чувствую до сих пор. Лицо у него бескровное и надменное. Я останавливаюсь и почтительно склоняю голову перед матерью настоятельницей.
„Jude?“ — спрашивает меня немец.
„Нет“, — качаю я головой.
„Ты лгунья, как и все евреи“, — говорит он.
„Она одна из нас, — вступается за меня сестра Паулина. — Мы с ее матерью росли рядом. Нас крестили в одной церкви. Нас с ее матерью вместе готовили к конфирмации“.
„Поляки лгут не реже, чем евреи“.
„Вы хотели увидеть девушку, — говорит сестра Регина. — Вы ее увидели и теперь знаете, что она полноправный член нашего ордена“.
„Нам донесли, что вы скрываете евреев, — заявляет эсэсовец. — Эта девушка специально сменила веру“.
„Она католичка“, — настаивает Паулина.
„Вы можете поклясться, что она родилась католичкой?“ — спрашивает эсэсовец.
„Клянусь“, — отвечает сестра Паулина.
„Вы будете вечно гореть в аду за то, что спасли еврейку“, — говорит эсэсовец.
„Я с радостью буду гореть в аду за то, что спасла чью-то жизнь“, — кивает монахиня.
„Я уже не верю ни в Бога, ни в волшебные сказки“, — произносит немец.
„И все же вы верите в Гитлера“, — замечает Паулина.
„Я верю в великую Германию!“ — восклицает он.
„Здесь нет евреев, — говорит сестра Регина. — У нас вам нечего делать“.
„Как долго вы учили эту еврейку?“ — спрашивает он и начинает ходить вокруг меня, принюхиваясь, словно меня может выдать какой-то особый запах.
Никогда в жизни мне еще не было так страшно. Я чувствовала, как кровь стучит в ушах.
„Я когда-то учился в берлинской семинарии. Какой ангел явился к Марии, чтобы провозгласить, что Она станет Матерью Божьей?“ — обращается он ко мне.
Эсэсовец улыбается сестрам и смотрит на меня.
„Деве Марии явился Архангел Гавриил“, — отвечаю я и вижу, как улыбается стоящая за спиной у немца Паулина.
„Какое название получило это событие в католическом мире?“
„Благовещение“, — отвечаю я.
Немец приказывает мне прочесть все молитвы по четкам, и я читаю их слово в слово. Затем он попросит меня назвать двенадцать апостолов, но я могу назвать лишь одиннадцать. Я пою ему псалом на латыни „О Salutaris Hostia“, восхваляющий Святые Дары, рассказываю об Акте покаяния и произношу слова, что говорю священнику в исповедальне.
Все идет так хорошо, что мне даже нравится эта проверка моей веры. Он усыпляет мою бдительность, убаюкивает, склоняет… к доверию. Ведет себя дружелюбно, у него даже глаза теплеют, и я забываю, что он немец и эсэсовец. Я сосредоточиваюсь на вопросах, трудных даже для католички.
И вдруг он удивляет меня вопросом:
„Чем занимается твой отец?“
Я даже не замечаю, что вопрос он задает на идиш, и машинально отвечаю:
„Он раввин“.
Стоящая позади эсэсовца сестра Регина осеняет себя крестным знамением, а Паулина крепко сжимает руки под складками монашеского одеяния. Я вижу только ее милое лицо, которое вдруг становится совсем белым. Немец довольно улыбается. Меня заманили в ловушку, и я понимаю, что погубила не только себя, но и всех монахинь и послушниц монастыря.
„Мы не знали, что эта девочка еврейка“, — говорит сестра Регина.
„Вы прекрасно это знали, сестра, — отвечает эсэсовец. — Я сразу все понял, как только ее увидел. У евреев особая внешность, которую не спрячешь даже под монашеской косынкой“.
„Девочку привез католик, — произносит Регина. — Ее родители убиты“.
„Сегодня к нам в гестапо явилась монахиня, чтобы вас разоблачить. Она также сказала мне, что вы прячете на колокольне коротковолновый приемник, предназначенный для бойцов польского Сопротивления. Это так? И больше не смейте мне лгать“.
„Все верно. Мы монахини, но в то же время мы польки“, — заявляет Регина.
Потом немец берет меня рукой за подбородок и заставляет смотреть ему прямо в глаза.
„Я достаточно навидался, как умирают евреи, так что это зрелище меня больше не волнует. Так почему меня должно волновать, если один еврей останется в живых? Сестры, я хочу, чтобы к завтрашнему утру радио было убрано, — говорит офицер. — Монахиню, которая вас выдала, зовут Магдалина. Это она сообщила мне о еврейке и о радио“.
„Радио не будет, — отвечает Регина. — Можем мы оставить Руфь? Она обратилась в нашу веру, и мы думаем, что из нее выйдет хорошая монахиня“.
„Я хороший солдат, но я еще и человек. Помолитесь за меня, сестры“, — произносит он, поворачиваясь, чтобы уйти.
„Мы будем за вас молиться“, — обещает сестра Регина.
„Помолись за меня, еврейка“, — улыбается он.
„Я тоже буду молиться за вас“, — отвечаю я.
Мы слушаем щелканье его каблуков по коридору и долго-долго молчим. Страх лишает нас языка.
„Что будем делать с сестрой Магдалиной?“ — спрашивает сестра Паулина.
„Некоторое время она проведет в главном монастыре. Изоляция пойдет ей на пользу“.
„А что, если она найдет другого немецкого офицера и все ему расскажет…“ — заикнулась было Паулина, но Регина предупреждающе подняла руку.
„К утру радио у нас не будет. Необходимо предупредить кого следует“.
„Ты должна забыть, что когда-то знала идиш“, — велела мне сестра Паулина.
„Простите, что я не сумела назвать всех двенадцать апостолов, сестра Паулина“.
„Ты забыла Иуду, — ответила Паулина. — Но надеюсь, Магдалина запомнит его навсегда“.
Но польское подполье уже разыскивало юную еврейскую девушку, которую звали так же, как меня, и чья мать, родом из украинского города Кироничка, много лет назад переселилась в Польшу. Два месяца спустя ночью в монастырь приехал человек, чтобы задать мне множество вопросов относительно моего прошлого. Он сказал, что американский еврей по фамилии Русофф заплатил огромные деньги, чтобы вызволить меня. Я отвечаю, что у меня нет родственников в Америке. Но Паулина успокаивает меня, объясняя, что этот Русофф знает многих американских политиков и, должно быть, очень знаменитый и влиятельный человек, раз уж добрался до раздираемой войной Польши. Паулина берет из рук связного письмо и удивленно восклицает: „Слава богу! Это твой дядя Макс. Он был братом твоего отца“.
На обратной стороне конверта был написан адрес: „Макс Русофф, Общие перевозки, Уотерфорд, Южная Каролина“. До этого момента я и не слышала о Южной Каролине.
Проходит еще несколько месяцев. Пора уезжать, и в честь моего отбытия проводят торжественную мессу. Поздно вечером, после мессы, я достаю платье, сшитое моей матерью. Ночью за мной приезжает высокий поляк. Я готова, и все монахини и послушницы выходят меня проводить. У меня с собой почти нет багажа. Я уже успела спрятать золотую монету под подушку сестры Паулины. Я обнимаю Регину и остальных монахинь. Прощаюсь с другими послушницами. Все они очень добрые девушки, но я не слишком хорошо их знаю. После войны я узнаю причину. Почти восемьдесят процентов из них еврейки вроде меня, и монахини считают, что ради безопасности нам следует как можно меньше знать друг о друге.
Последнее, что говорит мне Паулина, это слово „siostra“. По-польски это значит „сестра“.
Я говорю, что очень ее люблю, называю ее siostra и иду за высоким поляком.
Много дней меня тайком куда-то везут и однажды сажают на рыбацкое судно и прячут в трюме. Прежде чем вручить меня моей судьбе, поляк расцеловывает меня в обе щеки и желает счастья в Америке. Мне не суждено узнать его имя, потому что в те времена такое знание может быть опасным. Он машет мне рукой и говорит — я до самой смерти буду помнить эти слова — „Да здравствует свободная Польша!“
Макс Русофф и его доброе семейство выкупили меня, вырвав из рук врагов. Некоторое время спустя я схожу с корабля в Южной Каролине, и меня встречают сотни незнакомых людей. Один из них выходит вперед. Это Макс Русофф, прозванный Великим Евреем. За ним стоит его жена Эсфирь. Эти люди, которые меня совсем не знают, нежно меня обнимают. Эти люди, не состоявшие со мной в родстве, воспитывают меня как родную дочь. Эти люди, которые ничего мне не должны, возвращают мне жизнь. Мне удается избежать концлагеря и личного номера на руке. После всего этого, в отличие от мужа, я не так ожесточилась. После всего этого я считаю, что на свете много хороших людей и этой бедной еврейской девочке очень повезло встретить их посреди страшной войны. Вот и все. Мне нелегко дался этот рассказ. Но это то, что со мной случилось. То, чего я никогда не забуду».
После долгой паузы я наконец решился спросить:
— А в Америке вы носили платье, которое сшила ваша мама?
— Нет, — ответила Руфь. — Я из него выросла. Но я привезла его с собой. Оно принесло мне удачу во время путешествия.
— Где это платье сейчас?
— В прикроватной тумбочке, в ящике, — сказала Руфь.
— Сколько монет у вас осталось, когда вы приехали в Америку? Вы, кажется, почти все раздали?
— Три. Осталось только три. Когда я впервые надела платье, оно было очень тяжелым. А когда приехала в Америку, стало совсем легким.
— Кулон Шайлы?… — произнес я.
Руфь потянула за золотую цепочку, висевшую на шее, и вытащила кулон, сверкнувший на солнце. Это была одна из оставшихся пятирублевых монет.
— Я никогда не снимаю этот кулон. Никогда, — сказала она.
— Шайла тоже не снимала, — бросил я. — До самого конца.
— Моя дочь Марта носит третий. Она тоже не снимает его.
— Хранительница монет? — спросил я.
— Статуя Девы Марии в церкви, — отозвалась Руфь. — Я совершила ошибку, сказав Шайле, будто думаю, что именно Богородица спасла меня. Но я правда так думаю. Я молюсь Святой Деве, хранительнице монет. Я сказала Шайле, что думаю, будто Богоматерь сжалилась надо мной. Она увидела перед собой еврейскую девушку, и, наверное, я напомнила Марии Ее в молодости.
— Так вы считаете, что это Дева Мария являлась Шайле? — спросил я. — Именно Ее видела она в своих галлюцинациях?
— Да, Джек. Именно так я и считаю, — ответила Руфь. — Если бы я не рассказала Шайле эту историю, возможно, моя дочь до сих пор была бы с нами. Меня не оставляет мысль, что своим рассказом я помогла убить свое дитя.
— Я так не думаю. Хотя в каком-то отношении это очень даже мило.
— Как это? Не понимаю.
— Мария поступила очень даже мило, явившись Шайле после вашего рассказа обо всех ужасах войны. Очень любезно с Ее стороны, Руфь. Еврейская мать христианского Бога просит прощения за то, что случилось с родителями еврейской девушки во время тяжкого испытания, выпавшего на долю польских евреев. Как мило со стороны Богоматери!
— Такого не бывает, — не согласилась Руфь.
— Очень плохо. А должно бы.
— Джек, муж хочет поговорить с тобой, — просительно улыбнулась Руфь.
— О чем?
— Он мне не сказал.
В тот вечер, после того как Ли с Джорджем вернулись с фестиваля Сполето, мы ужинали с Фоксами. Поскольку Ли очень устала, я разрешил ей переночевать у дедушки с бабушкой и пообещал заехать за ней утром. Пока я рассказывал ей очередную историю, она уснула в кровати Шайлы в окружении плюшевых медвежат, которых когда-то так любила ее мать. Я нежно поцеловал дочку в щеку и представил себе свою ярость и отчаяние, если бы в дом ворвались солдаты, способные убить ребенка. Снизу доносились негромкие звуки симфонии № 41 Моцарта, и именно это заставило меня искать общества Джорджа Фокса.
В музыкальной комнате на первом этаже Джордж Фокс слушал музыку, пил коньяк и о чем-то думал. Даже находясь в собственном доме, сидя на собственном диване, Джордж напоминал затравленного падшего ангела. Когда я подошел к нему, он подпрыгнул от неожиданности, и только тогда я понял, что любой посторонний человек казался Джорджу переодетым эсэсовцем. Мне хотелось сказать тестю что-то очень хорошее, отвлекающее, но на ум ничего не приходило.
— Ты какой-то бледный, Джек, — наконец нарушил молчание Джордж. — Выпей-ка со мной коньяку.
— Руфь потеряла всю свою семью. Я всегда это знал. Но оказывается, я не знал ничего.
— История, которую ты только что выслушал… — начал Джордж, глядя мне прямо в глаза. — Руфь винит себя в смерти Шайлы. Но я с ней не согласен.
— Почему? — удивился я.
— Потому что я считаю, что Шайлу убило то, что случилось в Европе со мной. А я еще никогда и никому не рассказывал всю историю целиком. Никто не слышал о том, что случилось, так как я думаю, что у того, кто услышит об этом, навсегда пропадет сон. Но знаешь, что я понял, Джек? Я понял, что убивает человека именно нерассказанная история. Думаю, Шайла умерла не из-за того, что рассказала ей Руфь, а из-за того, что не рассказал ей я. Я думал, что молчание — лучший выход для меня и лучшая линия поведения. Я не предполагал, что моя ненависть, горечь и стыд просочатся наружу и отравят все, что я любил.
— Темнота… — произнес я. — Вот с чем ассоциируется у меня ваше имя.
— Джек, могу я рассказать тебе о том, что случилось со мной? — спросил Джордж Фокс, устремив глаза вдаль, на реку и звезды. — Захочешь ли ты меня слушать? Только не сегодня. Как-нибудь на днях.
— Нет, не думаю, что мне нужно это слушать, — ответил я. — С меня хватило рассказа Руфи.
— Есть причина, по которой мне хотелось бы все тебе рассказать, — отозвался он. — Мы никогда не любили друг друга, Джек. И даже не старались это скрыть. Так?
— Да, — согласился я.
— Но ты воспитываешь Ли как еврейку. Это меня удивило.
— Я выполняю обещание, данное Шайле.
— Но Шайла мертва, — возразил Джордж.
— Для меня она достаточно жива, чтобы я сдержал свое обещание.
— Хочешь коньяку?
— Да, — кивнул я и сел, оказавшись лицом к лицу со своим старым врагом.
— Ты вернешься, чтобы выслушать мою историю? — спросил Джордж и произнес слово, которое я дотоле ни разу от него не слышал: — Пожалуйста.
Назад: Глава двадцать девятая
Дальше: Глава тридцать первая

