ОБКАТКА СИБИРЬЮ
Пришла зима. Белыми снегами легла на желтые и черные провалы от шахтовых выработок, залепила, занесла прокопченные заборы, крыши, щербатые, искрящиеся от угольной пыли дороги. Поселок посвежел и помолодел. С первых же дней навалились морозы. Нас пугали морозами еще в Белоруссии. Но беда пришла совсем с другой стороны. Сибирский мороз не тяжел, нет пронизывающих, как в Европе, ветров, нет сырости. Воздух сух, чист и неподвижен. В морозные дни на небе появляется солнце. Раздвигается горизонт, яснеют дали. И хочется шагать и шагать в эти дали.
Хороша сибирская зима, но были мы белорусами. И как волка ни корми, он все равно в лес глядит. Леня Дрозд, Коля Казерук, Толик Беленький и я понесли на почту письмо. С недавних пор мы стали писать письма ежедневно: любимым и нелюбимым воспитателям и учителям, детдомовским парням и девчатам. Безбожно привирали насчет жестоких сибирских морозов, оптимистично, красочно описывали свою фезеушницкую, в общем-то однообразную жизнь. И ни слова не говорили, как мы скучаем по белорусской оттепели, по детдому.
Толя Беленький запнулся и упал.
— Сколько бы раз согласился упасть, чтоб хоть на денек очутиться в детдоме, в Белоруссии? — спросил я его.
— Пошел бы пешком и через каждый бы шаг падал, — ответил он без улыбки.
— Не выдержал бы.
— Я бы выдержал, — поднял правую бровь будто прикидывая расстояние, Коля Казерук. — Дополз бы.
Мы все одновременно взглянули на заходящее красно-алое солнце, на запад.
— Недолго осталось ждать. Скоро будем учиться делать пассатижи. За каждые пассатижи будут платить по тринадцать копеек.
— Двести пассатижей, и жесткий вагон до детдома обеспечен, — перебивает Дрозда Казерук, — всего лишь двести...
— Сделаю, — поджимает губы Беленький.
Но до пассатижей еще далеко. Пока я колочу березовые чурки. Почему-то принято в каждом детдоме учить ребят столярному мастерству. Обучение начинается весной, с прилетом птиц, со скворечен. Неделю все детдомовцы пилят, строгают. Неделю по детдомовскому двору ветер кружит белую витую стружку и за сотни метров от детдома разносит густой аромат смолы. Возле столовой, жилых корпусов, сараев и мастерской — повсюду обрезки досок-шалевок. Руки, ноги ребят, их штаны и рубашки в прикипевших белых кружевах смолы. За скворечнями обычно следуют табуретки. Тут уж смола на одежде чернеет, энтузиастов столярного дела становится все меньше. Все реже заходит в мастерскую директор детдома, все чаще куда-то подозрительно исчезает мастер, обычно старик из столяров-самоучек. В его отсутствие ребята спешно сбивают себе чемоданы. Страсть у детдомовцев к чемоданам такая же, как у старух к сундукам. Оно и понятно — все вокруг государственное, то есть мое, но только не совсем лично мое, а общее, или по-детдомовскому, казенное. От зубной щетки до носового платка. А так хочется, чтобы у тебя было что-нибудь по-настоящему только твое. Пусть даже это твое — никому не нужный хлам с городской свалки: книга без переплета, ржавый болт, перегоревшая лампочка. До чего же хорошо, когда опустеет комната, вытащить из-под кровати чемодан, оглядеться по сторонам и раскрыть его, посмотреть и погрустить над своим богатством. А потом спрятать чемодан от всевидящего ока воспитателя. Он каждый день утром, в полдень, перед отбоем, зимой, летом, осенью будет приказывать тебе: «Не захламляй комнату, сдай чемодан в кладовку...»
Ты клятвенно заверяешь, что непременно сегодня сдашь. И так круглый год живешь в заботах о своей личной собственности, кажущейся тебе бесценной. И каждый раз перед отбоем душу согревает маленькая радость: а чемодан-то под кроватью. И чемодан этот — первый предвестник неведомой жизни за стенами детдома.
Вот и стучат по весне дружно и весело молотки, радуют сердце директора, но недолго. Вскоре на мастерскую навешивается замок. Мастер исчезает совсем. А шалевка, сороковка и обапол гниют под забором до новой весны, прилета птиц...
Истопник заезжал в мастерскую с тележкой и грузил в нее чурки лопатой. На этих чурках мы отрабатывали удар: кистевой, локтевой и плечевой. На чурки, зажатые в тиски, ложились большой и указательный пальцы, и надо было умудриться не попасть по ним, рубануть молотком со всего плеча в малюсенький кружок между указательным и большим пальцами. Левая рука, пальцы у каждого из нас были в кровоподтеках и ссадинах. На возвышении, возле выстроившихся в два ряда тисков, как Будда, восседал мастер в своем неизменном в искорку костюме, в сатиновых блестящих нарукавниках и следил, чтобы не было халтуры:
— Пятнадцать минут на кистевой. Начали. И-раз, и-два...
Он охватывал взглядом всех и улыбался почти счастливо, когда кто-нибудь из нас вскрикивал. Наш мастер всего лишь год назад прошел ту школу, которую мы проходили сейчас, и его, наверное, радовали воспоминания.
И все же пришел и наш праздник. Мы получили металл. Синюшные, невероятной толщины заготовки для пассатижей. У мастера пропала улыбка. Он любил металл. И мы полюбили.
— Даешь двести пассатижей, — подмигнул мне Леня Дрозд.
— Я триста. Кто больше?
— Хватит с меня и двухсот, — мрачно, зажимая заготовку в тиски, буркнул Казерук.
— Никому не надо повторять, как работать с напильником? — в последний раз спросил Дмитрий Васильевич.
— Да чего там... Ясно...
Взвизгнул, закричал под напильниками металл. Посыпалась на верстак серая стружка. Все двадцать пять пар первых напильников вышли из строя, годились разве только для очистки морковки. У мастера, как месяц назад в колхозе, покраснели и воспалились глаза. Едва успев перекусить, придя из мастерской, мы заталкивали под кровати бушлаты и заваливались спать, кто потому, что стояла зима и было скучно, а кто просто за компанию, как медведь, впрок.
У наших воспитателей и учителей в Белоруссии, наверное, кончилась бумага. Отвечали нам только девчата да друзья спрашивали, как попасть в наше чудесное ФЗО. А мы делились друг с другом детдомовскими воспоминаниями. Вспоминали сад, лес, речку, каждую ее излучину. И письма домой получались особенно душевными и веселыми, а тоска становилась все глуше.
Наступили октябрьские праздники. ФЗО опустело, остались только детдомовцы. В тишине и одиночестве особенно бросалась в глаза убогость нашего жилья. Выщербленные, в подтеках воды, промасленные, протертые до штукатурки задами и спинами стены коридоров, пропитанные мазутом и машинным маслом полы. И повсюду запах мазута, машинного масла и кислого варева.
А за окном черный от копоти снег, грязный и лохматый иней на проводах.
А в детдоме на седьмое ноября нам давали подарки. И мы не ходили в школу. Днями гоняли по улицам на коньках, бросались снежками, вечерами смотрели кино, а после отбоя рассказывали жуткие истории, играли в чехарду. Я был в старшей группе, и в нашей комнате в праздники собирались девчата и ребята. Мы выкапывали в сарае запрятанные для праздника яблоки, раскладывали на столе подарки, веселились и пели за полночь. Робко, таясь друг друга, влюблялись. Ловили быстрые и смущенные взгляды девчонок, подкладывали им под подушки наборы «Мойдодыра», с перехваченным дыханием, пугаясь собственных теней, скользили по коридору в свои комнаты. А тени на белых стенах коридоров при свете единственной пятнадцатисвечовой лампочки были так угрожающе лохматы, что и сейчас сладко замирает сердце. Запах антоновок, путинок, неповторимый запах праздника и веселья, в котором и первые девичьи духи, и восторг, и подъем собственного сердца, и дымок от березовых сухих поленьев, и ожидание волшебства, чуда. Как далеко все это...
Серо и зябко покатились дни и после праздников. И единственным утешением был металл, работа. Мы набросились на нее, как собака на кость. Металл стал к нам добрее, уступчивее и податливее. Больше не визжали напильники. Они входили в металл твердо и послушно, гнали крупные опилки. И синела от злости сталь, напрягались и постанывали тиски.
Я стою рядом с Дроздом. Напротив нас за проволочной сеткой Казерук и Беленький. Мы сдаем мастеру после смены по две пары пассатижей каждый. Это рекорд. Дмитрий Васильевич с каждым днем все придирчивее и придирчивее меряет их штангенциркулем и даже микрометром. Но время брака кончилось, мы набили руку, и мастер только хмыкает. Наконец он не выдерживает:
— Что вы так гоните, ребята? — спрашивает он меня и Дрозда.
Дрозд хитрый. Улыбается и тут же отворачивается. Я отвечаю мастеру грубо и резко:
— Деньги нужны. За деньги стараемся.
Дмитрий Васильевич смотрит на меня с ехидненькой улыбочкой:
— Курить начали? Тринадцать копеек — пачка «Прибоя» и коробка спичек — так?
— Хуже, Дмитрий Васильевич. Тринадцать копеек маленькая кружка пива с верхом...
Улыбка мастера гаснет:
— А если серьезно?
— Очень серьезно, Дмитрий Васильевич, — рубит вдруг Дрозд. — Мы в Белоруссию хотим съездить, на день-два, в детдом...
— Я отпускаю вас сегодня. — Мастер не смотрит на нас. — Поспите, а лучше сходите в бор.
Вечером Дмитрий Васильевич приходит к нам в комнату. Долго рассказывает о себе, о своем доме в деревне на Украине и приглашает нас к себе в гости. Мы отправляемся вчетвером и остаемся у него ночевать. А на следующей практике мастер всей группе раздает заготовки молотков, а наша четверка получает слесарные ножницы.
— За них платят подороже, пятьдесят копеек пара, — говорит он. — Тоже не заработок. Но мы что-нибудь придумаем.
Я исхожу потом. Мы делаем ножницы. Мастер прав: это не заработок. Заготовки отштамповали специально для нас, фезеушников, чтобы мы больше потели и учились: у каждой припуск по полсантиметра. А что такое опилить полсантиметра напильником... Десять потов, кровавые мозоли, боль в пояснице. Кроме того, к новому изделию надо еще приноровиться. И мы вспоминаем, что ножницы стоят пятьдесят копеек, только тогда, когда сдаем их мастеру. Мастер принимает от нас изделия все так же с улыбкой. Больно уж часто он улыбается, а если улыбается — значит, жди пакостей. Мы все время настороже.
Но ничто в нашей жизни и в наших отношениях не меняется. Мы по-прежнему усердно опиливаем слесарные ножницы, ручные тиски, круглогубцы и плоскогубцы. А вечерами подсчитываем, кто уже сколько километров проехал до Белоруссии. Михайло Волков, открывший здесь уголь, первые русские землепроходцы двигались пешком быстрее нас. Подсчитывать заработок помогает нам и Дмитрий Васильевич. Вечерами он пропадает в нашей комнате. Поначалу было неуютно с ним. Но сейчас привыкли. Иногда нам кажется, что он из нашего детдома и так же, как мы, тоскует по ребятам, по детдому. Он с интересом слушает наши рассказы и рассказывает сам о своей деревне на Полтавщине, об отце, матери. У него тоже была несладкая жизнь. Хуже еще, чем у нас. В детдоме нам не надо было думать о завтрашнем дне, о еде: придет время — накормят, спать уложат. А ему у отца с матерью не всегда удавалось и поспать и поесть вовремя.
Мы принимаем Дмитрия Васильевича за своего, и он чувствует это. И однажды вечером, собравшись уходить, уже попрощавшись, снова садится к столу.
— Вот какое дело, — трудно и издалека начинает Дмитрий Васильевич. — В общем, спасибо вам. План по изделиям наша группа уже перевыполнила. Давно такого в нашем ФЗО не было. Но... вы только не подумайте, это правда. В ФЗО на практических занятиях никто еще не зарабатывал двадцать шесть рублей, да и то, получите ли вы их, вопрос...
Мы ничего не можем понять.
— Как же так, Дмитрий Васильевич, мы же считали вместе?
— Теоретически все верно. Но практически... Не всегда эти деньги и выплачивают. Есть что-нибудь в кассе училища — выдают по пятерке каждому. Нет...
— Будем жаловаться, Дмитрий Васильевич. Нам же на дорогу надо, — одновременно угрожает и умоляет Казерук.
— А кому жаловаться?
— Министру своему, Зеленко.
— Министр вас кормит, обувает, учит. И на том спасибо... Деньги вы заработаете в другом месте. Завтра после теории, после обеда, никуда не расходитесь, ждите меня.
На следующий день мастер заходит в нашу комнату без своей обычной хитрой улыбки.
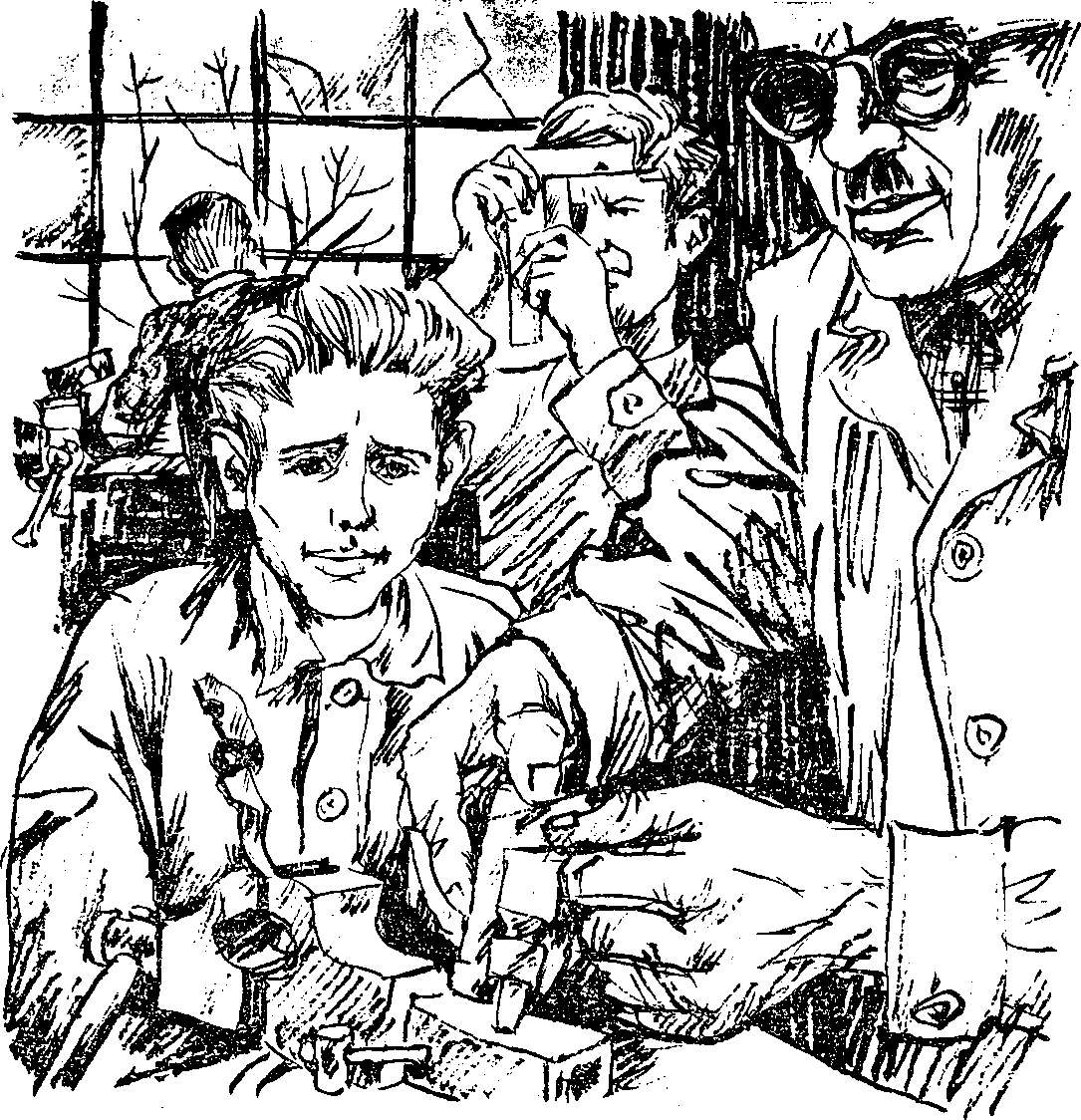
— Переодевайтесь. Работа сельскохозяйственная. Не ахти. Но... пятьдесят копеек час. Очищать снег у парников, что-то там еще с навозом. Какая уж есть работа... — Дмитрий Васильевич разводит руками.
Но нам не до выбора. Нам все равно. Только бы на денек попасть в детдом, пройтись в форменной одежде по его двору, и... А что значит это «и», что делать в детдоме дальше, я не знаю, теряюсь. Неужели это проходит тоска по родным местам, неужели я начинаю привыкать к Сибири? Не хочу, не хочу я привыкать. Мой дом в Белоруссии. Там я голодал, замерзал, там я мечтал о богатой Сибири. Сибирь — хорошее место, распрекрасное место, край мужественных и сильных людей. Но это не мое, мое не здесь. Чтобы жить в Сибири, быть человеком, нужно ровно столько мужества, сколько нужно для того, чтобы быть им в Белоруссии. Я выбираю Белоруссию. Она меня выбирает, И чтобы оживить память, я представляю себе детдомовский двор. Два тополя у ворот, обглоданные внизу осями телег. Заросли кукурузы слева от поросшей муравой дороги, справа — длинный оштукатуренный и побеленный барак, корпус, в котором мы жили. Высокое крыльцо. На этом крыльце в последний вечер перед нашим отъездом в ФЗО девчата дарили нам платки... Узкая стежка от крыльца и через сад, в столовую. Старая полузасохшая груша-дичок возле стежки, колючая и корявая, такая же старая и прогонистая с высушенной вершиной яблоня. А за ними ухоженные садовые деревья. Но мне больше всего дороги эти заброшенные, тоскливо вскинувшие к небу сухие ветки два дерева. Здесь, возле них, ясным августовским полднем у меня в первый раз забилось сердце. Я стоял у груши, а мимо меня пробежала девчонка из нашей группы. Я хорошо знал ее, но в ту минуту будто увидел впервые. Уже чуть желтоватое, катящееся в осень солнце желтым пятном лежало на траве возле яблони и груши. Повсюду была тень, только одно светлое, чуть желтое пятно, как круг света от циркового прожектора. И в этом кругу появилась девчонка в желтую горошину коротком платьице. Мгновение, и она, с высоко поднятой головой, пронеслась мимо меня, лишь скользнул по лицу ее и платью солнечный свет и тут же снова упал на траву. Я долго смотрел ей вслед и сейчас еще вижу, как прыгают, колотят по спине две тугие косы. А еще... Круг моих воспоминаний уже не ограничивается одним только детдомом — в нем и мой город, и ребята, с которыми я пас коров, желтые сухие пески Белоруссии, заливные зеленые луга, хвойные леса, тихие реки, солнечное лето, шумная весна и задумчивая осень, отливающие голубизной яркие снега зимы. И все мы работаем, чтобы съездить в детдом.
Упрямо, изо дня в день, мы ходим на парники, отбрасываем от них снег. Переносим с места на место пропыленные и промороженные рамы. Оплата почасовая, и каждый раз мы возвращаемся в ФЗО затемно. На парниках вместе с нами работают женщины. Они не понимают нашего упрямства.
— У вас, наверное, уже дети, семья, трудитесь так изо дня в день, — говорят они нам. — Семьи-то большие?
— Огромные. По сто человек у каждого, — отвечаем мы им.
— Сопляки еще заигрывать, — обижаются женщины.
Наиболее проницательные сочувствуют:
— Кто их знает, может, у них и правда уже дети. Не глядите, что молодые. Нынче весь народ с ума сходит.
Но работой нашей они довольны. Одним, без мужиков, управляться с парниками нелегко, с нами и веселее. И когда парники наконец обихожены, мы расстаемся друзьями. На прощанье рассказываем им про свои семьи, зачем нам нужны деньги. И женщины провожают нас наказом:
— Только глядите не пропейте...
После парников мы разгружаем вагоны с шахтовым лесом, загружаем машины углем. Эта работа хотя и потруднее и погрязнее, но прибыльнее. А грязи мы не боимся и того, что трудно, — тоже. В детдоме мы не каждый день ели свой кондер бесплатно, тоже и косили, и пахали, и лес рубили.
С жадностью расспрашиваем шахтеров, какая же она, шахта, что нам предстоит в ней делать. Нас и пугают, и успокаивают:
— Яма, сырая, холодная...
— Страшная работа та, которую не делаешь... А в шахте даже хорошо — ни холода, ни жары Каждый день баня, вода газированная.
Слушаем, запоминаем и с нетерпением и опаской ждем все приближающийся день первого спуска под землю. Думаем каждый про себя: «Если действительно страшно, то как бы не испугаться, не сдрейфить, не выказать своего испуга». На шахте нас уже многие знают в лицо, и однажды снабженец, у которого мы всегда получаем работу, радостно сообщил нам:
— Калым, ребята, горит. Вагон с дустом на подходе. Кладу сто рублей. Согласны?
Какой может быть разговор? Мы, конечно, согласны. Нам хорош и дуст, пусть это даже будет чемерица. Если за нее платят сто рублей, мы перенесем ее из вагона в склад горстями. Но снабженец суетится.
— Нет, вы, ребята, не так. Вы скажите определенно, великим и могучим русским языком: мы согласны. Есть разгрузить вагон дуста.
— Мы согласны, — говорю я снабженцу.
А он все не унимается:
— Какие-то вы не такие, как все. Как цыплята инкубаторские. По виду цыплята и цыплята. Обличьем все в будущих куриц. А приглядишься — не то. Всему верите и послушны, как солдат, только что прошедший курс молодого бойца. Я давно к вам присматриваюсь, скажите вы мне, что вы за люди?
— А ты как думаешь? — спрашивает его Дрозд.
— Вот я и говорю. Бессонница уже у меня. Всю жизнь спал спокойно. А тут мучиться начал. Беспокойство одно с вами. Грузчики наши поселковые все норовят меня на кривой козе объехать, перехитрить. Это я понимаю, а вас понять никак не могу. Вечно мучаешься — обмануть вас или быть честным с вами.
— Мучайся последнюю ночь, — говорит Дрозд. — Вагон с дустом разгрузим и больше к тебе не пойдем.
— Глядите же, завтра ровно в восемь ноль-ноль быть всем как штык у склада.
Мы отпросились у мастера с занятий. И на следующий день затемно пришли на разгрузочную площадку. Снабженец был уже на месте.
— Деньги большие, — сказал он. — Чтобы порядок был, как в танковых войсках.
— Опять не выспался? — спросил я его.
— Не выспался, — согласился он. — Думал, закончите вагон — бутылку вам от себя поставлю. Разобраться мне надо...
Вагон с дустом стоял у склада. Кладовщик со снабженцем выдали нам рукавицы. Потом снабженец принес респираторы.
— Сейчас настоящими шахтерами станете, — сказал он, погромыхивая респираторами. — Ну, кто первый?
— А зачем? — спросил Казерук.
— Для порядку. В шахте без техники безопасности ни шагу. Так что оставить разговоры, орлы.
Мы облачились в респираторы. Похохотали друг над другом и принялись за работу. Десятка два тачек дались нам без труда. А дальше мы начали потеть. Противогазы не спасали от дуста. Он проникал сквозь плотно обхватившую лицо и затылок резину, скапливался, смешивался с потом и разъедал кожу. Мы задыхались в респираторах. Первым не выдержал Беленький.
— Вы, орлы, как хотите, а я разоблакаюсь.
Глядя на него, сняли респираторы Дрозд и я с Казеруком. Но мы были еще далеки от отчаянья. Мы еще не осознали, во что ввязались. В полумраке утра не было заметно облака дуста, окутавшего вагон и склад, мы заметили его, когда взошло солнце. И работать, дышать стало невыносимо. Мы кашляли, как туберкулезники, рвали легкие. А дуста в вагоне не убывало, нам предстояло перевезти в склад тридцать тонн его.
— Я теперь знаю, — говорил Коля Казерук, — почему от дуста погибают клопы. Они умирают от кашля.
— Клопы сегодня лопаются и умирают от хохота над нами. Тридцать тонн хватит, чтобы перетравить всех фезеушников в округе. Мы...
Я споткнулся и упал. Тачка слетела со сходен и опрокинулась. Густое сизое облако взметнулось до крыши склада. Мы оставили тачку лежать на боку, побросали лопаты и отошли от вагона. Хохотали и плакали одновременно. Дуст уже был в нас — в легких, в желудке, в сердце. Но он еще не заслонил, не отравил нашей памяти. В сознании каждого громыхали колеса. Уже отправлялся в Белоруссию, в наш детдом, поезд, и дуст был билетом на него.
Мы продолжали острить и пересмеиваться, когда уже стало совсем невмоготу. Но что-то переменилось в нашем смехе, был он невеселым, грустным: смех сквозь дуст. Вагон был почти полон. А силы уже иссякали. Рубашки наши пропитались потом и затвердели, все тело и мысль были пропитаны и пронизаны запахом дуста. Нам казалось, что у нас кровоточат глаза, губы, лицо. Кружилась голова, цветные мошки прыгали в глазах. И день был глухим, бесконечным и синим, как дуст, который мы разгружали. Только упрямство держало нас у вагона. В полдень к нам пришел снабженец:
— Я думал, вы уже сворачиваетесь...
— Это точно. Мы уже свернулись, — сказал я ему. — Еще час, и из наших шкур можно будет делать барабаны. Это будут хорошие барабаны, звонкие.
— Я вас понял, — сказал снабженец. — В вас нет немецкой исполнительности. Респираторы вы сняли. На технику безопасности вы плюете. Это хорошо. Это как у нас водится.
— Зачем же ты заставлял нас одевать их? — подступил к нему Коля Казерук.
— Для порядку и вашей проверки, — ответил снабженец. — Работать только с респираторами, так гласит инструкция по обращению с дустом. А теперь мочите носовые платки и завязывайте ими нос и рот. Так делают все на дусте.
— Проверки еще будут? — спросил Дрозд.
— У меня же бессонница, поймите вы, — сказал снабженец. — Я должен разобраться в каждом человеке, прояснить его для себя. А вы засекречены для меня, военная тайна. Надрываетесь за рубль, а сами не курите, не пьете и сберкнижек, как я полагаю, не имеете. Какой же у вас интерес к жизни?
— Ты обещал бутылку? — спросил Дрозд.
Снабженец обрадовался.
— Наконец-то слышу голос мужчины.
— На три рубля, принеси нам поесть.
Наш работодатель убежал. И вскоре принес котлет, хлеба и бутылку «московской».
— Это от меня, от чистой души, — сказал он, — без вычета из зарплаты.
Мы ели, не чувствуя вкуса еды. И хлеб, и котлеты казались нам приготовленными на дусте. Бутылку отложили до конца работы.
— Кладу на кон сто двадцать рублей, — сказал снабженец, — только разгрузите вагон сегодня... Не убегайте.
Беленький обдал его облаком дуста, и он ушел, не отряхнувшись. А мы продолжали свою каторжную, работу. Мы уже стали дустоустойчивыми, кроме запаха дуста, на земле для нас не существовало больше никаких других запахов.
Мы продолжали выгружать дуст. По крутым сходням возили его в склад. И когда в сусек опрокинута последняя тачка, в нас нет ни радости, ни Белоруссии, ни детдома.
Не ощущаем мы и крепости водки, которую пьем вместе со снабженцем. Пресная, без запаха и вкуса водица. Не утоляет даже жажды.
— Откройте же мне себя, — просит нас снабженец. — В чем ваш смысл, устав вашей жизни?
— Иди ты... знаешь куда, — говорит ему Дрозд. — Прицепился, как будто всю жизнь разгружал дуст.
— Вот и вся кругом такая молодежь пошла, — сетует снабженец. — Я думал, хоть вы другие. Не с кем и поговорить человеку. Куда только мир катится. А в вас я видел наличествование недоступной для меня мечты.
— Спи спокойно, — говорили мы ему на прощанье, — мечты нет. Один только дуст. Никаких других запахов.
На следующий день мы не пошли на занятия. Не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Молча лежали на кроватях и смотрели на висящее за окном красное солнце. Ребята, уходя на занятия, принесли из столовой наши завтраки. Мы не прикоснулись к ним, нас рвало от одной только мысли о еде. Хотелось забыться, уснуть, но и сон не шел. В общежитии было пусто, и к нам никто не заходил, мы никого и не хотели видеть. Как вдруг открылась дверь. На пороге стоял Дмитрий Васильевич. Он нам меньше всего был нужен сейчас.
— У вас тут что, дезинфекцию проводили? — мастер только глубоко втянул в себя воздух, но не решался переступить порог.
— Клопов много развелось, — ответил мастеру Беленький.
— Угорели?
— Угорели...
— Будет врать-то, — перебил Беленького я. — Вроде бы маленько устали, Дмитрий Васильевич. Ну, и там же... угорели... А чо?
— Смотри ты: «маленько», «чо», — мастер заходит в комнату, плотно закрывает дверь. — Да ты, паря, гляжу, сибиряком становишься. И на занятия не ходишь, мастеру правду-матку в глаза не боишься резать...
— А чо... что, не стоило бы правду говорить? — Я сажусь на кровать.
— Иной раз, может быть, и не стоило бы, — подсаживается ко мне Дмитрий Васильевич. — Как-никак, я ведь над вами мастер. — Он поочередно оглядывает меня, Дрозда, Казерука, Беленького: — Ну и видок у вас, скажу я вам. Кто вас жевал?.. Так вот, к тому, стоило бы или не стоило. Я вас вчера с занятий отпускал, а вы и сегодня прогуливаете. Мне за вас перед замполитом отчитываться. Пойдете сами к нему, будете объяснительную писать.
Мастер пытается строжиться. Но строгости в его голосе нет. Нет и у нас боязни перед ним, перед замполитом. Мы готовы к разговору с ним. Я готов.
У меня в подушке завязанные в платок лежат тридцать рублей, заработанных вчера. Еще сто наших общих рублей хранится дома у мастера. Дорога в Белоруссию и назад обеспечена. Но я не испытываю от этого никакой радости.
Мне грустно. Я по-прежнему рвусь в Белоруссию. Не будь у меня сейчас денег, я, наверное, опять пошел бы их зарабатывать. Кидал бы снег, грузил бы уголь, взялся бы даже и за вагон с дустом, разгрузил бы его один. Но деньги лежат у меня под подушкой, и я не знаю, что мне с ними делать, как поступить. Я хочу и боюсь поездки в детдом. Кто меня там ждет? Сравнимо ли мое стремление туда с тем, как меня там встретят. Память о детдоме для меня самая светлая и радостная. Пусть уж лучше навсегда остается во мне это щемящее чувство тоски по тополю у дороги, по усыхающей груше у стежки, по девчонке с высоко поднятой головой, пронесшейся мимо меня. Может быть, я все это придумал, но я уже более полугода живу этим, и это помогает мне жить. Я верю — так было, и мне не надо другой памяти, новой грусти. Пусть во мне навсегда остается недосягаемым, навсегда потерянным островок, к которому я буду стремиться всю жизнь. И тогда, я верю, пройдет время, и эта фезеушницкая тоска озарится новой светлой памятью.
Будет в моей жизни серый и тяжелый день, но память моя взорвет его и осветит радостью уже пережитого и прожитого. И будет оно мне казаться таким прекрасным, ярким и счастливым. Я буду вспоминать парники, уголь, дуст, и Сибирь не будет казаться мне чужой. Я не мерз и не голодал в Сибири, но она меня обкатала тоской и работой. Я привился к ней. Мы, детдомовцы, прививаемся нелегко, но зато уж навсегда. И никогда ничего не забываем.
...Роится уже в солнечных лучах над моей головой застарелая пыль. И я не заметил, когда пришло утро, когда проснулся. А может быть, я еще продолжаю спать. Где я и что со мной происходит? В каком я сейчас году, идет ли война, продолжается ли мое детство или я снова учусь в ФЗО? Где бы я сейчас хотел быть?
Скрипят ворота сарая. Это отец, со света он не видит меня. Я поднимаюсь и сажусь на одеяле.
— Выспался?
— Выспался...
— Не мулко было?
— Нет...
— Что тебе снилось на новом месте?
— Ничего...
Отец обижен, он собирается уходить.
— Подожди, — прошу я его, и он добреет, говорит мне:
— Я знал, чувствовал, что ты уже не спишь.
— Как же ты это чувствовал?
— Погоди, подрастет твой сын, сам поймешь как.
Мы вместе выходим во двор. Росно, свежо. Тихо слезятся отпотевшие за ночь стекла окон. Мы заходим в палисадник, садимся на прохладную скамейку в тени вьющихся побегов фасоли. Возле самой скамейки густо растет горох, на светло-зеленых усиках его, тощих стручках прозрачные капли росы. Я срываю один из стручков, жую. Чуть сладковатая прохлада приятно освежает рот.
— Зеленый еще, — смотрит на меня отец. — Не поспел еще.
— А к полудню поспеет? — быстро спрашиваю я его.
Отец не отвечает. Неужели он помнит? Нет, едва ли...
— В позапрошлом году я копал здесь яму, картошку на зиму закапывал...
— Да... — отзываюсь я.
— В позапрошлом году... И выкопал тарелки. Деревянный ящик истлел, и тарелки почему-то разбитые. Фарфор весь побит, а алюминий весь погнил...
Мы молчим.
— Разбитая посуда — к счастью, — говорит отец. И тут же безо всякого перехода: — Ты помнишь ее?
— Кого? — чувствую, что краснею. — Не помню... Почти не помню...
Я обманываю его. Я все помню.
Назад: ДОМА
Дальше: НЕЗАДОЛГО ДО РАССВЕТА

