Судный день

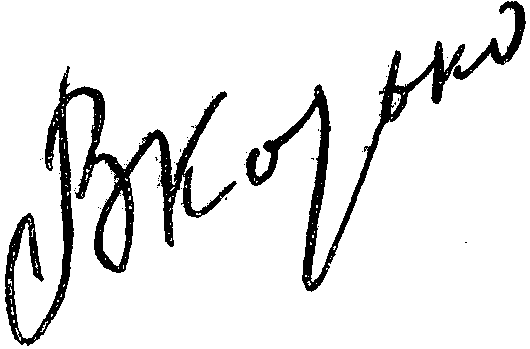
ВИСОКОСНЫЙ ГОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я был одновременно сыном и пасынком этому городку. С тех пор прошло немногим более десяти лет, а он уже не хочет узнавать меня. Так одиноко, как в первые минуты в родном городе, я не чувствовал себя в самом дальнем чужом краю.
Неприкаянно, как подкидыш, стоял на тротуаре мой чемодан, рядом с ним стыл я. Мы мешали всем. Но людская толпа обтекала нас, как река обтекает остров. И ни у кого не было ко мне ни любопытства, ни привета. Я узнавал и не узнавал свой город.
Как слоеный пирог, он и сейчас населен и горожанами, и деревенскими жителями, приехавшими на базар, паровозными гудками, запахами угля и яблок. Он начинается из лесов и смыкается с лесами. Кажется, у него нет ни начала, ни конца. Я знал его, как не знал самого себя. Городок был беден, нищ, гол, но приветлив. Он задыхался от голода, но из последнего кормил две сотни послевоенных детдомовцев. Недоедал, недопивал, но собирал рубли, копейки, куски хлеба и отправлял в далекий Ашхабад людям, пострадавшим от землетрясения. На содержании у города было множество сирых, увечных, потерявших в войне здоровье белорусов, русских, цыган и евреев. Но он не жаловался на свою долю.
Настал черед, он дал кусок хлеба и мне. И я говорю ему сейчас: спасибо. Не только за хлеб — за милосердие, терпенье, за то, что именно здесь я почувствовал себя человеком. Спасибо за всех, кто рос в таких городишках в неуютное послевоенное время, кому они заменили отца с матерью.
Все сейчас в моем городе вроде бы на своих местах. Книжный магазин — каменный дом с кривой, от фундамента до крыши, трещиной. Лужа у когда-то единственной водопроводной колонки. У этой колонки всегда было полно ребятишек, они и сейчас отираются возле нее.
Маленькие городишки, как старики, не любят нововведений. Но что же переменилось? У города моего детства новый, непривычный моему глазу цвет. И дело было не только в том, что перекрасились дома и заборы, речка из светлой и прозрачной стала желтой, одряхлела и заросла травой, — я же запомнил и пронес через все только серые и темные тона. Город в моей памяти был неподвижен и неизменяем, как на старой фотографической карточке, а он жил, год от года становился все красочнее и пестрее. И сейчас он мне удивительно напоминал тот большой и современный сибирский город, в котором я теперь живу.
Эта улица раньше не была покрыта асфальтом. Я помню ее седой от перегретого, как зола, песка. Из-за коричневых корней деревьев, оплетавших улицу, у меня летом никогда не заживали ссадины на ногах. Кровь от ушибов густела, посыпанная дорожной пылью, чернела.
Могу ли я забыть, как когда-то испытал здесь чувство полета!
В тот день небо было синим и глубоким, каким оно может быть только в конце лета. На придорожных кустах дрожала паутина. Лесные тропы и стежки переметали белые кружева грибниц. Окраины звенели от птичьего грая. Я шел по облитому солнцем белому песку и смотрел, как колышется небо — чуть приметное, настоянное летом голубое марево. Потом неизвестно почему побежал. Побежал прыжками. Мне очень хотелось оторваться от земли, рассечь маячившее надо мной марево. И мне — это помнится с каждым годом все отчетливее — удалось подняться, Я парил над желтым от солнца песком. Легко и свободно вдыхал запах хвои, идущий от стоящих у дороги сосен.
Я парил. Я знаю это. И с этим воспоминанием я не расстанусь, если даже сильно захочу. Потому что гораздо позже в снах я не раз переживал этот первый свой полет. Его сладкая жуть и сейчас наполняет меня уверенностью, что стоит мне только сильно пожелать — и я опять оторвусь от земли, взмахну руками и поплыву над знакомыми мне до последней заплаты на крышах домами.
Маленький автобус, давно уже изгнанный из больших городов, везет меня к родному дому. Раньше я ездил по этому городу в автобусе только из любопытства или озорства. Город из конца в конец — три километра. Это ли расстояние! Но неожиданно три километра растягиваются в десять. Старые проезды закрыты, надо объезжать, круг огромнейший, и я рад.
Автобус вступает в лес. По краям дороги все те же сосны, ободранные до живого осями телег. Меня и радуют, и пугают густо встающие у лесной дороги травы. Травами наш лес никогда не был богат. Все больше сосновые шишки, прикрытые сосновыми иглами, по-местному — глицей. По этим глицам мы пасли коров.
Мы — это хлопцы с Подольской улицы. Хлопцы — Леня Ревский, Володька Збышко, или, как все его звали, Украинчик, Арсень Кривой, Леша, Мила, Нина Улитины и я. У Улитиных фамилия Збышко. Улита — это мать их, а отца нет,, зовут детей по матери.
Отцов или матерей нет у многих, кто живет рядом с нами. Подольские улицы — а их сразу три на город, — все они рядом — богаты на сирот и сироток. Город зовет нас всех, подольчан, злыднями, бандитами. Мы — окраина. У нас свой закон: обмануть, стащить. В глазах города мы те, для кого нет ничего святого. Но если бы только город знал, как мы чисты в своей вороватости, драках, обмане, мечтах и бедности. Бедность наша у всех на виду, а слезы недоступны постороннему глазу. Мы ведь не от хорошей жизни, не с жиру воруем из вагонов свеклу и жмых, жарим на пастушьих кострах и едим июньские молодые побеги сосен, чуть позже — колоски ржи и пшеницы. И от этого у нас, как у галчат, вечно черные лица и рты. Из обручей, стащенных с железнодорожных платформ на станции, мы куем себе сабли и мечи. Наш главный оружейник — Володька Украинчик.
Как янычары, спрятав под лохмотья сабли и мечи, в полдень пригнав коров, мы уходим в город на разбой. И городские сторонятся нас, когда мы идем вместе, и бьют наших, когда ловят в одиночку. Но мы редко плачем, видно, потому, что нас часто бьют, бьют все, кому не лень: городские хлопцы, грузчики и обходчики со станции, лесник и объездчик. Два последних — наши кровные враги. Нам кажется, у них только и дел, что гоняться за подольскими пастухами.
На глице и шишках коров не накормишь, молока не попьешь, а поля и пастбища принадлежат колхозам. Но нам все равно, чья бы земля ни была. Мы, подольчане, идем по ней, как саранча. Что не поедают коровы, то вырывают про запас для них и себя пастухи. И коровы наши тоже, как саранча, прогонистые и юркие, вороватые. Под вечер мы иной раз запускаем их в овсы, а то и в картошку. Как они едят, как затравленно озираются по сторонам и как убегают, заслышав наш тревожный клич... Наши коровы, как лошади, знают даже, что такое галоп. Галопом мы всегда покидаем стражу — огромное поле, на краю которого когда-то стоял дом лесника, мужа Улиты. О доме сейчас напоминают только головешки. Сохранился сарай да несколько яблонь.
Мы любим гонять коров в стражу, особенно Улитины дети. В конце лета тут для нас яблоки, желуди, ржаные колоски и грибы, а для коров — сочная густая трава. Лесник и объездчик тоже знают о нашей любви к страже и приходят сюда с палками, специально для нас припасенными хлесткими длинными дубцами. Из-за этих дубцов у лесника и объездчика прозвища — шершни; подольские не знают их фамилий. Сколько раз ловили они нас на яблонях, и как мы бегали от них, как екали селезенки у коров, убегавших вместе с нами!
Но мы тоже хитрые. Крутим коров в центре поля, возле небольшого березового гая. В этом гаю мы чувствуем себя гораздо уютнее, чем дома. Дома крик, попреки, ремень, комнаты, полные мух, из каждого угла глядит бедность. А в гаю мы были богачами: поле, лес, небо — простор и воля. Можно становиться хоть на голову. Но Подольская делала из нас хороших хозяев, расчетливых и бережливых, учила добром не кидаться. Мы убрали с полей камни и в березняке сложили из них очаг. Выкопали неподалеку колодец. Брали из него воду и запивали ею сухой и горький привкус пережаренных колосков. На старой березе приспособили качели. Почему лесники ни разу даже не попытались оборвать их, не порушили нашего очага, не засыпали колодца — это для нас было загадкой.
Это для меня и сегодня загадка. Сегодня у меня, пожалуй, больше загадок, чем полтора десятка лет назад. И самая главная загадка — почему я не могу остановить автобус, войти в лес и превратиться в подростка-пастуха. Почему это невозможно? Ведь подросток тот — это я и есть. Он живет во мне. Это он сейчас смотрит на родные места моими глазами.
— Ну, привет, — беззвучно, одними губами, шепчу я ему. — Признал?..
— Ты чужой...
— Я приехал, чтобы стать своим.
— И опять врешь. На Подольскую не возвращаются. С Подольской только уходят. Я не хочу с тобой водиться. А будешь приставать — поколотим.
— Я тоже подольский.
— Подольский? И от лесников можешь убежать? Можешь босыми ногами, не морщась, ходить по сосновым шишкам, по стерне, есть колоски и цветы сосны, воровать жмых?
— Могу, но, понимаешь...
— Нет, ты не подольский.
— Ты прав и не прав. Я сейчас больше подольский, чем тогда, когда мы пасли с тобой коров в страже. Но ты знаешь только одну Подольскую и не догадываешься, что их были тысячи. И я на каждой из них жил, принадлежал каждой, из них.
— Хитро. В городе навострился так?
— Да, поумнел в городах разных. И в них не раз встречал тебя. Потому и не забыл.
— Чистенький, ухоженный, откормленный. Поколотить такого приятно.
— Драться я тоже умею. Подольский ведь.
— Злости в тебе не видно. Живот выпирает, а у злых живот на спине. Заелся, зажрался, лицо, как икона, светится. Таких Подольская всегда била, на место ставила.
— Злость теперь не в животе, а в голове начинается. И...
Автобус задергался, зачихал и остановился. Я очнулся и вышел. Место поначалу показалось мне незнакомым. Редкие малорослые сосны, кривые березки — хмызняк. Какое-то полузаросшее травой болотце.
Я обогнул автобус. Он почти прислонился к дубу с огромным гнилым дуплом внизу. Еще не осознав, что делаю, я опустил руку в дупло, но ничего не нашел в нем, кроме трухи. Разгреб труху — пусто. Удивился. В этом дупле жил удод, пестрая, красивая птица. Куда она девалась? Попробовал всунуть в дупло голову и еще больше удивился. Голова не проходила. Я обдирал щеки, но не сдавался. Как это, ведь раньше я протискивал в дупло даже плечи, что могло случиться?
Я смотрел в темноту широко открытыми глазами. Запах прели, как когда-то давным-давно, в детстве бил в ноздри. Я различал в темноте коричневую расслоенную на ромбики и квадраты труху, слышал злобное, почти змеиное шипение испуганного удода и понимал, что ничего этого для меня уже не существует. Все это прошло. Удод, наверное, давным-давно сдох или его съел хорек. Сколько минуло лет. Саднил ободранный лоб. Как в детстве, было чуть-чуть жутковато от непроницаемой темени в дупле. С трудом я высвободил голову. В глаза ударила весенняя яркая зелень. Только дуб, под которым стоял автобус, был по-стариковски черен и сух. Он будто вышел из моих взрослых одноцветных снов. Я часто видел его таким, каким он сейчас стоял передо мной, потому я, наверное, и не сразу узнал это болотце в лесу, в пятистах метрах от дома. Я погладил шершавую и жесткую кору дуба. Как мы не любили его в том далеком детстве! Я даже сейчас не могу припомнить у себя злее врага, чем он. Дуб рос близко от нашей улицы. Одиноко и заброшенно. В народе такие дубы с давних пор носят прозвища глухих. И по народной примете нельзя купаться, пока они не распустятся. А они не распускаются в иную пору до глубокого лета.
Автобус ушел. Я не захотел ехать в нем. Я пойду к своей родной улице по вот этой петляющей, опутанной корнями стежке. По ней я когда-то гонял коров. По ней, чувствуя себя подростком-пастухом, я пойду домой, в детство.
Саднит ободранный лоб. Все дальше в прошлое уводит меня память, к первым моим шагам по этой земле, по этому лесу.
Мальчишка-подросток в спадающих лохмотьями на босые ноги штанах из чертовой кожи бежит впереди меня с березовым прутом в руке.
— Подожди, — прошу я его. — Что мы все время бегаем друг от друга.
Он сбивает прутом листья с берез и не глядит на меня.
— Когда ты уезжал отсюда, ты обещал мне первому рассказать про все. Я слушаю.
— Ты прости... Я... был раньше, как бы тебе сказать... самоуверенным. А сейчас. Нет... Я сдержал уговор, но я боюсь. А вдруг все не так? А вдруг все не то? Подольская нетерпелива и не умеет слушать, она командует и приказывает, а все эти годы я учился слушать. А ты ведь любишь командовать.
— А ты не боись... Шершни, которые били нас в страже дубцами, умерли.
— Умерли твои, а мои шершни живут и с каждым, годом становятся все злее.
— Не понимаю, о чем ты...
— Это к лучшему. Слушай...
Дальше: НАЧАЛО

