Книга: Кукла и комедиант (Роман и повести)
Назад: … и все равно — вперед… повесть
Дальше: Примечания
Одну лишь каплю даруй, источник
повесть
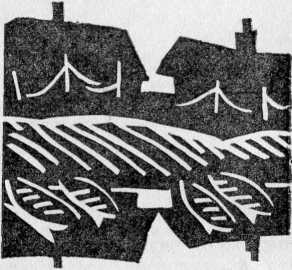
Человеку, за долгие годы привыкшему слышать слово «долговязый», странно вспоминать себя малышом, который был ниже своих сверстников.
Не поручусь, что все было именно так, а не иначе; может быть, я иной раз совру невольно, а может быть, умышленно давая волю воображению, скажу что-нибудь и правдивое. Знаю, что Гауя там текла точно так же, как и ныне. Были поперек Гауи заколы для ловли миноги и лосося, поэтому обжарочную и селение вокруг нее именовали Закольем. Были люди, многие из них уже умерли, другие еще живут — там же или где-то в иных местах. Были дома, дороги, мосты, теперь их настроено куда больше, и во все ускоряющемся темпе строят еще и еще. Было…
Воспоминание уводит меня к парку вокруг имения: там пасутся гуси, и семилетняя девочка с шестилетним мальчиком надзирают за этим крылатым стадом — гусь взмывает в воздух и исчезает. Сколько волнения и слез! Что еще? Колючая изгородь: кучка простолюдинов с любопытством разглядывает скопление лимузинов. Генерал торжественно выдает замуж свою дочь — настоящий генерал в полной форме, с орденской лентой через плечо, с аксельбантами, витыми золотыми погонами, с оправленным в золото козырьком фуражки. К тому же генерал этот военный министр. На дворе имения пестрят розы, яркие наряды дам, шапочки корпорантов…
Алмазная гора вечности — у подножия ее струится источник мудрости; мне бы хоть каплю, одну-единственную, волшебной влаги этого источника.
«Ты увидишь все, узнаешь все, ты поймешь прошедшее, настоящее, будущее!»
Значит, стать подобным великим бессмертным умам? Я человек, я не хочу дремать под сенью вечности и время от времени освежаться напитком богов, я хочу жить, испытывая неутолимую жажду стремиться, думать, осознавать и преодолевать. Одну каплю из источника, одну-единственную!
Я сную под небом, по которому в белой пуховой ладье колышется солнце и ниспосылает теплый привет; сную среди развалин замка, я испачкал все лицо, ободрал коленки, поранил пятку и нашел необычный черепок — а вдруг драгоценный? Труба сгоревшего здания упрямо вонзается в небо, облако цепляется за нее и отбрасывает зловещую тень на полузаваленный вход в погреба под замком. Там держали и мучили людей, утверждает моя мать. Я испуганно улепетываю оттуда…
Прошли годы, я далеко от берегов Гауи. Перед тем как заснуть, думаю о намытой весенним разливом песчаной косе, о зарослях ольхи, о кувшинках, о розовой колюшке, аромате черемухи — и цветов ее и ягод, от которых вяжет рот. Хотя бы во сне вернуться туда! И я возвращаюсь: я играю в развалинах замка, вдруг открывается засыпанный вход, застенок, черная, жадная пасть, какая-то сила увлекает меня туда, там ждет что-то страшное — неведомое, непостижимое, страх, который будет леденить до самой смерти… Я сопротивляюсь, кричу, кричу… Просыпаюсь, товарищи спрашивают: «Что с тобой?» — а я какой-то одурелый от стыда, боли, страха…
Мать сказала: «Никакой этот черепок не драгоценный, обломок изразца. Стены им выкладывали».
Дочери «дышлера» — столяра при имении — в барские хоромы вход был заказан, мать говорила про стены коридора или кухни. Но и эти помещения слепили глаза обитателей батрацкой усадьбы Тамажа. Стройная, высокомерная, шествовала супруга владельца замка барона фон Пандера; все сгибались перед нею, те, кто поближе, целовали край платья, какой-то простоватый мужик приложился губами к ее пальцам — баронесса резко повернулась и протянула руку своей камеристке: «Вымой, Мария! Этот мужик слюнавить мой рука!»
Замок лежал в развалинах. Имение уже не принадлежало Гёгингеру — остзейскому немцу, без матрикула и без «фона» — он купил его у перепуганного событиями 1905 года фон Пандера; аграрная реформа оставила небольшую усадьбу семье прежнего владельца. Гёгингеры — в особенности молодое поколение — отлично говорили по-латышски, но все равно не жаловали этот народ с трудолюбивыми крестьянами, смутьянистыми рабочими и смелыми солдатами…
Замок превратился в развалины. Имение разделили бывшие работники, бывшие владельцы назвали это грабежом. В центре его, кроме развалин, оказалось двухэтажное здание, где раньше жили работники при имении, — Белый дом, парк, фруктовый сад, амбары и конюшенный дом. В Белом доме утвердился заместитель инспектора артиллерии — полковник, вскорости ставший генералом, а потом и военным министром. Странно было бы, если бы простой рабочий человек получил такие же права и владения, как полковники и генералы.
Министр натянул изгородь из колючей проволоки, все устраивал и перестраивал Белый дом, разбил клумбы с розами, усыпал гравием дорожки, отпраздновал свадьбу дочери. Уцепившись за руку супруга, вся в белом, вылезла она из лимузина; ее худобу, непривлекательность, чахоточную бледность прикрывали аршины белого атласа, приданое, положение отца, корпорантские цвета, зависть бедных. Естественное явление: вместо изгнанной аристократии вылупилась новая, из своей же среды — хоть и без сословной узости, зато с широтой размаха по части бражничества. И пришло время, когда царникавцы, говоря о Белом доме, называли его имение, хотя правительство Ульманиса начало изгонять это слово с карт, из книг и разговорной речи. Вместе с грибком, который без устали разъедал стены нового имения, так что все время надо было ремонтировать и латать, забота о декоративности истощала генеральский карман. Работников он уже не держал, землю распродал, большой каменный амбар сделался собственностью благотворительного общества, оно соорудило там роскошное помещение с залом и сценой. Конюшенный дом и часть фруктового сада перешли в руки лавочницы-еврейки. Точно в прорву уходили генеральская пенсия, министерское жалованье, ежемесячные дивиденды из рыболовецкого общества.
До положения герцога латвийскому генералу подняться не удалось, зато было имение, балюстрада, гравиевые дорожки, аксельбанты, лимузины и высокопоставленные гости — была изгородь, которая отделяла от низших…
Гауя. Царникава. Люди.
Большая комната с низким, закопченным потолком. Я забился в угол, сейчас для детей места у стола нет, там восседают труженики мужчины. Керосиновая лампа стоит на глиняном горшке, красноватый огонек отражается на длинных горлышках пивных бутылок, на водочных поллитровках; хлеб, масло, минога. Пиво пенится, вылезает из стаканов, заливает пробки, хлебные крошки, миножьи головы. Окошко о шести стеклах полощет мелкий дождик. Мужчины затягивают:
Возьму я в руки струны,
Настрою и спою —
И хоть однажды в жизни
Всю душу изолью.
Дядя моей матери, дядя Рейнгольд: высокий, шея длинная, маленькая головка с пышными усами, в глазах влага и что-то болезненное. Паромщик Паюп — маленький, худой. Второй дядя матери, Давис, — такой же музыкальный, как все Киршфельды. Лица, лица: со следами суровой жизни, с человеческой тягой к красоте, добру, возвышенному, ко всему, чему не дает сбыться будничная действительность. Старая, грустная песня, точно спугнутая птица бьется под закопченным потолком:
Ах, жизнь с ее биеньем,
безумством, суетой.
А там уже забвенье
струится надо мной.
Птица падает с потолка — все напрасно, крылья сломаны, даже крупицу копоти не смогла сбить со стен темницы. Такая тишина, что слышен только свист осеннего ветра. Хлопает пивная пробка. Дождь хлещет все сильнее, на дворе кромешная тьма, единственный свет в мире, кажется, пробивается только здесь. Рейнгольд вытирает пену с пышных усов и затягивает новую песню: «Пей, пей, братец, жизни насмешку заглушим, скроются беды и горести, сразу станет светло».
Вся комната поет, словно вспыхнул свет, может быть и призрачный, рождается какое-то чувство широты. Простой стеклянный стакан становится источником радости, точно солнечный луч пробился сквозь монотонный, угрюмый ход дней. Замызганный стол этот всего лишь остановка в пути к яме на прицерковном холме. Один за другим они покидают свою трудовую стезю, навсегда выпускают кельню, пастуший рожок, рубанок, весла; натруженные пальцы теряют способность ловко двигаться по струнам скрипки, разве что иногда потренькивают на мандолине или цитре, пока старость окончательно не приглушит такой тонкий когда-то слух, а потому: «Пей, пей, братец…»
Мужчины выпрямляются, как положено мужчинам, говорят, как пристало мужчинам, голоса звучат вперебой. Каждому надо сказать свое слово о всем сущем и не сущем в этом мире, о большой политике, каждый критикует депутата и депутатов, хвалит и поносит министра и министров, оценивает генерала, генеральшу и вообще всех генералов огулом, выкладывает все как есть про президентов и царей. Даже сам всевышний не чувствует себя надежно. Каждый из них — глыба, каждый на своем месте, эвон что наворочали в молодости, еще сейчас можем! Растроганно, со слезами вспоминают первую любовь, говорят о войне, которую им пришлось протрубить, о повседневном труде; некогда были они парни что надо, и теперь-то еще голыми руками их не возьмешь, еще и теперь земля может гордиться, что носит таких мужиков. Только о будущем ни один не заикается: что там строить какие-то большие планы, и мечтать нечего о том, чтобы выбиться из этой колеи; будущее — это тяжелый труд, все более грузные шаги, клонящаяся голова, прицерковный холм…
Я смотрю на мужчин, и непонятная жалость перехватывает мне горло. Точно вспышка молнии озаряет комнату и вырывает из тьмы нечто невиданное, нечто незабываемое. Я ничего не понимаю — что там может понять ребячий умишко — и все же что-то вижу, что-то ощущаю. Прозябание и отчаянное стремление к чему-то большому, ночь и забвение. Зловещая темнота за окошком, но я вырвусь, убегу в безбрежный мир. Светлое небо распахивает там бесконечность, морской простор вздымает серо-синие волны, высятся скалы — бурые, в белых снежных шапках, украшенные вечнозелеными растениями. Точно играя в какую-то игру, я шепчу: Пикардия, Лангедок, Килиманджаро, Занзибар, Мозамбик, Аконкагуа, Попокатепетль… Чудесная игра, никто помешать не может. А еще Таити, Фиджи, Самоа, Гонолулу… Передо мной открываются необычайные дали; и невиданные растения — кипарисы, магнолии, пинии, секвойи, эвкалипты; и невиданные звери — носороги, гиппопотамы, кенгуру, бизоны, жирафы; и гигантские реки — Ла-Плата, Миссисипи-Миссури, Саксачеван, Хуанхэ, Янцзы, Енисей. Я поселился у подножия Попокатепетля, сложил из кедровых бревен хижину и вновь недоволен: и здесь солнце всходило утром и заходило вечером, и здесь был закатным человеческий век. Теперь вот Царникава стала дальней далью. И душу во мне щемят воспоминания об ивах на песчаной косе, и безразличным стал кедровый лес и ослепительный полет колибри. Я думаю о кувшинках, о церковном благовесте ясным летним утром и о неповторимом запахе обжарочной, о стружках вокруг дедушкиного верстака и пестром коте Жулике, который, мурлыча, спал в стружках и с шипением уносился, когда дед очень уж его пинал. В крови просыпается беспокойство, зовущее домой. Где же дом для бродяги? Где центр мира у человека?
Мне было восемь или девять лет, я даже спрашивать не умел, не то что отвечать, да и не у кого было Спросить. Я начал что-то соображать, когда довелось читать про древние Афины и Римскую империю. Греки высекали из мрамора изумительные творения, измерили на чаше весов своего пытливого ума почти весь мир, они уже вгрызались в суть вещей, а римский гражданин, где бы ни странствовал, везде встречал римский мир и римское рабство — узость и угнетение не оставляли его. Величие жизни, широта, масштабность не географические или государственные, а человеческие понятия. Повсюду мир бесконечен, в любом месте он возвышает человека — если тот сам свободен, обладает зрением, силой духа, живет неудержимой мечтой. Источники жизни бурлят глубоко, они вечны, а человек не вечен.
Ты испытываешь только желание ухватить что-то от мнимого величия и множества?
Мне бы только одну каплю из источника вечности.
И человек, войдя из темноты в закопченную комнату, освещенную лишь красным глазом керосиновой лампы, с трепетом цепляется за каждую минуту, прежде чем снова исчезнуть в темноте.
Вместо комнаты может быть заложенное-перезаложенное имение с роскошным вестибюлем, накрытыми столами и ослепительными люстрами — навечно остаться невозможно ни здесь, ни там.
Я встретился с Книгой. Она сама вышла из чердачной темноты Конюшенного дома и коварно предложила:
— Загляни в меня!
Я тогда еще не ходил в школу, ничего не знал о грамматике, о женском роде, жизнь не научила меня тому, какой вес имеет женский род, а книга женского рода — я позволил увлечь себя этому коварству, хотя книга была облачена в потрепанный переплет и изъяснялась по сложной старой орфографии. Я пристроился на балке там, где проломанная крыша пропускала сноп света, и погиб — погиб на всю жизнь. В промежутках я ем, пью, сплю, работаю слесарем, землекопом, в районном мостодорожном строительном управлении — начальником (а если без хвастовства — то всего лишь исполняющим обязанности), каменщиком четвертого разряда, техником, стекольщиком и бетонщиком, шофером и лаборантом в вузе, делаю еще многое другое, воюю, учусь, пашу землю, пилю в лесу деревья, плаваю в океане, летаю в самолете, совершаю кое-какие прегрешения, но всегда остаюсь верным книге. Свою судьбу я понял тогда же, на сумрачном чердаке Конюшенного дома, — печатное слово уводило меня от приключения к приключению, давало представление о том, как широк мир, как причудлива и сложна жизнь.
Потревожила меня мать — что я там застрял? Она полистала книжку и сказала, что Андрей Пумпур — знаменитый поэт. Тут и я взглянул на обложку — «От Даугавы до Дуная». Книга находилась в тесной связи с автором и названием, это мне было ясно. Ясно было и то, что есть такой народ сербы (про турок и русских я знал уже раньше), есть такая река Дунай…
Дунай — название звучало гулко, широко. Да, у меня же где-то есть «Географический атлас для начальной школы». Я полез под кровать, вытащил ящик со своим имуществом и «ушел» в карту. Моря я сразу же увидел — синие поля, которые бороздит ветер, режут кили кораблей; когда собираешь ягоды в лесу у дюн, то слышны пугающие завывания даугавгривских ревущих бакенов; тонкие голубые жилки питают большую синеву, это понятно. Которая же из этих жилок Ду-най?
Я пропутешествовал по страницам атласа «Латвия и соседние государства» — но Дунай так и не нашел, а путешествовать понравилось. Точно ведя самолет, я плыл над обширными полями, перемахивал горные хребты, видел лес высоких труб — совсем как на рекламе «Глез унд Флентье», — залетел в красивый город Гельсингфорс, который я уже видел на почтовой открытке; откуда-то взялась огнедышащая гора с ярким пламенем на фоне такого же яркого неба — в этой стране жили людоеды и обезьяны. Дуная не нашел. Взгляд мой наткнулся на название в нижнем углу: По-до-лия. Как это звучит! Подолия, Подолия… Я снова задвинул свое имущество под кровать, встал, вооружился винтовкой, сел в автомашину и поехал в Подолию: красивая страна — даже смородина растет по южную сторону густого ивняка. Я ел ягоды и убил несколько львов.
Книгу я уже стал искать. На чердаке нашлись еще. Одна называлась «Черные алмазы», у другой была оторвана обложка и самое начало — эта была про войну, а стало быть, можно обойтись и без начала. Воевали русские с французами, Наполеон занял Москву, но в конце концов вынужден был бежать. Русский офицер Рославлев отыскал свою неверную невесту в Данциге; я отыскал Данциг в атласе и был горд этим, только не перед кем было гордиться.
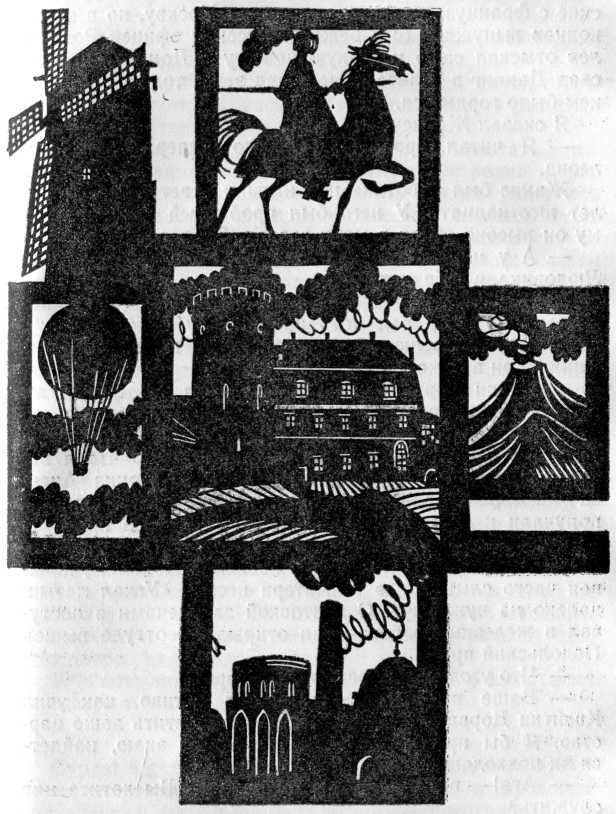
Я сказал Жанису:
— Я читал про французского императора Наполеона.
Жанис был работник при имении — ветреный парень лет шестнадцати. У него был пробочный пугач, поэтому он высоко стоял в моих глазах. Он ответил:
— А у меня есть книжка про французского короля Людовика, я тебе ее дам.
Жанис был скупой и нескупой: он угощал меня яблоками, но не давал хоть на минутку подержать пугач — еще застрелюсь, а что он тогда матери скажет. Книжку он все же принес.
«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта. Ух, какие там были чудеса! Почему я не встречал ни одного закованного в железо рыцаря? Видно, они живут и сражаются только в Бургундии и во Фландрии. Только что я видел запряженного в водовозную бочку мерина Ансиса — в мире книг лошадей облачали в доспехи, седлали, приучали к сражениям. А мне что-то больше нравятся автомашины…
Я завел машину — и снова поехал в Подолию, напевая часто слышанную от матери песню: «Уехал латыш далеко на чужбину». С винтовкой за плечами я постучал в железные ворота. Они открылись, оттуда вышел Подольский принц.
— Что угодно чужеземному рыцарю?
— Ваше величество, — сказал я учтиво, как учил Квентин Дорвард, — я явился, чтобы посетить ваше царство. Я бы прилетел самолетом, но не знаю, найдется ли подходящее место для посадки.
— Ага! — высказал догадку принц. — Вы хотите мне служить?
— Я свободный человек и никому не служу.
Такой ответ чужеземному принцу не понравился, и он нахмурился.
— Тогда что же вам нужно?
— Я хочу повидать прекрасную принцессу Изабеллу…
Не успел я произнести имя принцессы, как принц страшно рассердился.
— Как ты, бродяга, осмелился! Сюда, слуги, отведите его в застенок, уложите на раскаленную решетку, пусть извивается, как минога!
Подбежали слуги: черные, как черти, хвостатые, рогатые. Но я не стоял раскрыв рот, я выстрелил, и эти подручные повалились вокруг меня. Принц ухитрился куда-то спрятаться; я знал, что если у холопов душа безжалостная, то у знати трусливая. Горделивой поступью победителя я шествовал по широким залам дворца. И вот я возликовал: принцесса, точно водяная лилия, расцвела среди зеленых листьев. Белая-белая, с золотистой улыбкой в глазах. Но как до нее добраться, если в этом месте этакая топь? Я не мог отступить, раз уж одолел целую рать, геройски подвернул свои штанцы и забрел в тину. Вскорости я был уже по пояс в воде, а от лилии меня отделял целый метр. Я подтянул ее к себе ружьем, уже хотел было сорвать, но передумал. Я знал, как быстро вянут сорванные цветы, пусть она колышется на воде и цветет для меня одного. С чувством гордости и с мокрыми штанами я пошел к берегу, но вдруг отчаянно завопил — в ногу мне воткнулось что-то острое. Одним прыжком я вымахнул на берег — в пятке зияла глубокая рана, из которой текла кровь. Ага, понял я, это трусливый принц нанес подлый удар мечом. От такого всего можно ожидать. В другой раз я приеду сюда на танке и разнесу весь этот дворец из пушки.
Я поковылял домой — перевязать рану и выслушать от матери нотацию…
Суровый дед-ноябрь дохнул ночью на берега Гауи — будто дверь ледника распахнулась. А я и представлял, что там, на севере, есть огромные-преогромные завалы льда, — спустя несколько лет прочитав книгу о Северном полюсе и Ледовитом океане, я был в восторге, что сам «сообразил», как оно на самом деле. Ну и холод! Белая трава свалялась под беспощадным холодным солнцем, голые деревья съежились, песок смерзся в корочку и на берегу протоки подернулся льдистой пленкой. Никакого желания выходить на улицу, а надо. Под присмотром матери одеваемся потеплее — насколько нужда позволяет, обуваемся в прорезиненные башмачки и отправляемся на картофельное поле.
Работник Казимир ходит с мерином Ансисом, запряженным в пружинную борону — то и дело из-под нее выкатывается картофелина и тут же переселяется в наши корзины. Зимой пригодится. Старшая сестра Мирдза привезла меру свежей салаки для засола; сама она уже лежит в Детской больнице в Риге. У нас есть несколько борозд картошки, небольшой огородик и вот это право проходить потом еще раз по всему полю. Свой урожай был небогатый, мы больше рассчитываем на собранное за эти дни. Пригодится, пригодится, пригодится зимой… Я твердил это как молитву. Препаршивое занятие — пальцы на ногах мерзнут, а ты все кружишь и кружишь по истоптанному полю. Казимиру хорошо, у него кожаные сапоги, а мои прорезиненные ботиночки так и липнут к бумажным чулкам — липнут и обжигают. Картофелина — одна, другая, третья. Зимой с салакой… Как-то там Мирдзе в больнице? Наверное, не так холодно, как мне здесь, все белое, чистое, врачи, сестры, вежливые сиделки, палаты белые, еда вкусная. Меня чуть не зависть берет. Будь бы еще хоть сапоги, как у Казимира! Казимир мне друг. Прошлой осенью, когда он колол большие чурки, я крутился, помогал находить клин, давал умные советы, надувал щеки, когда он бил — «бах, бах». Мать выбранила меня: что я путаюсь у человека под ногами, но Казимир заступился — это я ему работать помогаю. А как же другу не помочь!
Я следую за другом, ему некогда мною заниматься, разве что порой бросит ласковый взгляд через плечо. Казимиру тепло. Ансису тоже. Казимир из далекой Латгалии, пришел к местным «господам» заработать, потому что сам стал новохозяином; к сожалению, надел он получил без белых барских строений и яблоневого сада, без генеральской пенсии, без паев в рыболовецком обществе, но и без расточительной супруги. Да, нет на свете равноправия — у меня мерзнут ноги, у Ансиса нет, у Казимира нет. У генерала расточительная супруга — от этого и Казимиру худо: никогда в срок не получает заработанное. А как же человеку разжиться инвентарем и начать хозяйствовать самому?
Ужасно мерзнут ноги.
Казимир вскрикивает, останавливает Ансиса, кнутовищем ковыряет в земле, бьет, снова роется. Что это там?
— Крот! — отвечает Казимир.
Это еще что за зверь? Впервые слышу, ни разу не видел.
Казимир бьет кнутовищем. Забыв о мерзнущих ногах, я подлетаю чуть ли не под кнут. Айна держится в сторонке. В земле что-то блестяще-черное, юркое-юркое. Казимир бьет по нему, это черное покрывается кровью; охваченный страхом и отвращением, я отступаю. Когда любопытство вновь притягивает меня, Казимир уже обдирает крота. Хоть и противно, но не настолько, чтобы нельзя было смотреть. Чудесная шуба, только почему ее надо сдирать? Казимир объясняет, что он хочет сшить шубу себе. Ух ты, из такой маленькой?! А он наберет побольше, кроты, они вредные, их уничтожать надо.
Может быть, все может быть.
И опять Ансис тащит борону, опять выкатываются редкие картофелины, и у меня так зябнут ноги. Айна уговаривает потерпеть; но сколько же можно терпеть, хоть бы костер развести. Но не из чего, да и кто будет разводить. Казимир только погоняет Ансиса.
У меня кривятся губы. «Я пойду», — с какой-то угрозой говорю я Айне, которая на год старше меня и потому здесь, на поле, замещает мать. «Я на тебя пожалуюсь!» — говорит сестра, наверное думает, что я притворяюсь, что хочу бросить ее одну. Ну и жалуйся… Но все же не ухожу. Подошвы будто заледенели, совсем не чувствую их. Увидев мои слезы, Айна сжалилась и заторопилась домой.
Мать растерла мне ноги, натянула две пары носков, дала горячего чаю и уложила в постель. Я заснул и видел страшные сны. Казимир распилил на чурбаны и переколол на толстые поленья весь барский парк — всё до последнего дерева. И вот он принялся всю эту уйму дров и сучьев сжигать; я заблудился где-то в середине парка, никак не выбраться. Вокруг шипит пламя, мне жарко, ужасно жарко; я прыгаю со ствола на ствол, они горят и обжигают подошвы. Я кричу, бегу, перекатываюсь через угли и пламя… Очнувшись, жалуюсь матери.
— Это у тебя горячка, пройдет, — успокаивает она.
Горячка прошла, это правда. Но на пальцах ног и на подошвах вздулись черные пузыри, вроде чирьев; они набухали, лопались, нарывали, ужасно зудели, наконец покрывались струпьями, но появились новые в другом месте, и жизни мне от них не было.
И так весь ноябрь, декабрь, январь… Только в феврале, в Карлинин день, я впервые обулся в новенькие ботинки со шнуровкой и вышел во двор. Дорога вела в Заколье — мы с Айной спешили поздравить бабушку с именинами. Бабушка работает у обжарочных печей, сейчас, как говорят царникавцы, самая «рыбная пора», но нас принимают радушно, мы, главным образом, сидим дома, едим сладости и играем. Я чувствую себя отъевшимся зайчонком в занесенном мягким снегом лесу.
В ту зиму, мучаясь с отмороженными ногами, я начал читать газеты.
Во время немецкой оккупации один человек на набережной Даугавы вопил от радости: «Ура! Война кончилась! Радуйтесь, люди!»
Собрались все пешеходы, подлетели шуцманы и стали спрашивать, откуда такие сведения. Человек достал из-за пазухи груду газетных вырезок: «Прочитайте, прикиньте, сосчитайте! Общий довоенный тоннаж во всем мире был такой-то, мощность верфей такая-то, по сводкам немецкого главного командования каждый день утоплено столько-то… Вчера отправлен на дно последний корабль, даже десяток сверх того — и война кончилась. Германия победила!..»
Улыбался рассказчик анекдота, хохотали слушатели. Я не смеялся — и не смеялся потому, что уже давно, еще с детства, знал лживую природу газет. Если книга казалась воплощением мудрости, то газета — жуликоватой девчонкой, которая всегда готова заморочить тебе голову. Достаточно было почитать, что об одном и том же событии сообщали в «Яунакас зиняс» английское агентство Рейтер, французское Гавас, итальянское Стефани… Факт признавали (от Жаниса я узнал, что факт — это что-то вроде как кулаком в глаз), но факт этот гнули, мяли, крутили, растягивали и в результате выпекали совсем разные калачи. Вот и пойми, которым питаться. Мне было одиннадцать лет, когда «доктор гонорис кауза» Карлис Ульманис основательно сузил этот выбор. Изведал я и то время, когда газета пекла один-единственный каравай. И все же не могла ни мне, ни другим втолковать, что людей надо ненавидеть только потому, что они другой расы, или потому, что они думают иначе, чем издатели газет; не смогла втолковать, что для маленьких народов величайшее счастье впрячься в чужеземное иго, что предатели — благороднейшие представители народа; мы не верили, что миром должна править ненависть, а нам надлежит только тупо подчиниться, не верили, что жестокий тиран — символ свободы и что беззаконная расправа с человеком — это высочайший гуманизм.
Я учился читать газеты и учился не верить. Я думал — потом, когда вырасту, выдеру у этой подлянки настоящую правду. Тогда мне было шесть лет, я еще не знал, что и те, кому в десять раз больше, все равно не умнее в этом отношении.
Газеты нравились особенно потому, что рисовали картину мира. ТАСС рассказывал, что русские построили гигантский самолет — самый большой в мире — вот гляньте, какой он; американцам принадлежал величайший воздушный корабль (писали «дирижабль», а в народе еще со времен войны говорили «цеппелин») — совсем как гигантский огурец, под брюхом моторная гондола; французы строили величайший корабль «Нормандия»; японцы устроили величайшее кровопускание в Шанхае, а английский величайший дредноут «Худ» вытягивал самые толстые стволы. В каждом номере газеты сталкивались поезда, тонули корабли, падали и разбивались самолеты. С помощью газет и атласа Дебеса я познакомился с Латвией, Европой и всем миром; я узнал, что есть сказочная Америка с нью-йоркскими небоскребами, и еще более сказочный Китай, и страна восходящего солнца — Япония; что есть бескрайние океаны и пустыни, прерии, пампы, сельвы, льяносы, джунгли, саванны, тундра, тайга, гейзеры, бумеранги, слоны, верблюды, джонки, бамбуковые заросли, юрты, кокосы, эскимосы, кашалоты, ананасы… Голова от всего этого шла кругом. Мать ворчала, что я до тех пор буду сидеть, уткнувшись в книжку, пока глаза не испорчу и умом не тронусь. Спрятавшись на чердаке, я избавлялся от ее ворчания. Тут же я садился в аэростат и поднимался на такую высоту, где вечный холод, потом перебирался в другую корзину — на спине слона, заряжал ружье, стрелял в полосатых ревущих тигров; спустя минуту волны южных морей несли меня к цветущему коралловому острову, заманчиво восстающему из вод: рифы атолла вспарывают белые валы, лагуна зеркально гладкая, кувыркаются золотисто-красные рыбы. Кокосовые пальмы, финиковые… Арабы зовут финиковую пальму королевой пустыни… Верблюжьи вопли, шуршание гонимого самумом песка, где-то вдали фата-моргана, словно недостижимое, влекущее к себе, сказочное царство.
Я ежусь — ветер нещадно хлещет сквозь трухлявую гонтовую крышу Конюшенного дома, мелкий, сыпучий снег бьет в многочисленные щели. Зима — суровая, нещадная мачеха — пробирает до костей. Я сжимаюсь в комок — как промокший кутенок, приваливаюсь к плите. В плите шипят сырые дрова, они нисколько не греют. Мать подбрасывает несколько сухих поленец, надевает очки и шелестит лживыми страницами газеты. Керосиновая лампа мигает, сестра рассказывает, что шофер автобуса в лавке любезничал с обеими продавщицами — Мильдой и Малдой. Вот и мне достается газетный лист. «Яунакас зиняс» — пухлая пачка бумаги, так что один может читать, не мешая другому. И мне становится тепло от чтения, я только что обнаружил, что в газете печатают роман. Нет, вы оцените название — «Страшные тайны султанского дворца»! Преданный слуга приводит прекрасную рабыню в спальню, где ждет султан, сам слуга, трепеща, остается за дверью. Я тоже взволнован — такое предчувствие, что ужасный султан посадит несчастную на вертел, поджарит и съест полусырой или сделает что-нибудь еще более ужасное. К сожалению — «Продолжение следует». Жди теперь до завтрашнего вечера. Может быть, мама знает, что будет дальше, к кому же мне еще обратиться? В тот момент, когда мама переворачивает страницу, я спрашиваю:
— Мама, а что султан сделает с этой рабыней?
Мамины глаза делаются такими, как стекла ее очков.
— Что ты там еще вычитал?
— Вот, — я с детской непосредственностью тычу в роман.
Газету тут же вырывают из моих рук. Мать разгневана:
— Кто тебе разрешил?! Это не для детей!
Вот тебе раз! Материн гнев холоднее зимы. А что я плохого сделал, я ведь уже давно читаю газету.
На другой вечер я осторожно подбираюсь к продолжению. К сожалению, мать не забыла, лист с романом не дала. Забыла она только через неделю, и я вновь читаю роман, но «то» продолжение уже пропущено. Что сделал султан с прекрасной невольницей, я и сейчас могу только предполагать. Зато я узнал, что лишние вопросы до добра не доводят.
Я склонился над газетной страницей, которая вся занята королевской четой — изображениями Георга и Мэри; золоченая карета, средневековые костюмы, блеск, почести, слава. Посередине страницы лежит маленькая потрепанная книжка «Принц и нищий» Марка Твена. Как странно переселиться из грязи Двора отбросов, из мира лохмотьев, вечного голода в блистательный мир королевского дворца с его изобилием. Может ли человек, по ошибке попавший с нищей улицы во дворец и по недоразумению сочтенный принцем, просто так вот скинуть вонючие лохмотья, а с ними отбросить и воспоминания: холодная ночь, скудный кусок хлеба, истязающие душу побои, людское бездушие. И ведь те подонки, которые считают настоящего короля человеком не в своем уме, они-то самые несчастные — это тяжесть гнета ожесточила их. Но какая низость время от времени предстает в роскошных облачениях вельмож! Еще до того, как жизнь научила меня этому, я узнал от писателя, как тираны и их слуги не знают жалости к человеку.
Грязь Двора отбросов! Ну, знаете, есть грязь куда похуже, поэтому воспоминания можно быстро смыть — многие к этому привыкли, — так же как отмахнуться от напоминаний тех, кто не сумел вскарабкаться «наверх», так же как стереть то, что было запечатлено в душе. Грязь лицемерного прославления, рабского служения, мнимого величия и иудиных сребреников — эта грязь похуже, она пристает так, что ее и стальным скребком не счистить. Вовсе не нужны золотой дворец и прекрасная принцесса, чтобы человек забыл все, что причиняло боль ему и по-прежнему причиняет боль другим: порой достаточно удобной квартиры, лимузина, хорошего жалованья, достаточно просто жирного куска с королевского стола.
Мирская слава. Я спрашиваю себя: «Если ты завтра станешь принцем, сможешь забыть все?» И отвечаю: «Я не забуду! Никогда! Ничего!»
Долгие годы я наизусть помнил многие страницы этой повести. Поток времени унес почти все, но одна фраза навсегда засела в моем мозгу, наверное потому, что она горит во мне каждый раз, когда приходится слышать умные рассуждения преуспевающего лица о жизни «маленьких людей»:
«Что ты знаешь об угнетенных и муках! Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты!»
Граф — повелитель Фландрии — устраивает рыцарский турнир — зван был и я. Я получил учтивое письмо, на шелковой бумаге, с золотым гербом, с обращением «Ваша светлость», с присовокуплением титулов, которых у меня никогда не было и которые я не стремился заполучить. Я покрутил шелестящую бумагу и решил, что отказываться неудобно, могут счесть малодушным, может быть даже высокомерным, а я — можете верить, можете нет — чувствовал в себе столько отваги и благородства, как никогда потом, даже сейчас. Я решил явиться. И телеграфировал: «Благодарю за приглашение тчк Прибуду в срок тчк До свидания тчк». Я полагал, что ответил с достоинством и без ошибок. Потом я пошел за патронами для своего ружья, потом покрутил ручку автомашины (у меня был четырехместный кабриолет) и, удобно усевшись на кожаное сиденье, взялся за руль. Мотор зарычал, флажок на радиаторе затрепыхался, за мною потянулась белая полоса пыли и дыма. У государственной границы путь преграждал шлагбаум.
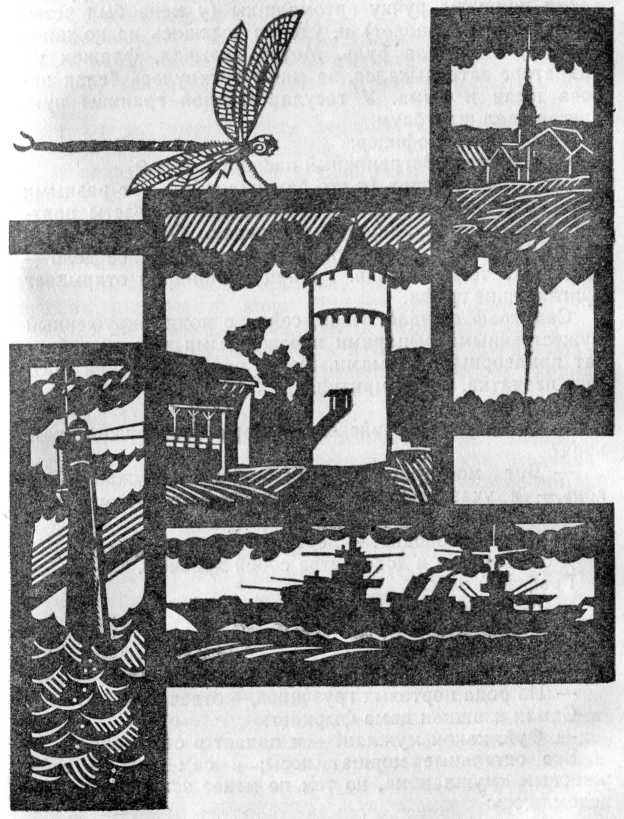
Пограничный офицер:
— Вы куда? Заграничный паспорт имеете?
Я достаю паспорт (я его сам смастерил — с разными записями, чинами и даже вырезанный из газеты портрет офицера в мундире), предъявляю. Офицер тут же салютует саблей, я же отправляюсь на опасное дело — защищать честь Латвии. Границу Фландрии открывает приглашение графа.
Сам граф ожидает меня, сойдя с коня, окруженный мужественными рыцарями и разодетыми в шелк и бархат придворными дамами. Пажи несут графский щит, меч, перчатки, подол мантии.
Граф спрашивает:
— Почему у латвийского рыцаря нет оружия, лат, коня?
— Вот мое оружие, — поднимаю я ружье. — Вот конь, — я указываю на автомашину. — А латами мне служит отвага.
— Как благородно! — перешептываются дамы.
Я от гордости и довольства собой краснею.
Графский паж:
— Какой у вас герб, кавалер?
— Я представляю герб своей страны!
Паж не отступается:
— А ваш личный герб — из какого вы рода?
— Из рода портовых грузчиков, — отвечаю я.
Самая изящная дама фыркает:
— Фуй, какой мужлан! — и падает в обморок.
Все остальные морщат носы; я сам кажусь себе ужасным «мужланом», но тем не менее оскорбленно осведомляюсь:
— Кто-нибудь осмелится выйти против меня?
Рыцарь — сверкающий, разряженный, гордый, как павлин (павлинов я никогда не видывал, но знал, что такие есть), — хватает меч, садится на коня и восклицает:
— Я вызываю тебя, хвастун!
Паж излагает мне правила поединка: надо сесть на своего моторизованного коня, выехать навстречу вооруженному всаднику, обнажить оружие и укрыться щитом.
— Вы же вместо щита держите перед собой отвагу, — насмешливо добавляет он.
Я возражаю, мне же трудно вести машину и сражаться, я лучше останусь на месте, но паж неумолим — надо соблюдать правила игры. Герольды уже дуют в трубы, они звенят, звенят — над старицей, над Гауей, над лесными вершинами, над всей Фландрией. Птицы щебечут, мотор фырчит, земля загудела под копытами рыцарского коня. Я стреляю, я сшибаю его молнией из ствола, пулей. Трубы смолкают, мотор замирает, я вылезаю, подхожу к лежащему. Птицы больше не поют, вода застыла, вершины деревьев склонились. Убит, мертв. Я поднимаю забрало — лицо белое, неживое. Надо соблюдать правила игры… Это уже не игра, это смерть, меня охватывает холод. Зловещая музыка, она исходит из подземелья — глухая, мрачная. Я слышал ее на похоронах моего отца, я уже не помню того дня, не помню самих похорон, но погребальная музыка часто преследовала меня в кошмарных снах. Тогда я просыпался весь в поту, охваченный безумным страхом. И вот эта ужасная, наводящая страх музыка звучит среди белого дня; мир безмолвствует, а музыка звучит. Ружье падает из моих рук, я покидаю поле сражения — побежденный победитель. Я влезаю на склонившееся над протокой дерево и вглядываюсь в темную, затянутую водорослями глубину. Что там таится — сказочные чудеса, замок русалок, сокровища или гибель? Зачем я стрелял, ведь он же человек. Сними с него латы, меч — и будет такой же славный парень, как Жанис: немного хвастун, немного враль и трепач, немного скуповат, немного тороват, но все же живой человек, человек… И зачем мне надо было стрелять? Смерть, темная яма, тление, ничто, страшная музыка. Зачем же было стрелять?
Мир постепенно оживает. Птицы щебечут, сине-зеленые стрекозы снуют над водой, скользят по глади какие-то пауки, плеснулась беспечальная рыба, ветер заколыхал вершины деревьев, где-то крикнул кичливый петух. Мир опять такой же, как до поединка, но уже не такой. Что-то исчезло. Где это найти?..
Надо же — я раздобыл книжку Яниса Порука «Искатель жемчуга» и предвкушаю чтение о далеком Цейлоне, о ныряльщиках в подводное царство, а может быть, даже о морских разбойниках. Сначала я был разочарован, злился, потом стало любопытно, хотя в некоторых местах книга казалась скучной — но это я быстро пробегал глазами.
Я шел домой из Заколья, со мной была мама, сестра, еще какая-то тетушка; из-за горизонта выкатился круг луны, тусклый свет растекался по извилистой дороге, с серебристым звоном пели телефонные провода. Звезды призрачно мерцали в воздушном океане — будто жемчужины, — и мне хотелось закинуть платиновую лесу телефонного провода, чтобы выхватить этот жемчуг из глубин неба. Каким богатством наполнил бы я свои карманы, завтра обошел бы всю Царникаву и всем подносил в подарок по жемчужине. Жемчуг, наверное, красивый-красивый, даже представить себе трудно, сверкает ярче звезд. Мне еще помнится горькое разочарование, когда я впервые увидел настоящий жемчуг в витрине ювелирного магазина на Известковой и горестно воскликнул: «Тьфу, дерьмо какое!»
В ту ночь столбы покачивались, как гигантские удилища, закинувшие в вечность свои платиновые крючки; на крючке ничего не было, но я мог себе представить, понимаете, представить, — и первая жемчужина уже плясала перед глазами, как взметнувшийся над гладью Гауи лещик. Вершины деревьев колыхались, как водоросли в море при лунном свете, и звучал струнный концерт, и дорожная щебенка хрустела под нашими ногами.
Мне уже было известно, что многообразие мира можно заключить в узкое помещение, можно перевести на рисовальную бумагу, на грифельную доску, выразить словами на листочках писчей бумаги. К сожалению, я этого не мог — а вот Мирдза могла.
Мне было ровно пять лет, я научился читать и начал выводить и буквы — грифелем на доске. В ту осень Мирдза на том же черном кусочке нарисовала автомашину. Когда рисунок стерся, я попытался сделать его сам, но у меня ничего не получилось. Я снова попросил Мирдзу, она взяла мел, но сказала, что нарисует уже не машину. Я возроптал. «Ну, посмотри», — сказала она и быстро-быстро набросала крышу дома, трубу, высокие сугробы, очертания занесенного снегом берега реки. Я сдержал протест, придвинулся ближе, чтобы вникать в каждую деталь. В том углу заснеженные кусты, проткнувший облако рог месяца, падает одинокая снежинка, в окне зажегся свет, и луч света упал на замерзшего длинноухого зайца, дрожащего под кустом. Я смотрел на Мирдзины пальцы, которые, зажав кусочек мела, возводили в пустоте целый мир.
Настоящее волшебство творили Мирдзины руки на рождество. Она слегла после далекой поездки в суровый мороз, расстроенная тем, что бессовестный хозяин не подумал везти заработанные ею продукты, а когда настойчивая пастушка приехала сама, дал ей то, что похуже. Но вот она опять пришла в себя и принялась творить яркую сказку в углу нашего бедного жилья. В ее распоряжении были еловые и сосновые ветки, мох, вата, креповая бумага и станиоль; она поставила в самый сумеречный угол комнаты стул, укрыла его хвоей и бумагой, вата создала картину заснеженного леса, станиоль сверкал, точно кристаллики в морозную ночь. Тут же послышалась песня бубенцов, возникла запряжка рождественского Деда Мороза.
Сказка кончилась после крещения: осыпавшаяся хвоя, голые засохшие ветки, смятая бумага и потрескавшаяся фанера стула. Как просто рассыпается такая красота — меловой рисунок стерся, лунная ночь погрузилась в тучи, прервалась нить жизни какого-то человека. А разве это так просто? Для нас? И для того, кто ушел?
Мирдза все следующее лето кашляла, но все равно опять пастушила. Для нужды нет отдела кадров, который строго требует представить документы о состоянии здоровья. Хозяин зимой дал лошадь — хороший хозяин, не жульничал с заработанным; Мирдза пасла, кашляла, рисовала акварели и писала стихи. Ее учитель в Адажской школе считал, что она будет художницей, но сама Мирдза больше тянулась к литературе. Она уже писала нечто вроде очерков — на пастбище, дома, уже лежа в постели и в Детской больнице. Стихи аккуратно переписывала в маленькую тетрадь, которую хотела послать Яунсудрабиню. Еще до болезни решив это, она писала:
А голова все тяжелеет,
Так гнется ветвь, дождем полна.
Не для меня дары лелеет
Не мне пришедшая весна.
Что ж тяжесть слов ронять напрасно
И что напрасно слезы лить,—
Так хочется их жемчуг ясный
Собрать и нанизать на нить.
Началось туберкулезное воспаление брюшины, к этому присоединился менингит. Мирдза скончалась в тяжелых мучениях. Во время агонии она на миг обрела сознание, взглянула на прикорнувшую у кровати мать и вздохнула:
— Мама, так тяжело умирать…
Ей еще не было шестнадцати лет.
Океан лунного света уходит в бесконечность, но в него уже не глядятся глаза Мирдзы; если бы она знала, как добывать жемчуг из глубин вечности, уж она-то насыпала бы мне полную пригоршню: «На, Вись, я тебе дарю!» И мне бы не жалко было дарить, только у меня ничего не было, я не имел ничего. Переполненное сердце — и пустые руки. Была красота вселенной, а я стою перед нею жалкий и нищий — ничего не знаю, ничего не умею…
Вы видели, как буйвол идет по водной глади? А индусская священная корова? Даже у нее наверняка это не получится, какой священной она ни будь, — а вот человек мог. Человек этот выглядел необычайно: в длинном одеянии, с пышной бородой и волосами, вокруг головы светящийся круг — позднее я узнал, что этот круг зовут нимбом. Таким он стоял на обложке книги «История царства божия», которая была Мирдзиной собственностью. Что-то необычное, к тому же страшное, мрачное, кровавое — совершенно отличное от того, что я представлял себе о жизни на белом свете. Не очень-то веселым был рассказ о принце и Томе Кенти, но он хоть был правдоподобным, его можно было понять и пережить, а эта книга была слишком тяжела для моего восприятия. Такая зловещая — нечто похожее рассказывают осенними вечерами, когда на дворе моросит дождь, воет ветер, а рассказчику и слушателям приятно сознавать, что они сидят в светлой, теплой, сухой комнате.
Бог, церковь. Трогали светлые летние утра, когда колокольный звон долетал к нам за четыре километра с далекого холма, возвещая воскресенье и напоминая, что сегодня утром запахнет кофе «Вега» и можно будет поесть вкусного молочного белого хлеба. Я смогу надеть новые штаны и резиновые сапоги, в будни я шлепаю в залатанных штанах и босиком. Таким образом, все церковное и божественное сводилось к воскресному. Мать моя в церковь не ходила.
В обсуждение некоторых книг моя мать не пускалась, к экскурсам моим в «Историю царства божия» относилась сдержанно, наказав только, что напечатанную там молитву «Отче наш» надо выучить и произносить каждый вечер перед сном. Устроившись с коленями на стул, я погрузился в книгу, именно «погрузился» — как смеялись мать и Айна. Я умел отключаться от всего мира. Айна стала трясти меня: «Отдай стул, мне шерсть мотать надо, возьми этот, старый», — я, продолжая читать, машинально встал и остался стоять. Айна подвинула стул, через минуту я сел и — бах! — очутился на полу. А уж если исчезла книга, то и я «проснулся». Айна захихикала, мать, хоть и сама большая книжница, рассердилась: «День-деньской читает, читает, все бубнит про себя — право, рехнется. Уже и сейчас тронутый!»
Я грустно вышел из дому и побрел к протоке. Порок дотошной любознательности я сумел преодолеть или хотя бы скрывать, а вот с этим: «Спит среди книг, все бубнит про себя» — не под силу. Уже сейчас мать говорит: «Тронутый».
Вечером я все же решил про себя прочитать «Отче наш». Я уже забрался было под одеяло, но тут откинул его, добрался до «…яко твое есть царствие…» и застрял совсем в другом царстве: ревущий бакен остался в устье реки, по берегам росли апельсиновые деревья с сочными плодами (я сглотнул слюну), бесстыдные обезьяны показывали голый зад, вдали виднелся портовый город, совсем как силуэт родного Милгрависа с фабричными трубами, садами, с бетонным дворцом в гуще домишек. Звенела якорная цепь, я, в капитанском мундире с золотыми галунами, схожу на берег и отбываю в «сонное царство»…
С утра я взял «Историю царства божия», полистал и засунул подальше под кровать. Отыскал «Черные алмазы» — описываемое там царство выглядело куда интереснее, к тому же там была любовь, призраки, которых можно было разгонять дубинкой, вообще все было интереснее. Бог творил свой мир, Мавр Йокай — свой, я тоже мог создавать свой и стремился — как нынче говорится — к мирному сосуществованию.
В школе я опять столкнулся с библейскими сказаниями и учил их так же вяло и послушно, как все остальное. Только в четвертом классе во мне проснулся строптивый дух безбожия, но он никогда не принимал активно-злобный, оскорбительный для других характер. Как-то быстро сложилось убеждение, что величайшее право человека — свобода убеждений и верований, а величайшая обязанность — не навязывать другим своих богов и святынь.
Туманное утро глядится в окна — каждое о шести стеклах — чердачной комнаты Конюшенного дома. Мать уехала в Ригу, покой, тишина — можно дремать сколько хочешь. Неожиданный гул сотрясает чуть не весь мир, я вырван из сна, я подскакиваю к окну. Над моей головой, как будто даже касаясь шасси каштанов, проносится самолет воздушной линии «Дерулюфт» — большой, с гофрированным фюзеляжем, трехмоторный. Вот он уже исчез за Блусукрогским лесом; там идет дорога на Яунциемс, на Милгравис, на Ригу. Дорога эта так и петляет, огибает Киш-озеро, а самолет летит прямо, поверх зарослей, болот, дюн, озер, моря. Сказочный ковер-самолет — вот бы и мне на нем полетать.
Видеть такой большой самолет так близко! Это что-то особенное. Маленькие самолеты на большом расстоянии я видел часто: военные бипланы. Посеребренные, с черной свастикой на крыльях и фюзеляже, одномоторные, со сверкающим кругом пропеллера спереди, они почти ежедневно гудели, трещали, выли в царникавском небе, крутились, описывали широкие круги, стремительно падали вниз и вновь взмывали почти вертикально. Довольно часто они гнались за увлекаемой другим самолетом «колбасой» и, треща пулеметом, обстреливали эту «колбасу», только клочья летели. Вот это игра! И меня невольно подмывало на такое же! Я ищу самолет. Нахожу. Из газет я знал, что в самолете сидят пилот и наблюдатель. Кого позвать в наблюдатели? Я подумал и решил, что самым надежным товарищем был бы Квентин Дорвард.
— Залезем в самолет и займем места!
Ободрав щиколотку, я вскарабкался на ясень, добрался до первых ветвей — дальше пошло легче. Наконец я на верхушке, откуда отличный вид на окрестные кусты, заросли аира и трясину. Только раскидистая боковая ветвь старой, корявой, рассевшейся ивы поднимается над нами, закрывая воздушный путь в Ригу.
Я говорю Квентину:
— Знаешь что, вызовем ее на воздушный бой и собьем в протоку.
Квентин вставляет в пулемет ленту, я заставляю крутиться пропеллер. Гул увлекает нас в воздух. Самолет кренится, падает в воздушную яму. Я выравниваю его, листья шуршат и осыпаются, крылья скрипят и гнутся. Я прибавляю скорость.
— Огонь!
Тр-р-р-р… сверкает конец ствола, сыплются пустые гильзы. Квентин кричит: «Давай ле-ве-е! Теперь правей!» Я закладываю такие крутые виражи, что чуть не вываливаюсь из кабины. Мертвая петля. На миг земля мелькнула перед моими глазами. «Давай новую ленту, Квентин! Мы на него спикируем!» Я прибавляю газ. Корпус самолета кряхтит на большой скорости. Стреляет и противник, я ловко ухожу в разворот. Трещит перебитый лонжерон. Квентин сваливается в бездну, я хватаюсь за ручки пулемета, даю еще несколько очередей и планирую сквозь густые ветви клена. Треск, визг, плеск… Господи, мои штаны! Нет, штаны выдержали, а вот ляжка — наверное, эти негодяи стреляли пулями дум-дум. Ну конечно — вон как рвануло, словно собака хватила. И не так больно, как страшно матери. Что делать? Врать я не умел, а правду говорить не хотел. К счастью, кровь текла не очень, я залепил рану куском газеты и геройски не хромал, делал «бесстрастное лицо». А вдруг Айна узнает? Пожалуется, не пожалуется?
Рана болела несколько дней, потом горела и страшно зудилась. Ничего, перетерпим — ладно еще, что штаны не пострадали, вот уж тогда крику не оберешься. Прошла неделя, и остался только некрасивый струп, который я радостно сковырнул; синеватое пятно держалось еще с месяц.
Но величайший сюрприз поджидал меня спустя день после аварии, когда рана ужасно болела. Я пошел к клену, чтобы отыскать потерянный вчера пулемет, и увидел чудо: раскидистая ветвь ивы отломилась от трухлявого ствола и перекинулась через протоку, которая была здесь узкая. Образовались естественные мостки, которыми я в то лето пользовался.
Я стоял, смотрел, раскрыв рот и вытаращив глаза. Право, я готов был поверить, что это сделали точно посланные пули Квентина.
За Конюшенным домом росли высокие каштаны — они вымерзли суровой зимой 1939–1940 года; вдоль дороги высились дубы, клены, ясени, густые заросли акации — их уничтожила людская безжалостность и равнодушие. Неужели те, кто дал погибнуть этой красоте, не подумали, что они обворовали детство своих детей? Наши деяния следуют за нами всегда и повсюду.
А на берегах старицы цвела черемуха и заливались соловьи, потом поднимали свечи своих цветов каштаны и желтели кусты акации. Все лето представало сказочным садом и площадкой для игр; я подвешивал качели к ветви каштана, из ветки акации делал лук, из дранки — стрелы. Сначала я не мог далеко пускать стрелу — лук слабоват, стрелы тяжелые. Но луки мои возрастали по силе и размерам, вскоре они уже сравнялись со мной в высоте, а стрелы были все еще тяжелые и кувыркались. Меллаусис научил меня:
— Черенок стрелы делай тонкий, вроде как спичку с концом потяжелее. Перья пристрой на другой конец, чтобы прямо летела.
Меллаусис — это был мастеровой, занятый на ремонте имения, и мой друг. Я послушал его — и стрелы стали летать по-всамделишному. Я послушал, когда Меллаусис сказал: «Не играй в войну, не стреляй в людей», — а если мать что-то внушала, бранясь, я и ухом не вел.
Каждому поколению мужчин на этой земле доводится играть в войну и стрелять в людей. Довелось и Меллаусису. Шесть лет подряд. Он носил офицерский мундир и звался капитан Меллавс; потом он носил сшитый по моде костюм и звался бухгалтер господин Меллаус — до войны он учился в коммерческом училище Рижского биржевого комитета и знал немецкий, русский, английский и французский языки. А теперь вот он был всего-навсего строительный рабочий Меллаусис, который даже по воскресеньям ходил в рабочей одежде и каждый заработанный лат вкладывал в кассу государственной водочной монополии. Он говорил: «Малыш, пей лимонад, водка нисколько не лучше. В человека не стреляй, не смей никого убивать!» Сам-то он, несомненно, убил многих и водки пил ужас как много.
Мать с сестрой собирали ягоды в лесу за Гауей, я, как неисправимый лентяй, был оставлен дома. Меллаусис помог мне сбегать в лавочку, принести яиц и грудинки, мы изжарили ее на костре; я бегал вокруг костра, яростно пнул какую-то бумагу и разбил яйцо.
— Вот видишь, как получилось, — с упреком сказал Меллаусис. — Зачем яйцо-то разбил?
Я смущенно объяснил, что играл в войну.
— Ты лучше не воюй, — сказал Меллаусис, — войны нужны только правителям да генералам.
— Я и буду генералом!
— Ты погляди вон на того генерала! Им жена командует.
— Я никогда не женюсь!
— Женишься! А генералом все равно не станешь. Ты вон еще в школу не пошел, а сколько уже книжек прочитал, думаешь все время. А генерал должен быть тупой, бессердечный.
Я этого не мог понять, но Меллаусис по-братски разделил оставшиеся яйца, и я ел так, что за ушами трещало. Потом я сел в танк, поехал в Подолию к королевскому дворцу и разнес его начисто; королевича я схватил за уши, и, вспомнив, что ливы делали с принявшими веру крестоносцев, приказал омыть его в старой протоке. Королевич сопротивлялся — он хотел жить и умереть в вере предков. Я обдумал этот вопрос и великодушно разрешил ему жить и верить в угодного ему бога.
Меллаусис на этот счет полагал так:
— Каждый пусть делает, что ему хочется, только другим не во зло, пусть даже птиц не трогает. Можешь охотиться на медведей и львов.
— Птицы хорошо поют, — согласился я.
— Кто птиц убивает, тот в себе человека убивает, безжалостный становится.
Я подумал — может, Меллаусис и прав. Птиц я не хотел убивать. Я стал стрелять львов и крокодилов; мои стрелы уже перелетали Конюшенный дом, ужасно зля пекариху, — еще глаз кому-нибудь выбьют! Как она не понимала, что я в людей не стреляю.
А Меллаусис все пил и пил. Уже до того допился, что приходил выпрашивать денег у матери — а где ей было взять, когда мы сами в лавочке задолжали! Квартирные, тут особое дело — мадам генеральша первого числа каждого месяца навещала наш чердак; мать знала, что тут никуда не денешься, потому и квартирные деньги никуда не могли деваться. Мадам генеральша приходилась мачехой дочери, которую с такой помпой выдали замуж. Первая жена, покойная, была благородная дама, русская княгиня; а эта, как говаривали царникавцы, «простая баба», но насчет того, как просаживать деньги, могла кого хочешь обставить.
Выдирать заработанное приходилось с трудом. А жажда у Меллаусиса была страшная, утолить ее было нечем, и все же он опять ухитрился напиться, — в первый школьный день, вернувшись домой, я нашел его в сарае на сене. Он корчился, странно хрипел, на губах черная пена, меня не узнавал. «Меллаусис, Меллаусис!» — испуганно закричал я и побежал звать взрослых. Пекариха тут же прибежала с теплым молоком — безотказным средством от всего, по ее мнению; сам пекарь поспешил в имение к телефону. Через полчаса на машине приехал адажский волостной врач. Ничто не помогло, Меллаусис умер; мне было всего семь лет, и я впервые видел, как умирает человек…
Его похоронили на церковном холме, у самого края, неподалеку от изгороди, и могилу предали забвению. Не то что спустя два года, когда при неудачном полете разбился сын местного хозяина Фейзака — студент. Айзсарги внесли его на плечах по самой круче холма к церкви, а не по петляющей дороге; винтовки с примкнутыми штыками поднялись в небо, резко хлестнул прощальный залп.
Люди долго говорили об этих похоронах. О Меллаусисе после смерти говорили только потому, что его мастер нашел досуха выпитую бутылку из-под политуры — последний смертельный глоток. Но ведь и так называемый питьевой спирт — яд, метил лишь ускоряет неотвратимый конец.
Я часто приезжал на берега Гауи, проходил мимо кладбищенской изгороди, но сквозь нее прошел только спустя тридцать восемь лет. Совсем иное время: Царникаву решили превратить в приморский город-курорт, отмели Гауи разбили на участки под застройку, выросли кварталы домиков, цвели яблони… Где же моя Фландрия, Подолия? Соловьи еще были, разливались так же, как и десятки лет назад, заросли ольхи погибли, кое-где еще торчит куст, но и он загажен. Вместо могилы Фейзака ровное место, но кусты зеленеют вокруг глыбы гранита, в ней виден портрет красивого парня-корпоранта; дальше к изгороди только трава, зеленая-зеленая от праха.
Меллаусис стоял возле Конюшенного дома, в поношенной одежде — рабочий человек, манишку и галстук он не носил — и говорил мне:
— Людей не стреляй, птиц не убивай!..
Школа. Светлый дворец.
Еще с самого раннего детства у меня была привычка кружить по комнате — руки за спиной, хожу и напеваю какую-нибудь песенку. «Вот еще певец-то будет», — говорила мать, полагая, что я выдался в музыкальных Киршфельдов. В школе выяснилось, что музыкальный слух у меня равен нулю. «Блеешь по-козлиному!» — одергивали меня в молодости, когда я, в веселой компании, закрыв глаза, увлекался и не только сам бог весть куда уводил мелодию, но и других сбивал. Но разве я когда-нибудь думал о мелодии? Думал, конечно, но вовсе не так, когда возился с Кантом или переворачивал Гегеля с ног на голову и обратно, мои размышления меньше поддавались словесному выражению, процесс заключался в потоке картин и настроений, вызываемых текстом песни.
Гарцуя по длинной чердачной комнате, которая была одновременно и кухней и жильем, я чаще всего пел (читай: «блеял») две песни: «Год идет за годом, все трудней в пути…» и «Сшей мне, батюшка, обувку…»
«Год идет за годом». Я видел, как они идут — вереницы месяцев. Май идет по ольшанику вдоль Гауи: распущенные волосы полощутся, жужжит совсем как жук. Нет, это не юноша и не девушка, это май, а апрель ему еще подбросил черемуховой белизны; потом июнь устилает одуванчиковым пухом приречные луга, приносит белые ночи и веселье, веселье… Июль дарит мне карманный нож, который вскорости я потерял, конфеты, поздравления — я же в июле рожден, под созвездием Льва, как Наполеон и другие великие люди. Август звенел серебром и обливался потом и, непонятно почему, хитро подмигивал зимним месяцам, обутым в валенки, о которых я мечтал, но так никогда не приобрел, в огромных ушанках (тоже предмет мечтаний, так и не обретенный), из-под которых торчит заиндевелая щетина и виднеются красные носы пьяниц. Летние месяцы приносили и бури, они ломали нераспустившиеся бутоны гвоздики, трепали и валили георгины, сбивали недозрелые яблоки, зато резеда пахла сладко, как одеколон, а на другое утро после непогоды водяная лилия нежно и коварно улыбалась из темной глубины. Порывы бури ее не трогали, она оставалась холодной, бездыханной, недосягаемой. Червяк высовывал черную голову из упавшего яблока и думал, как бы ему перебраться в другое. Я кружил по длинной комнате-кухне, и месяцы кружили в вечно повторяющемся коловращении лет. Годы приходили и уходили, у них ноги не уставали, и у меня тоже, но я знал, что чем ближе к страшной яме, тем ноги тяжелее, тело слушается все хуже, взор затуманивается… Передо мной еще дальняя дорога, для меня еще надо справить обувку — отца у меня уже не было, мать купила шнурованные ботинки. Конечно же мне хочется «в учение идти». Какое-то представление о школе у меня было. В Милгравский детский сад (подготовительная дошкольная группа) я ходил примерно полтора года. Там мы учились рисовать, раскрашивать цветными карандашами, вырезать фигурки из цветной меловой бумаги и наклеивать вырезки на простую бумагу. На пасху мы рисовали зайцев и яйца. На рождество зажигали елку и получали подарки; вместе с нами в хороводе ходил Домбровский-отец. В центральном рижском детском саду на улице Кришьяна Барона я пробыл всего несколько месяцев; тогда я часто являлся домой голодным — старшие ребята бессовестно обирали маленьких.
Какой-то будет Царникавская школа, настоящая школа?
«Вот я вырасту и стану…» Нет, нет, не пахарем. Я видел Казимира за плугом, эта неинтересная работа не по мне. «А не стать ли мореходом?» Любому понравится! Косые потолки чердачной комнаты сразу исчезают, перед моими глазами волшебно высокий свод, такой чистый, синий-синий, невиданный… И теплое море, коралловое море, волны колышутся, с зеленоватым отливом, в белой пене, острова со стройными пальмами, яркие цветы, среди которых поют и танцуют шоколадной красоты девушки. Буду моряком! На это у меня имеется, так сказать, моральное право — мать из рода знаменитейшего в Латвии моряка. Двоюродный брат дедушки капитан дальнего плавания Альфред Киршфельд считался лучшим навигатором в Латвии — недавно он получил золотой венок за сотый переход Атлантического океана. И материны дядья и кузены — капитаны, но уже не такие прославленные — такой мог быть только один. И другие материны родичи, с другими фамилиями, судовые механики, штурманы, матросы — моряки, моряки. Чего только они не повидали, где только не побывали, чего не переживали! В Атлантике столкнулись с огромным морским змеем, который вот уже столетия является сказкой и пугалом моряков всех народов, в Порт-оф-Спейне разгромили «под чистую» кабак, в Тель-Авиве «разживались апельсинами» в цитрусовых рощах, в Бискайском заливе чуть не пошли на дно, а там, где Берег Слоновой Кости, без малого не изжарились. Где-то на берегах реки Святого Лаврентия курили трубку мира с краснокожими, где-то в Девисовом проливе взяли на борт эскимосов — женщины уж такие пахучие были! Они рассказывали, что устья Амазонки даже увидеть нельзя — такое оно широкое, а Суэцкий канал такой извилистый, что встречный корабль издали кажется идущим по песчаной пустыне. Хватает у них рассказов и о недалеких английских угольных портах и французской стороне, где вино пьют как воду, а все девушки красивые, одни красотки. Да, моряки!
«Конным воином лихим»? Гм… уж воевать так воевать, только вот верхом мне не нравится. Кони эти кусаются, лягаются, копытом землю роют, иной раз понесут, а другой раз вдруг упрутся и стоят, и всаднику и тем, кого лошадь везет, приходится терпеливо ждать, пока это животное не справит нужду. То ли дело железный конь — его не надо особо кормить, ходить за ним, он полностью послушен воле человека. Рванул рукоятку — трах! — и пошла; если у тебя сильная рука и надежный глазомер, то нечего бояться, что мотор поскачет через канавы или вдруг из него повалятся «яблоки». Еще лучше в самолете — поверх всех этих дорог и канав. Правда, в газетах часто пишут про летчиков, что они бьются, но ведь разбиваются на автомобилях и на лошадях, даже на велосипедах, и, в конце концов, почему это именно я должен разбиться?
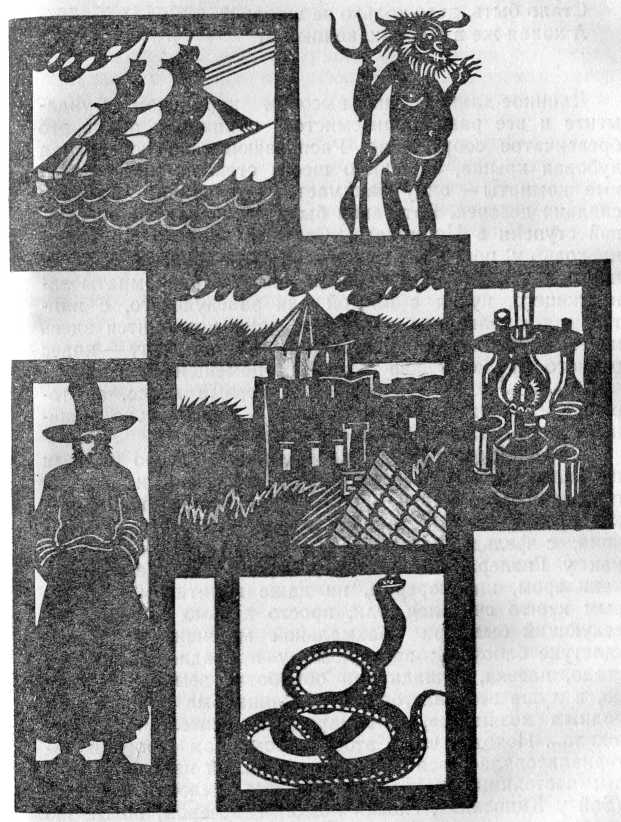
Стало быть, дело только за школой?
А какая же в Царникаве школа?
Длинное-длинное, на высоком кирпичном фундаменте и все равно приземистое, припало к земле это бревенчатое сооружение. Расползающаяся, почернелая дубовая крыша, окошки о шести стеклах, две чердачные комнаты — одну занимает учительница, в другой спальня девочек. Вот такой была Адажская школа первой ступени в Царникаве. Светлый дворец. На холме церковь, у подножия школа. Дорога огибала кладбищенский склон и приводила к школе. Три комнаты заведующего, кухня с плитой для заведующего, с плитой для школьников — для тех, кому приходится здесь ночевать, столярная мастерская, по замыслу — класс ручного труда, и два классных помещения: в одном занимались подготовительный и первый класс, а второй, третий и четвертый классы — в несколько меньшем. Всего было около сорока учащихся.
В ненастное время дождевые капли весело стучали по полу. Были там черные большие доски и цветная географическая карта — я был удивлен, что школа такая пустая, бедная. Был заведующий, настоящий мужчина: с фельдфебельским лицом, щеточка под носом, как у Гитлера, который в то время еще не был ни канцлером, ни фюрером, ни даже политиком, с которым кто-то считался, так, просто дерьмо собачье; заведующий был при крахмальной манишке и черном галстуке бабочкой; заведующему принадлежало целое стадо, пасека, лошадь для обработки земли, — вероятно, в душе этот настоящий мужчина был больше «народным хозяином», чем народным учителем. Школа, школа… Похоже, что в этом старомодном строении материализовалась вся история латышской народной школы: постоянный надзор священника, целование рук и «Бой у Книпски», сказки поздним вечером, розги. Но нас вместо священнослужителя посещал инспектор, целование руки было отменено, катехизис, по требованию родителей, можно не учить, не разрешается применять розги, и этот старого замеса заведующий мужественно сдерживался, разве что потрясет согрешившего и пообещает вздуть. Но уж на уроках пения мера его переполнялась, и смычок заведующего больно тюкал того, кто не мог «держать голос». Мне сколько раз доводилось отведать его.
«Земледел отеческий…» Нет, я не испытывал желания после школы пахать землю. Машина — да, лошадь — нет. Даже если мне дадут центр имения или равную имению усадьбу, например Вилкатирели (как в книге Пурапуке). Не надо! Всю жизнь этот Зелменис, точно крот, рылся в своем углу, на своем лоскутке, чтобы потом лечь в яму на орешниковом холме и оставить это «счастье» своим внукам-правнукам. Не надо! Вот ведь совсем по-иному смотрел на это лорд из рассказа Гарольда Элдгаста. Из сословия земледельцев, а поднимался на самолете выше туч, разбивался черт знает как и наконец-таки разбился. И уж бросили-то его не в яму к червям, а в пламя, чтобы потом — под залпы английских крейсеров у скал Нордкапа — утопить пепел в водах полярного моря. Жажда просторов, простор и жажда. Так с вечеринки на вечеринку, от кружки к кружке бродили вдоль видземского взморья мой дед с его отцом, музыкантами, по всем эстонским и латышским простонародным свадьбам: вдохновенно рвали струны, одерживали верх над батареями бутылок, закруживали девиц. Они томились жаждой. Младшие братья ходили в постолах, бились впроголодь, но осилили мореходную школу, а потом чужеземным коньяком возмещали возвышенное воздержание молодости; эти скоро вошли во вкус обеспеченного преуспеяния, женились на немках и отращивали животики. Одаренный, но без большого душевного горения, без сильных чувств и жизненного упорства — вот какой был этот род.
Помощницей учителя работала приветливая и милая барышня. Она даже отчитывала без злости. С первых же дней она расхваливала мое умение читать, только заметила, чтобы я не торопился, а старался отчетливее выговаривать слова; очень внимательно оценивала написанное мной, хотя буквы у меня были корявые, и в счете я был признан весьма преуспевающим. Ее оценка повлияла на решение заведующего: меня тут же вместе с сестрой, которая была на год старше, приняли в первый класс.
И вот я сижу за партой в первом классе (большой разницы нет — длинная парта, на восемь человек, за которой примостились и «приготовишки» и первоклассники) и уношусь через годы сначала к дедовским музыкальным странствиям, потом на корабль, где я буду капитаном. Дед пилит на своей скрипке: эстонская свадьба, пришли на нее повеселиться и черти, понимаете, черти — в виде блистательных, с золотыми погонами прапорщиков, скачут, так что только шпоры звенят, кидают на стол серебряные полтинники, кричат: «Польку, музыкант, польку!» Уже и струн не хватает, но и черти уплясались — трах! бах! — валятся на пол, а через них, развевая юбками, прыгают эстонки. Капитан приказывает кинуть якорь на Айнажском рейде и в честь музыкантов выпалить из всех пушек. Только дым клубится — бах! — флаг полощется по ветру…
— Ты что, оглох, чурбан? — дикий вопль прямо мне в ухо, сильная рука вздергивает меня вверх. — Отвечай!
Это же заведующий, ей-богу, заведующий. Да где же я? В школе, ей-богу, в школе. Чертей больше нет, только чертовски злой учитель.
— Ты глухой или ходишь в школу отсыпаться?
— Я… я… не слышал.
— Сколько будет, если к семи прибавить шесть?
— Тринадцать.
Красные от злости глазные яблоки, сверлящие зрачки. Но рука все же выпускает мой воротник, злость как будто спадает.
— А к восьми прибавить пять?
— Тринадцать.
— Теперь ты слышишь?
— Да…
— Попробуй только еще раз не услышать!
Ученые в области медицины, наверное, высоко бы оценили мои адаптационные способности — вероятно, произошла какая-то мобилизация «дежурных нервных групп», потому что, когда заведующий (не учительница) впредь произносил мое имя, я вскакивал как на пружинке.
Удивительное число это тринадцать. Почему его люди боятся? И как чудно выглядят цифры. У крейсеров спереди броневая башня с двумя орудиями, верхняя башня тоже с двумя, и на корме тоже, всего, выходит, восемь тяжелых орудий. Да к ним еще прибавить бортовые пушки. Вот бы поглядеть, как они дадут залп, — скалы Норвегии отбрасывают эхо, трясется снежный покров на горных вершинах, но воды фьордов остаются спокойными. Тринадцать пушек никак не получается. Берген стоит у фьорда, это центр рыбной торговли, а Гаммерфест среди северных скал. Там ревет буря, свистит метель, летают чайки и альбатросы, ходит косяком сельдь. Норвежские суда под белыми парусами — и могучее море. Серое, угрюмое, сплошное кипение. Дым от залпов клубится поверх гребней волн, тяжелые стволы по шесть метров длины…
Я вскакиваю. Я не слышал, как меня окликают, до сознания это еще не дошло, предупредила «дежурная нервная группа». Точно пробудившись от глубокого сна, я глупо хлопаю глазами и сквозь туман растерянности ясно слышу голос заведующего:
— Ну, сколько?
Он же пригрозил: «Попробуй только еще раз не услышать!» — и я говорю:
— Шесть.
Оба класса — подготовительный и первый — ржут: результат, то есть сумма, у меня получился меньше одного из слагаемых. Той «высшей математики», по которой часть может быть больше целого, в то время не признал бы даже Эйнштейн, не то что этот «крепкий хозяйчик» заведующий.
— Садись, остолоп! — взревел он, я радостно выполнил приказание и тут же уплыл далеко-далеко от этой жалкой лачуги.
…В школу надобно идти…
Сестра заболела, и несколько дней по осенней дороге ходил я один. Когда мы идем с сестрой, то всегда встречаем тамажских ребят: или они заметят нас на шоссе и подождут, а мы ускоряем шаг, или наоборот. Сестра общительный человек. А теперь вот я хожу один, и никогда не подвертываются попутчики — я стараюсь от них отделаться.
Идти весело. По белой щебенчатой дороге — «эрзацному шоссе» — я иду быстро. Там все такое скучное, однотонное. Сворачивая вправо, это шоссе сливается с шоссе Рига — Саулкрасты, я же ухожу по старой дороге берегом Гауи. Липы уже скинули листву, пронзительно воет лесопилка Лидика. Резкий вскрик — то ли дереву больно, то ли всему туманному утру; голые, мокрые почернелые ветви роняют тяжелые капли. Голые и толстые, трухлявые внутри ивы и ольха, но их наготу скрывает дымка тумана — он сгущается, уплотняется, клубится на моем пути. Я напеваю песенку. На душе как-то странно, но я ничуть не удручен, сквозь грусть пробивается свет — свет надежды, что-то такое брезжит, будто за валами тумана ясное небо, какая-то радость, предвещание каких-то моих чаяний, хоть я и не научен этому слову. Мир начинается на берегу Гауи. Река струится под туманом быстро-быстро. Старица молчаливая и темная. Черный асфальт; деревянный мост через Гаую. Узкая пешеходная полоска, от медленно едущей машины гудит дощатый настил. Гауя где-то глубоко-глубоко… Под мостом струится только туман, призрачный туман, может быть, наполненная призраками ладья. Вода тяжелотяжело вздыхает у бортов ладьи, тяжелый груз, тяжелое дыханье, тяжелая жизнь, тяжелое небытие, тяжел уход в него. Воды Гауи, глубокие-глубокие… тяжелые-тяжелые… В тумане призрачно проглядывают кладбищенские гранитные и чугунные кресты — тяжелые-тяжелые. Вокруг кладбища сосны, а на самом кладбище лиственные деревья: они питаются тлением, они голые, они сгорбились в тумане — тяжелые-тяжелые. Ноги мои следуют мимо ворот с красными кирпичными столбами, тяжело-тяжело. Меня ждет школа — припавшая к холму, почернелая, тяжелая-тяжелая. Потолок в классе давит.
— Сколько?!
Я рывком вскакиваю. «Сколько?» Я уже усвоил, что итог должен быть двузначный. Говорю наобум. На сей раз смеются только те, кто точно знает ответ. Слепой курице порой доводится наткнуться на ячменное зерно, но мне в игру со счастьем никогда не везло. Заведующий, «взъевшись», все чаще вздергивает меня, я все чаще отвечаю невпопад. Старому — еще царских времен — учителю надоедает это.
— Да ты соображаешь что-нибудь в счете?
— Нет, — отвечаю я; я мог бы сказать и «да», но получилось почему-то «нет».
— Покажи твои тетради!
Он просмотрел все, даже по латышскому языку — основательный человек: перед тем как «принять решение», хотел «тщательно ознакомиться с материалами по делу». А у меня все делалось кое-как и с ошибками, по принципу «лишь бы поскорей с шеи свалить».
— Экий ты балбес! — презрительно вынес оценку заведующий и перевел меня обратно в подготовительный класс.
В школу надо бы идти…
Уже темно, свежий, бодрящий ноябрьский вечер. Поздно. Легко одетый, я выбегаю на поляну, где мы днем играли в салки. Холодно, снега еще нет. Небо черное как уголь, высокое, изогнутое, усеянное звездами. Млечный Путь как пояс, нет, как светлое шоссе через звездные дали к недостижимой вечности. Зябкая дрожь пробегает по мне, со мной что-то случилось, что-то приподнимает, делает могущественным. Я беру трепетное излучение звезд и, точно золотые струны — тонкие-тонкие струны, даже тоньше, чем волосы у ангела на рождественской елке, натягиваю эти струны на излучину Млечного Пути, настраиваю… Звучит мелодия, искрящиеся вспышки мелькают по небосводу, трепещет вся зыбкая тьма и отбрасывает отголосок в вечность, поверх вечности.
На тот миг, когда я затаил дыхание, были только удары моего сердца и эта изумительная, волшебная мелодия. Сломался драчливый смычок заведующего, улетучились все «до, ре, ми», звучала вселенная, звучала душа. Жаркое половодье окатывало мое лицо, стекая с подбородка на блузу. Я вскинул руки, словно охватывая что-то. Но руки опали. Ничего нельзя было обрести, совершенно ничего…
Единую каплю из источника.
«Зимушка, зимушка, милая матушка…» Но в Царникаве зима скорей напоминала сурового дядюшку — вроде заведующего школой, с морозно белой, накрахмаленной манишкой, с коротким ежиком волос и строгим лицом, с вечным посулом «задать взбучку». И «задавала» эта зима — будто белыми сыромятными плетями била через дюны, по руслу Гауи, по отмелям, по ольховым джунглям, заколам и птичьему щебету: заставляя все цепенеть, заточая все в сугробы, заставляя все заглохнуть. Один только ветер выл в этом ледяном саду, сковывающем оконные стекла. Но мне не холодно, не то что в чердачной комнате Конюшенного дома. Классное помещение тепло натоплено, над моей головой щедро льет яркий свет подвешенная под потолком керосиновая лампа. Остальные или толпятся в кухне, или в спальной комнате наверху. Я нарочно выбрал пустой класс. Я читаю о похождениях Тома Сойера. Входит учительница, приветливо улыбается, потом вдруг хмурится. Только что после обеда она дала мне эту книгу и теперь видит, что я уже перевалил за половину; ясно, что, как нынче говорят, пропускает «тягомотину», в то время говорили — «душеспасительное». Я виновато признаюсь, что задания на завтра не приготовлены — но как-нибудь выпутаюсь, авось заведующий не вызовет, а если вызовет, то пусть побранится.
Но учительница говорит о совсем ином:
— Нехорошо, что ты читаешь книгу с середины, надо с самого начала.
— Я с первой страницы начал.
Я все не понимаю, о чем она.
Лицо у учительницы делается такое же, как у заведующего, когда он сказал: «Экий ты балбес» — и перевел меня в подготовительный класс.
— Значит, ты не читаешь, а листаешь страницы. Так ты никогда не научишься читать, ничего не запомнишь.
Вместо ответа я пересказываю содержание книги, выделяю особо яркие абзацы и выражения. Я загораюсь и начинаю говорить все быстрее, учительнице трудно улавливать мои слова, но презрение на ее лице сменяется каким-то недоверием.
— Ты первый раз читаешь эту книгу?
Ей-богу, первый раз. Правда, добавляю я, интересные читаю по нескольку раз. Это какие же? Я называю кое-какие, в том числе унаследованные от Мирзды учебники по истории и географии. Выражение лица учительницы становится совсем непонятным. Наказав, что я должен хорошо готовить задания, она уходит.
Разумеется, я читал дальше, не думая ни о каких заданиях. Чрезмерное старание до добра не доводит… И получилось очень даже хорошо — на другой день заведующий куда-то уехал и всю школу согнали в один старший класс.
Урок истории. Вызванный мальчишка бекает-мекает, так и не может ничего толкового рассказать о редукции помещичьих имений при шведах. Я горжусь про себя — эх, вот бы учительница меня вызвала! Из развалин восстает Царникавское имение — Царникау, — в обитом белым шелком зале идет совещание держателей имения: белые пудреные парики, бархатные кафтаны, злые лица. Король в Стокгольме подверг сомнению их завоеванные предками, их священные права! Соль земли — бароны! Как они проезжают шестерней по усаженной липами дороге в имение — пыль клубится, сверкает лак карет, высокомерный взгляд скользит по согнувшимся в три погибели крепостным. Дворец высится тяжелыми стенами, колоннами и колоннадами, гранитными львами. А где-то в лесной излучине припали к земле крестьянские хижины с замшелыми соломенными крышами. Дым выходит в незастекленные оконца, тощая ржаная нива на месте недавней вырубки, но ярко цветут васильки, ночью из заросших рогозом топей доносится буханье выпи, С первыми петухами сиротка на мельне заставляет звенеть жернова и песню:
От господ одна работа,
Никакого отдыха.
Этого не слышат там — в имении, в пышном зале; там сверкает гладкий паркет, дамские шелка и бриллианты, ордена и мундиры, шпаги и вельможный гнев. Петр Великий прорубает окно в Европу — летят искры и обломки кирпича, в пробитый проем врывается гул волн, порыв ветра, донесшийся сюда дыханием морских далей. На воде тяжело колышутся транспортные шлюпки шведского королевского флота с солдатами Карла XII. Король первым выскакивает на песчаную мель и, бредя к берегу в клубах выстрелов, удивляется: «Что это за пчелы с таким страхом разжужжались вокруг?» Последний викинг! Он представляет историю рыцарским турниром, где все решает клинок. Мужицкие лачуги становятся добычей разорителей — зловещее пламя еженощно вместе с криками убиваемых детей и слезами замученных женщин вздымается к престолу всевышнего. Иисусе, спаси, где ты? Господи, твердыня наша и оплот! От Финского залива до берегов Даугавы проносится похвальба Шереметева: «В Лифляндии больше нечего грабить!» С мужиками не считаются власть имущие — дворяне в париках, рыцарственные и жестокосердные короли и цари.
Неожиданно я замечаю, что учительница следит за мной. Я краснею, съеживаюсь и утыкаюсь в свою тетрадь. Нет, если она и разрешит мне ответить, я все равно не смогу ничего сказать. Только осрамлюсь перед всеми.
Может быть, учительница сказала что-то заведующему? Он как-то опять проявил интерес к моим домашним работам, особенно к сочинениям на заданную тему.
— Это же поросячья мазня, а не буквы! — воскликнул он и, словно вынося окончательный приговор, заключил: — Ни темы никакой нет, ни сочинения.
Школьники и их родители в таких случаях винят поверхностный подход учителей, их бездушность и прочее. Но ради истины следует признать, что на месте заведующего я бы произнес то же самое. Мое письмо всегда было неразборчивым, а к сочинениям я всегда относился как к самому неприятному заданию.
Спустя двенадцать лет высказался и преподаватель гимназии. У него было обыкновение отпускать язвительные замечания об ученических сочинениях. Некоторых впечатлительных девиц он доводил этими замечаниями до слез. Обо мне он отозвался только однажды — в начале учебного года; взял мою тетрадь двумя пальцами, будто какую-то гадость, и сказал:
Назад: … и все равно — вперед… повесть
Дальше: Примечания

