Книга: Военная тайна. Ответный визит
Назад: Лев Романович Шейнин Военная тайна. Ответный визит
Дальше: «ВАРИАНТ БАРБАРОССА»
ВОЕННАЯ ТАЙНА
Часть первая
ВОЕННАЙ АТТАШЕ
Полковник фон Вейцель, германский военный атташе в Москве, проснулся в это майское утро 1941 года гораздо раньше, чем обычно. Это было тем более досадно, что накануне фон Вейцель заснул очень поздно: около двенадцати часов ночи поступили шифровки из Берлина, на которые требовался немедленный ответ. Шифровок было две, и обе не способствовали спокойному настроению, которое господин фон Вейцель ценил выше всего на свете. Да, в свои сорок пять лет господин атташе пришёл к твёрдому выводу, что мирный, спокойный сон — едва ли не высшее наслаждение в жизни…
Когда-то его увлекали спорт, женщины, наконец — служебная карьера… С годами полковник фон Вейцель обрёл способность относиться ко всему философски. Все эти страсти, волнения и азарт в сущности только дым, который ровно ничего не стоит. Важно жить по возможности спокойно, пользоваться радостями, ещё доступными после сорока лет, размеренно и умно, оберегать нервно-сосудистую систему и, главное, сознавать, что весь мир — это только ты сам, твой обед, твои прогулки, твой сон, твоя любовница, твои привычки, твои вкусы. Но, оказывается, мир устроен столь глупо, что ради всего этого приходится работать, да ещё в разведке, со всеми осложнениями, опасностями и неприятностями такой работы.
Неприятности… В последнее время они сыпались одна за другой, как будто кто-то специально и очень старательно занимался тем, чтобы испортить жизнь господину Гансу фон Вейцелю, что, конечно, было большим свинством со стороны этого «кого-то»…
Хмуро потягиваясь на своей низкой широкой постели и недовольно щурясь от солнечных зайчиков, пробивающихся сквозь шёлковые маркизы, фон Вейцель стал размышлять о неприятностях. По давно установившейся привычке он разделил их на две категории: неприятности непредвиденные и потому особенно серьёзные и неприятности, так сказать, неизбежные, предполагаемые заранее и потому не столь уже ошеломляющие.
К неприятностям первой категории, бесспорно, относилось дурацкое происшествие с этим ослом Крашке, свалившееся как снег на голову.
Крашке был один из помощников фон Вейцеля по агентурной работе. Он был старым сотрудником разведки и, казалось, имел достаточный опыт. Во всяком случае, в России он работал ещё до первой мировой войны и считался находчивым и смелым агентом.
Помощником фон Вейцеля Крашке был назначен год назад, и в Москву он приехал «под крышей» звания пресс-атташе посольства, то есть с дипломатическим паспортом. Положение пресс-атташе давало ему возможность общаться с корпусом иностранных журналистов, посещать редакции, библиотеки, а также быть завсегдатаем ресторанов, бегов, театров и концертов. По крайней мере, для всякой другой страны такая «крыша», как звание пресс-атташе, сулила возможности неисчерпаемые.
Приехав в Москву, где он не был много лет, господин Крашке приуныл: привычные методы работы здесь оказались явно неприменимы. Советские люди неохотно шли на знакомство с гитлеровским дипломатом, упорно отказывались от встреч; карточных и других притонов в Москве не было, не было и кафешантанов и модных кабаре; а «звёзды» оперетты и кино вовсе не походили на «звёзд», не гонялись за бриллиантами, не старались заводить себе богатых содержателей и вилл и, судя по всему, являлись примерными членами профсоюза. Работать было явно не с кем…
И как на грех именно в это время был получен приказ Берлина всячески форсировать операцию «Сириус», как условно именовалось задание германской разведки, связанное с работами крупного советского конструктора — инженера Леонтьева.
Интерес к личности и работам Леонтьева возник в Берлине давно, ещё в тридцатых годах, когда из источников, которых Крашке не знал, германской военной разведке — «Абверу» — стало известно, что Леонтьев, тогда ещё совсем молодой конструктор, работает в области нового вида вооружений в одном из научно-исследовательских институтов Москвы.
Германской разведке тогда удалось завербовать сотрудника института, который по мере своих возможностей начал освещать работу Леонтьева. Из донесений этого агента выяснилось, что конструктор — человек скромный, горячо увлечённый своей работой, что он мало разговорчив и осторожен в выборе знакомств. О подкупе Леонтьева не могло быть и речи: все данные сводились к тому, что он честный, неподкупный человек. Следовательно, работа «впрямую» здесь была исключена. Надо было идти обходными и «рикошетными» путями. Но тут возникли новые трудности: советские органы безопасности внезапно арестовали агента, работавшего в институте, узнав каким-то образом о его встречах с предшественником Крашке. Это был серьёзный провал. Именно поэтому господин Крашке и был направлен из Берлина в Москву для дальнейшей подготовки операции «Сириус».
Окрылённый дипломатическим паспортом и званием атташе, которым в глубине души он был очень польщён, Крашке даже завёл себе монокль и приобрёл весьма респектабельный вид.
Перед отъездом Крашке в Москву полковник фон Вейцель был вызван в Берлин. Генерал-лейтенант Пиккенброк, начальник 1-го отдела германской военной разведки, представил господину Вейцелю его нового помощника. Вейцель с интересом посмотрел на Крашке. Перед ним сидел уже немолодой человек, немногословный, с тусклыми, чуть выцветшими глазами, узким лбом и большим хрящеватым носом.
— Господин полковник, — произнёс Пиккенборк, после того как Вейцель и Крашке обменялись рукопожатием, — я рад вам сообщить, что наш старый Крашке знает Россию отлично. Это кадровый немецкий разведчик, и, если бы не операция «Сириус», мы ни в коем случае не отдали бы его вам.
— Я весьма признателен за помощь, господин генерал, — ответил Вейцель, — тем более что подготовка этой операции очень усложнилась в связи с известными вам обстоятельствами…
— На вашем месте, полковник, — перебил Вейцеля Пиккенброк, — я не стал бы напоминать об этом позорном провале, который вам угодно называть обстоятельствами. Этот идиот Шмельцер (речь шла о предшественнике Крашке) засыпался, как мальчишка, и провалил великолепного агента. Не говоря уже о том, что он расшифровал и себя, вследствие чего мы были вынуждены немедленно отозвать его из Москвы.
— Я позволю себе напомнить, господин генерал, — довольно неуверенно начал защищаться Вейцель, — я позволю себе напомнить, что упомянутый Шмельцер был прикомандирован ко мне по личной рекомендации рейхсфюрера СС и что я не имел к этому вопросу решительно никакого отношения.
— Чепуха, полковник! Вы отвечаете за Шмельцера с того момента, как он стал вашим сотрудником. И я считаю, что ваша ссылка на рейхсфюрера СС по меньшей мере бестактна…
И генерал Пиккенброк, о котором давно поговаривали, что он представляет в военной разведке ведомство рейхсфюрера СС Гиммлера, изобразил на своём длинном, худом лице чувство глубокого возмущения.
Полковнику Вейцелю стало не по себе. Дёрнул же его дьявол брякнуть насчёт Гиммлера, которому этот тощий Пиккенброк при случае может всё передать. Самое обидное, что Вейцель сказал сущую правду — Шмельцера действительно рекомендовал Гиммлер, но об этом, конечно, лучше было не вспоминать: Вейцелю были знакомы повадки и характер господина рейхсфюрера СС…
По-видимому, Крашке тоже это понимал, потому что на его лице мелькнуло некое подобие улыбки, которую он, впрочем, тут же подавил, вспомнив, что с полковником Вейцелем ему, как-никак, предстоит работать.
Как раз в этот момент вошёл адъютант Пиккенброка, доложивший, что адмирал Канарис — начальник германской военной разведки и контрразведки — приглашает к себе Пиккенброка, Вейцеля и Крашке.
Все поспешно поднялись и по длинным, ярко освещённым коридорам направились в кабинет Канариса.
Адмирал принял их стоя. Хорошо упитанный, румяный, очень смуглый, он был, по обыкновению, гладко выбрит, сильно надушен. Ответив на обычное приветствие «Хайль Гитлер!», адмирал внимательно осмотрел пришедших с головы до ног, а затем, насвистывая какой-то опереточный мотив, стал шагать из угла в угол своего обширного, немного мрачного кабинета. Установилась долгая неловкая пауза. И со стороны можно было подумать, что Пиккенброк, Вейцель и Крашке изо всех сил стараются запомнить насвистываемый господином адмиралом мотив — столь сосредоточены и серьёзны были их лица. Разумеется, все продолжали стоять.
Наконец Канарис подошёл к своим подчинённым и коротко бросил:
— Вчера фюрер спросил меня об операции «Сириус»…
И, метнув на них выразительный взгляд, опять начал измерять кабинет своими короткими, но крепкими ногами. Пиккенброк и Вейцель переглянулись и стали ещё более сосредоточенно слушать мотив, который вновь начал насвистывать Канарис.
Именно в этот момент в кабинет вошёл без обычного стука в дверь адъютант Канариса и, бледный от волнения, едва сумел пролепетать:
— Господин рейхсфюрер СС!..
— Что?.. — вскричал Канарис, не веря собственным ушам. — Что?..
— Господин рейхсфюрер… — снова пролепетал адъютант и тут же замолк.
В кабинет неторопливо входил Гиммлер.
Пиккенброк, Вейцель и Крашке судорожно вытянулись, как по команде «смирно». Канарис бросился навстречу Гиммлеру, впервые удостоившему своим посещением этот кабинет. Адъютант Канариса сразу вышел из комнаты.
— Здравствуйте, адмирал, — произнёс Гиммлер, даже не взглянув в сторону Пиккенброка, Вейцеля и Крашке. — Я заехал информировать вас об одном соглашении.
— Я к вашим услугам, господин рейхсфюрер СС, — ответил Канарис, старательно подвигая к Гиммлеру глубокое кожаное кресло. — Позвольте представить вам моих сотрудников: генерал-лейтенанта Пиккенброка, полковника фон Вейцеля, нашего военного атташе в Москве, и господина Крашке…
Гиммлер неторопливо уселся в кресло и, взглянув на застывших подчинённых Канариса, улыбнулся:
— Очень хорошо. Генерал Пиккенброк — мой старый знакомый, о полковнике Вейцеле я слышал, как о способном человеке, а господин Крашке, говорят, тоже настоящий немец и опытный разведчик. Они все, если не ошибаюсь, работают по русскому профилю?
— Так точно, господин рейхсфюрер СС, — отчеканил Канарис, ломая голову над вопросом, чем вызван этот необычайный визит.
— В таком случае, — продолжал Гиммлер, — эти господа могут принять участие в нашем разговоре.
И, вытащив из кармана своего чёрного кителя аккуратно сложенный лист, Гиммлер привычно поправил пенсне, с которым никогда не расставался, и подчёркнуто деловым тоном начал:
— Вчера, по личному приказанию фюрера, господа, я и рейхсминистр фон Риббентроп подписали соглашение, имеющее отношение и к вашему ведомству, дорогой адмирал. (Канарис при этих словах почтительно склонил голову). Я не стану читать этот документ целиком, суть его очевидна из следующего абзаца…
И, быстро отыскав нужное место, Гиммлер прочёл:
— «Министерство иностранных дел оказывает секретной разведывательной службе всякую возможную помощь. Имперский министр иностранных дел будет, поскольку это терпимо во внешнеполитическом отношении, включать определённых сотрудников разведывательной службы в состав заграничных представительств…»
Тут Гиммлер сделал паузу и выжидательно взглянул на Канариса.
— Ещё одна иллюстрация мудрости фюрера! — с чувством произнёс Канарис. — Он всегда понимал значение нашей службы…
— Слушайте дальше, — перебил его Гиммлер и снова начал читать: — «Ответственный сотрудник разведывательной службы регулярно информирует главу миссии обо всех существенных вопросах деятельности секретной разведывательной службы в данной стране».
Лицо Канариса невольно вытянулось: господин адмирал не привык информировать послов «обо всех существенных вопросах» своей деятельности. Полковник фон Вейцель тоже не выдержал и даже позволил себе громко вздохнуть. Господин Крашке, напротив, сразу повеселел. Он понял, что поедет в Москву под прикрытием дипломатического паспорта, что при всех условиях исключает какой бы то ни было риск ввиду дипломатической неприкосновенности.
Гиммлер осмотрел всех по очереди и язвительно усмехнулся.
— Господа, — медленно протянул он, — вероятно, избавят меня от необходимости разъяснять, что последний тезис об обязанности информировать дипломатов не следует понимать примитивно. Конечно, их придётся информировать, но… я бы сказал, в пределах их компетенции при выполнении чисто дипломатических задач… Вряд ли нужно при этом входить в чрезмерные подробности, господа, поскольку сугубая конспирация — основной закон нашей профессии…
— Так точно, господин рейхсфюрер СС! — радостно воскликнул Канарис, сообразив, что «соглашение» вовсе не поставило его службу под контроль дипломатов, которых он терпеть не мог. — Я весьма признателен вам за разъяснение.
— Это особенно важно для работы в Москве, — осторожно начал Пиккенброк, — если учесть настроения нашего посла господина Шулленбурга…
— Какие настроения вы имеете в виду, генерал? — быстро спросил Гиммлер.
— Об этом с большим знанием вопроса доложит полковник фон Вейцель, — сразу ответил Пиккенброк, решив на всякий случай остаться в стороне.
«Проклятая лиса! — подумал Вейцель о Пиккенброке. — Свалил всё на меня!»
— Что же вы можете доложить, полковник Вейцель? — спросил Гиммлер, не отводя взгляда от Вейцеля, соображавшего, как ему ответить, чтобы угодить рейхсфюреру СС.
— Господин фон Шулленбург, — начал Вейцель, — разумеется, опытный дипломат, вполне преданный отечеству, но, господин рейхсфюрер СС, мой долг солдата прямо заявить о том, что господину фон Шулленбургу, при всём моём глубоком уважении и понимании его заслуг…
— Скажите, полковник, — перебил его Гиммлер, — вы произносите юбилейный тост или докладываете суть дела своему начальнику и рейхсфюреру СС?
У Вейцеля отлегло от сердца. Он понял, что хотелось бы услышать Гиммлеру.
— Я хочу быть объективным, господин рейхсфюрер СС, — уже уверенно сказал он, — но считаю своим долгом прямо заявить, что наш посол неверно информирует фюрера о положении в Москве.
— Так, так… — с нескрываемым интересом промолвил Гиммлер. — Продолжайте, полковник, это очень, очень любопытно.
— Господин посол является сторонником мирных отношений с Советским Союзом, — продолжал Вейцель, — и это ослепляет его. Господин посол уверяет фюрера, что Москва не намерена нападать на Германию, что она не готовится к войне, а я убеждён в обратном.
— И вы правы, полковник! — бросил Гиммлер. — Я тоже убеждён в этом.
— Скажу больше, господин рейхсфюрер СС, — ещё увереннее продолжал Вейцель, окрылённый лестным замечанием Гиммлера, — я в глубине души теряю политическое доверие к господину фон Шулленбургу…
— Неужели?.. — протянул Гиммлер таким тоном, что становилось ясным, как приемлема для него и такая крайняя позиция.
— К сожалению, — со скорбной миной произнёс фон Вейцель, — я не считаю себя вправе это скрыть. Мои расхождения с господином послом особенно значительны в оценке оборонной мощи Советского Союза. Наш уважаемый фон Шулленбург, увы, весьма слаб в военных вопросах, и его утверждения, что Советская Армия — это реальная, хорошо слаженная, отлично подготовленная сила, глубоко ошибочны и вредны.
— Вредны? — в том же тоне спросил Гиммлер, совсем уже благосклонно глядя на Вейцеля.
— Да, вредны! — твёрдым тоном солдата, уверенного в своей правоте, ответил Вейцель. — Вредны потому, что они объективно являются дезинформацией, а дезинформация в таких вопросах равносильна предательству Германии! — с наигранной горячностью закончил Вейцель.
Уже поздно вечером, отдыхая в своей вилле в Нейдорфе, в пригороде Берлина, полковник фон Вейцель вспоминал во всех деталях этот разговор и пришёл к окончательному выводу, что он вполне попал в тон. Это следовало не только из того, что Гиммлер охотно его слушал и благосклонно улыбался, но также из нескольких фраз, брошенных им в конце беседы. Смысл их сводился к тому что фюрер считает войну с Советским Союзом предрешённой, что он не верит в мощь Советской Армии, считая её «колоссом на глиняных ногах».
Вейцелю было хорошо известно, что фюрер, придя к определённому выводу, не терпит противоречий, и всякое иное мнение приводит его в бешенство. По сути дела, полковник фон Вейцель в глубине души разделял многие мысли господина фон Шулленбурга, хотя очень его не любил. Вейцеля раздражал этот старый немецкий дипломат: его манера разговаривать в тоне превосходства, его аристократическое происхождение (Вейцель хотя и именовался фон Вейцелем, строго говоря, не имел на это права), даже его монокль, которым он, впрочем, очень ловко пользовался. Вот почему Вейцелю было приятно устроить пакость этому надутому аристократу, несмотря на то, что тот был во многом прав. Полковнику Вейцелю как военному атташе довелось присутствовать на маневрах Киевского военного округа. Как-никак, Вейцель имел высшее военное образование и разбирался в военном деле. То, что он, как и другие военные атташе, также приглашённые на маневры, там повидал, увы, отнюдь, не подкрепляло формулы «колосс на глиняных ногах». Вейцель видел отличные, вполне современные танки, сильную авиацию и грозную артиллерию. Офицерский состав — это сразу бросалось в глаза — был хорошо подготовлен, а воинские, довольно крупные соединения, участвовавшие в маневрах, обнаружили поразительную выносливость.
Последнее, впрочем, не слишком удивило полковника Вейцеля, потому что выносливость русского солдата была давно общепризнанна и широко известна. Вейцелю запомнился один разговор на эту тему, происходивший в палатке, в которой отдыхали Вейцель и американский военный атташе полковник Армстронг.
«Понимаете, дорогой коллега, — говорил Армстронг, высокий, рыжеватый, белозубый человек с безупречным пробором и грубоватыми манерами, — выносливость русского солдата — это у них в крови. Эти скифы действительно способны вынести такое, от чего солдаты цивилизованных стран пришли бы в ужас. Когда я спросил одного их майора, возит ли он с собой походную резиновую ванну, он посмотрел на меня с таким удивлением, что я почти смутился… Парень, представьте себе, считает это совершенно лишним».
И рыжий Армстронг громко захохотал, оскалив зубы.
Да, походных ванн у советских офицеров не было. Но Вейцель не считал, что это снижает боевые качества русских. И когда в заключение маневров сотни советских самолётов выбросили десант в несколько тысяч винтовок и ни один из парашютистов не задержался после приземления более минуты, полковнику фон Вейцелю стало не по себе.
Но что делать, если мир так дурацки устроен: нередко выгоднее делать вид, что не замечаешь того, что на самом деле хорошо заметно, и не понимаешь в действительности отлично понятого. Вейцель не так наивен, чтобы послать в Берлин правдивый доклад о маневрах. Он потел целую ночь, формулируя основания для главного вывода: маневры показали отсталость техники, низкий уровень военной подготовки офицерского состава, плохое тактическое взаимодействие частей…
Вейцель знал, что только такой доклад будет одобрен и представлен фюреру и, главное, будет ему приятен.
И действительно, через некоторое время после отсылки доклада полковник фон Вейцель получил письмо Пиккенброка, в котором, между прочим, указывалось:
«…Фюрер и рейхсминистр Геринг, ознакомившись с представленным вами докладом, отметили глубину сделанного вами анализа состояния войск нашего возможного противника и вполне разделяют выводы, к которым вы пришли…»
Господин фон Вейцель пять раз перечитывал эти строки и таял от удовольствия. Мог ли он подумать, что тот же фюрер, который «вполне разделял» выводы господина Вейцеля, после разгрома немецких войск под Москвой в декабре 1941 года прикажет «расстрелять бывшего полковника и бывшего военного атташе в Москве Ганса Вейцеля за злостную дезинформацию о состоянии советских вооружённых сил»?
Разумеется, господину атташе ничего подобного в голову не приходило. В тот вечер, когда прибыло письмо Пиккенброка, фон Вейцель обрадовался до такой степени, что, несмотря на свою скупость, известную всему составу германской миссии, отправился в «Метрополь» со стенографисткой посольства фрейлейн Гретой. В «Метрополе» он так разошёлся, что за ужином заказал шампанское и преподнёс фрейлейн Грете цветы и коробку шоколада «Красный Октябрь». Правда, название конфет не очень импонировало господину атташе, но шоколад был отменный…
Всё это полковник Вейцель вспоминал в то майское утро, с которого начинается это повествование. Вспомнил он и возвращение в Москву вместе с господином Крашке. В Москве Крашке сразу взялся за работу и сначала производил самое выгодное впечатление. Ему даже удалось найти ход в тот самый научно-исследовательский институт, где работал этот проклятый конструктор Леонтьев, из-за которого фон Вейцель имел столько неприятностей и хлопот.
Шмельцер, работавший до Крашке над операцией «Сириус», добыл через своего агента списки сотрудников института, которые переслал в Берлин. Крашке на всякий случай стал проверять, нет ли у кого-либо из сотрудников института родственников среди белоэмигрантов, проживающих в Берлине. И в самом деле, среди сотрудников института оказался некий Голубцов, работавший в качестве ночного сторожа — вахтёра. Звали его Сергей Петрович.
Между тем в числе белоэмигрантов, проживающих в Берлине, тоже значился Голубцов, бывший царский генерал, работавший теперь в качестве швейцара в берлинском отеле «Адлон» и отличавшийся весьма респектабельной внешностью, благодаря которой он и получил эту должность. Крашке решил на всякий случай проверить, не состоит ли бывший генерал Голубцов в родственных связях с ночным сторожем Сергеем Голубцовым. Это предположение как будто подтверждалось. Голубцов, вызванный к Крашке, заявил, что у него действительно имеется в России племянник Серж Голубцов, сын его брата Петра Голубцова, скончавшегося в 1917 году. Этот Серж Голубцов служил в контрразведке деникинской армии, а затем, не успев эмигрировать, остался в России и, кажется, в дальнейшем устроился в Москве. Однако связи с ним генерал Голубцов не имел.
Само собой разумеется, что, выезжая в Москву, Крашке захватил с собой письмо от бывшего генерала к его племяннику, а также фотографию, сохранившуюся со времён гражданской войны.
Сергей Голубцов жил на окраине Москвы, в Измайловском зверинце. Господин Крашке вычитал в старом справочнике, что один из русских царей, «тишайший» Алексей Михайлович, ездил в эти места охотиться, в связи с чем эта местность и получила такое название. Теперь туда можно было добраться на машине или трамваем. Крашке остановился на последнем, так как пришёл к выводу, что чем демократичнее способ передвижения по Москве, тем он безопаснее для разведчика.
В целях предосторожности Крашке, выйдя из здания посольства в Леонтьевском переулке, сначала направился к Арбату и вышел на бульварное кольцо. У памятника Тимирязеву Крашке отдохнул на скамейке и, убедившись, что за ним никто не следит, направился к Пушкинской площади, где внезапно, на ходу, прыгнул в вагон трамвая, с которого так же внезапно соскочил в районе Чистых прудов. И уже отсюда, сначала на автобусе, а затем в трамвае, добрался до Измайловского зверинца.
Выйдя на асфальтированное шоссе, с одной стороны которого стояли деревянные домики с палисадниками и огородами, а с другой — шумел сосновый, далеко уходящий лес, Крашке сразу почувствовал себя спокойно.
Шоссе было пустынно в этот сентябрьский вечер; с огородов доносились голоса игравших детей; высокие сосны мирно пламенели в лучах заходящего солнца.
Без особого труда господин Крашке нашёл нужный ему дом. Он стоял за палисадником, деревянный, с выцветшей от времени когда-то зелёной окраской и заплатанной ржавой крышей, уже чуть покосившийся и заметно осевший в землю.
Крашке ещё раз оглянулся — шоссе было по-прежнему пустынно — и уверенно толкнул скрипучую калитку. Во дворе, заросшем травой, никого не было, выходящая во двор дверь была открыта. Крашке поднялся по деревянным ступеням и оказался в маленькой темноватой кухне. Здесь тоже никого не было, но за неплотно закрытой дверью слышались звуки гитары и хрипловатый баритон с большим чувством исполнял романс «У камина».
Господин Крашке с удовольствием прислушался. Некогда, в дни молодости, судьба, а точнее — немецкая разведка, занесла его в один уездный городишко Могилевской губернии. По характеру задания ему надо было завести связи с местным начальством и офицерами дивизии, расквартированной в этом городке, Крашке открыл в городе аптеку, играл в преферанс с уездным исправником и земским начальником, лихо плясал на балах и наконец добился руки и сердца дочери воинского начальника Зиночки Бурцевой.
Уже после свадьбы Зиночка призналась молодому супругу, что покорил он её не модными усиками, которые он тогда отпустил, не талантом лихого вальсёра, не изысканностью манер и процветавшей аптекой, а тем, как проникновенно и «с давыдовской слезой» исполнял он этот романс: «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает…»
Через год, успешно выполнив задание, молодой аптекарь загадочно исчез из города, предусмотрительно захватив с собой десять тысяч Зиночкиного приданого и навсегда оставив аптеку, беременную жену и гитару.
И вот теперь, стоя в этой тёмной, пахнущей мышами кухне, господин Крашке услышал слова и мотив почти забытого романса. Это звучало как доброе предзнаменование, и господин Крашке, улыбаясь от лёгкого волнения и нахлынувших воспоминаний, смело толкнул дверь, за которой пел баритон.
В небольшой, обставленной старомодной мебелью комнате, с унылым фикусом в кадке, полотняными занавесками на окнах и цветными половиками на полу, сидел уже немолодой грузный человек с гитарой.
Увидев вошедшего Крашке, обладатель хриплого баритона сразу замолк, вопросительно уставившись на пришедшего нагловатым взглядом выпуклых глаз.
— Простите, — произнёс Крашке, снимая шляпу, — могу ли я видеть товарища Голубцова Сергея Петровича?
— А вы откуда и кто такой будете? — ответил вопросом на вопрос хозяин комнаты.
— Прежде чем ответить на этот законный вопрос, — улыбнулся Крашке, — я хотел бы убедиться, что говорю именно с тем, кто мне нужен.
— Я Сергей Петрович, — ответил мужчина. — А что вам нужно? Я вас не знаю.
— К сожалению, мы действительно не были знакомы, — произнёс Крашке. — Но я имею к вам поручение от вашего почтенного дядюшки Валерия Павловича Голубцова…
— У меня нет никакого дядюшки, — чуть резче, чем следовало, ответил Голубцов, весьма порадовав этим Крашке.
— В соседних комнатах кто-нибудь есть? — неожиданно спросил Крашке. — Нас никто не слышит?
— А что вам, собственно, угодно?
— Мне угодно передать вам письмо от вашего дядюшки, его превосходительства генерала Голубцова, — спокойно повторил Крашке. — У меня есть ваша фотография, но, право, я бы вас не узнал. Впрочем, это и неудивительно, если принять во внимание, что вы, господин Голубцов, сняты на ней в тысяча девятьсот девятнадцатом году, в офицерской форме, когда вы, если не ошибаюсь, служили в контрразведке добровольческой армии. Мне передал эту фотографию ваш дядюшка, чтобы мы легче смогли найти общий язык…
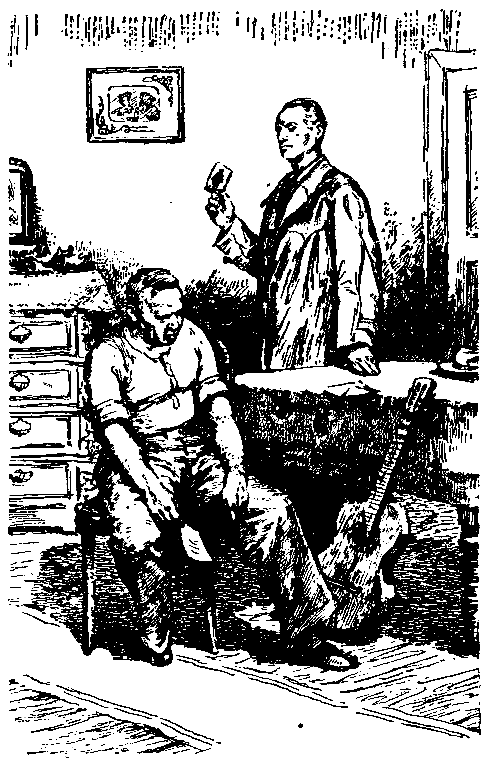
И Крашке протянул Голубцову немного выцветшую фотографию, на которой тот был изображён во весь рост, в офицерской форме. Голубцов выхватил фотокарточку и мгновенно разорвал её на мелкие клочки. Крашке, улыбаясь, сел в кресло, не ожидая приглашения. Голубцов тяжело дышал.
— Напрасно вы разорвали карточку, глубокоуважаемый Сергей Петрович, — укоризненно произнёс Крашке, покачивая головой. — Я предвидел такой вариант и имею несколько отличных фотокопий. Вот одна из них…
И он протянул оторопевшему Голубцову новую фотографию.
— Кто вы и что вам от меня нужно? — хрипло спросил Голубцов.
— Я друг генерала Голубцова и надеюсь стать и вашим другом, — ответил Крашке, закуривая сигарету. — Но сначала ознакомьтесь с письмом вашего дяди.
И Крашке протянул Голубцову письмо. Голубцов два раза его прочёл, потом достал спички и сжёг.
— Вот видите, Сергей Петрович, вы напрасно так взволновались, — вновь заговорил Крашке, — вы можете мне абсолютно доверять. Мы с вами люди одного возраста, одного воспитания и легко поймём друг друга…
— Кто вы? — снова спросил всё ещё бледный Голубцов.
— Друг вашего дяди. И он вам об этом пишет. Кстати, если вы забыли содержание письма, то у меня есть и его фотокопия.
— Что вам от меня нужно?
— Пока ничего. А в будущем какие-нибудь сущие пустяки. Но давайте познакомимся. Расскажите о вашем житье-бытье… Вы, конечно, сознательный член профсоюза? Пролетарий или советский служащий?
— Я работаю сторожем в одном институте. Ночным сторожем…
— Ночным сторожем? Гм, нельзя сказать, что вы сделали блестящую карьеру. Что же это за институт?
И тут Крашке с удовольствием услышал подтверждение тому, что предполагал: это был тот самый институт и, следовательно, тот самый Голубцов!..
Сама судьба мчалась навстречу господину Крашке и операции «Сириус», сама судьба!..
Разговор Крашке и Голубцова затянулся до поздней ночи. Выяснилось, что Сергей Петрович, конечно, скрыл свою службу в белой армии, что в институте он работает уже четвёртый год, что он одинок, в прошлом году его жена скончалась от рака лёгких, что этот старый дом принадлежит ему и что за стеной, в соседних двух комнатах, проживают две богомольные старушки. Такие соседи не оставляли желать лучшего. С другой стороны, и сам Голубцов при ближайшем знакомстве оказался довольно сговорчивым и покладистым человеком, быстро сообразившим, чего от него хотят.
Они расстались друзьями, и в первом часу ночи Голубцов проводил Крашке за скрипучую калитку своего дома.
На шоссе было по-прежнему пустынно. Тёмное сентябрьское небо низко нависло над Измайловским зверинцем; редкие фонари покачивались от резких порывов ветра; тревожно шумел лес, стоящий чёрной стеной по ту сторону шоссе.
Простившись со своим новым знакомым, господин Крашке всё с теми же мерами предосторожности, неожиданно меняя виды транспорта, добрался до посольства к двум часам. Несмотря на позднее время, он сразу зашёл к полковнику Вейцелю, который его давно поджидал и уже начинал волноваться.
Выслушав подробный доклад Крашке о визите к Голубцову, господин атташе пришёл в восторг. За такое удивительное стечение обстоятельств, чёрт возьми, не мешало выпить! За бутылкой душистого мозельвейна Вейцель и Крашке разработали план дальнейших мероприятий. Голубцова надо было окончательно «освоить», хорошо проверить, а затем обучить фотографированию документов и чертежей. Его положение ночного сторожа открывало превосходные перспективы успешного завершения операции «Сириус», что в свою очередь очень реально сулило награды, орден Железного Креста и генеральские погоны, о которых полковник Вейцель, вопреки обретённому с годами философскому образу мышления, всё же пылко мечтал.
Да, вначале всё шло удивительно легко и успешно. Этот Голубцов с его романсами и гитарой оказался превосходным агентом, хотя и несколько назойливым в отношении гонорара. Не могло быть и речи о том, что он является или может стать «двойником», то есть, сотрудничая с Крашке, одновременно работать на советскую контрразведку. Голубцов не только добросовестно выполнял задания Крашке, но делал это с удовольствием, глубоко ненавидя Советскую власть и стремясь напакостить ей чем только можно. Выходец из семьи крупного помещика, он в молодости боролся с революцией в рядах добровольческой армии, не сумел своевременно эмигрировать за границу, потом долго заметал следы; женился на какой-то бывшей торговке, которой принадлежал дом в Измайловском зверинце, потом похоронил жену, сильно опустился и теперь прозябал в своей берлоге, как одинокий, отбившийся от стаи волк, всё ещё, однако, готовый к прыжку.
Там, на работе, он умело носил личину этакого добродушного, не слишком умного и чуть ворчливого служаки-старика, исправно посещал все профсоюзные собрания, охотно подписывался на заём, а в майские и в октябрьские праздники раньше всех приходил на демонстрацию, громче всех кричал «ура», первым запевал «Эх, Дуня, Дуня, Дуня-я, комсомолочка моя» и даже пускался в пляс с молодыми секретаршами.
В институте Голубцова считали немного чудаковатым, но, в общем, приятным стариком, все называли его запросто Петровичем и охотно выслушивали его рассказы о том, как в молодые годы он будто бы служил красноармейцем «у самого Чапая».
Престиж Голубцова и доверие к нему особенно возросли после того, как однажды утром он, действуя по заданию Крашке, явился к директору института и молча протянул ему пять тысяч рублей, будто бы найденных им на рассвете недалеко от главного подъезда института.
— Только я, товарищ директор, начал утром подметать асфальт у подъезда, гляжу — пакет этот лежит. Посмотрел я и испугался: шутка сказать, какие деньги — тысячи!.. Так, поверьте, еле дождался вашего приезда!.. Не иначе как кто из наших потерял, а может, даже казённые денежки-то — и государству нашему убыток, и человек зазря может пропасть…
Директор поблагодарил Голубцова, пожал ему руку и рассказал о происшествии работникам института. Выяснилось, что никто из них ничего не терял, и деньги были сданы в отдел находок милиции, а о Голубцове появилась заметка в стенгазете под заголовком «Благородный поступок».
После этого доверие к Голубцову окончательно укрепилось…
Справедливость требует отметить, что в этом деле Голубцов слегка надул господина Крашке, который выдал ему для этой инсценировки семь с половиной, а не пять тысяч. Голубцов рассудил, что для нужного эффекта хватит и пяти.
Но разумеется, Крашке ничего об этом не знал и не мог нарадоваться своим новым агентом.
К его вящему удовольствию, Голубцов, занесённый в секретные списки агентуры под кличкой «король бубен», довольно быстро освоил технику фотографирования документов и чертежей. В конце апреля «королю бубен» удалось подслушать, что конструктор Леонтьев собирается выехать в служебную командировку.
Было уже известно, что Леонтьев каждый вечер перед уходом с работы запирает секретные документы в стальной сейф, а затем опечатывает этот сейф сургучной печатью. Сейф, судя по имеющейся на нём надписи, был изготовлен артелью Меткоопромсоюза. Крашке специально приобрёл такой же сейф в магазине, где ему незаметно указал на него «король бубен», явившийся, как было условлено, в этот магазин, и у себя в кабинете тщательно его исследовал. Качество продукции артели Меткоопромсоюза получило полное одобрение господина Крашке: сейф был сделан примитивно, его внутренний затвор скорее походил на щеколду от простой калитки, чем на замок стального сейфа для секретных бумаг.
Однако дело осложнялось тем, что сейф Леонтьева, как выяснилось, стоял в секретной комнате его лаборатории, которая запиралась на ночь особой стальной дверью со сложным замком.
Таким образом, для получения чертежей, хранившихся в сейфе Леонтьева, требовалось, во-первых, подобрать ключ к замку стальной двери, во-вторых, ключ к самому сейфу и, наконец, изготовить сургучную печать, которой опечатывался ежедневно этот сейф, для того чтобы после фотографирования чертежей вновь опечатать его.
«Король бубен» был соответственно проинструктирован и снабжён пластилином особой марки. Ночью, когда он дежурил в институте, Голубцов запер изнутри двери вестибюля, погасил в нём свет и тихо поднялся на второй этаж. Он подошёл к стальной двери, ведущей в секретную комнату, и осветил её карманным фонарём, не включая из осторожности электрический свет.
В длинных гулких коридорах института, едва освещённых лунными отблесками, проникавшими через большие створчатые окна, царил таинственный голубоватый полумрак. Голубцов прислушался — ему послышался какой-то подозрительный шум в расположенной поблизости туалетной комнате. С пересохшим от волнения горлом он застыл у двери, напряжённо вслушиваясь в звуки, доносившиеся из туалетной комнаты. Они раздавались отчётливо и равномерно.
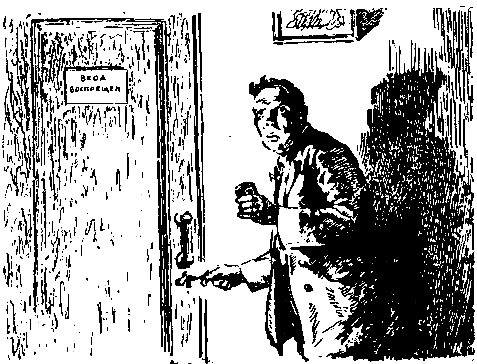
Собрав последние силы, Голубцов решил сделать вид, что производит ночной обход, и, нарочито тяжело ступая, подошёл к туалетной комнате. Здесь он с силой рванул дверь и громко спросил:
— Кто там?
Ответа не последовало. Голубцов включил электрический свет — туалетная была пуста, а из бачка равномерно и гулко капала вода.
«Король бубен» выругался, увидев в настенном зеркале своё искажённое, бледное от волнения лицо.
«Горький мне достался хлеб», — подумал сам о себе Голубцов и, чтобы хоть немного успокоиться, закурил.
Отдохнув, он вернулся к стальной двери и стал медленно, как его обучил Крашке, выдавливать из тюбика с пластилином густую, вязкую массу в замочную скважину. Когда та была наконец заполнена, Голубцов выждал положенные пять минут и сильно рванул за оставленный хвостик уже застывший и твёрдый слепок.
На следующий день он встретился с Крашке в универмаге Мосторга и в сутолоке, не здороваясь, незаметно сунул тому слепок.
Через два дня «король бубен» зашёл в пивной бар, где за столиком сидел Крашке в скромном грубошерстном костюме. Сделав вид, что он не знает Крашке, Голубцов попросил разрешения сесть за его стол. Они молча, не глядя друг на друга, пили пиво. Когда Крашке, расплатившись, стал подниматься, он незаметно сунул Голубцову изготовленный по слепку ключ.
В ту же ночь «король бубен», снова дежуривший по институту, открыл этим ключом стальную дверь и снял слепки с замка сейфа и сургучной печати, которой сейф был опечатан.
Слепки он снова передал Крашке, с которым через два дня встретился на Чистых прудах.
Это было в конце апреля. Стоял тёплый вечер, на бульваре было много гуляющих. По маленькому пруду скользили многочисленные лодки, сталкиваясь одна с другой. В них катались влюбленные парочки, весёлые студенческие компании и школьники старших классов.
Крашке в соломенной панаме, сняв пиджак, неутомимо кружил по пруду с видом человека, выполняющего врачебное предписание. «Король бубен» тоже очень старательно грёб, разгоняя тяжёлую лодку и демонстрируя разные виды гребли.
Когда их лодки в третий раз поравнялись, Крашке, опять не здороваясь, швырнул в лодку Голубцова кожаный кисет на молнии, в котором находились резная медная печать для сургуча и ключ от сейфа Леонтьева.
Операция «Сириус» близилась к завершению.
1 мая Голубцов был назначен дежурным вахтёром и должен был дежурить целые сутки.
Утром, гладко выбритый и весёлый, «король бубен» явился в институт, где уже собирались сотрудники на первомайскую демонстрацию.
Голубцов, с красным бантиком в петлице, сердечно поздравил всех с праздником и посетовал, что на этот раз ему не придётся участвовать в демонстрации.
Ровно в девять часов утра колонна института влилась в общий поток. Гремела медь оркестров, широкая улица была запружена демонстрантами, алыми знаменами, плакатами и портретами.
Ещё накануне Крашке и Голубцов решили, что извлечение и фотографирование документов, хранившихся в сейфе Леонтьева, безопаснее произвести не ночью, когда в институте может быть сделана внезапная проверка, а днём, именно в часы демонстрации, когда машине трудно пробиться к зданию института.
Они рассчитывали и на то, что в весёлой, радостной и шумной обстановке праздника Голубцову меньше всего угрожают непредвиденные случайности, могущие помешать осуществлению замысла.
Проводив свою колонну и убедившись, что заместитель директора, являвшийся в этот день ответственным дежурным по институту, мирно дремлет в своём кабинете. Голубцов снова запер изнутри двери вестибюля и поднялся на второй этаж. Он быстро отпер стальную дверь, запер её за собою, открыл сейф, содрав с него сургучную печать, и достал папку, на которой было написано:
Сов. секретно.
ЧЕРТЕЖИ И ФОРМУЛЫ ОРУДИЯ «Л-2.
«Король бубен» разложил чертежи и документы — их было не так уж много — на столе, стоявшем у самого окна, стёкла которого дребезжали от грома духовых оркестров, песен и весёлого праздничного гула.
Голубцов не выдержал и осторожно выглянул в окно. Широкая многоцветная человеческая река струилась по улице, заполняя её от края до края; мелькали яркие косынки девушек, алые с золотыми кистями знамена, медные и серебряные трубы музыкантов, тысячи улыбающихся лиц.
«Королю бубен» стало не по себе. Сложные, противоречивые чувства охватили его. Он завидовал, да, мучительно завидовал всем этим людям, проходившим за окном в честь своего праздника по своим улицам своего города. Это и в самом деле был их город, их страна, их праздник. Праздник, к которому он, бывший дворянин и помещик Серж Голубцов, не имел никакого отношения, будь все они прокляты!
И вот они радуются и празднуют, а он, с дурацкой шулерской кличкой «король бубен», должен, рискуя жизнью, выполнять задание этого носатого немца, который становится изо дня в день всё наглее и требовательнее и грубит дворянину Голубцову, как своему лакею.
Но, с другой стороны, есть какая-то особая, жгучая радость от сознания, что он сейчас своими действиями нанесёт удар и по этому враждебному ему празднику, и по этой поющей и тоже враждебной ему толпе.
С этими мыслями, захлёстнутый волной ненависти и жаждой мести. Голубцов бросился к столу, на котором были разложены документы, и стал снимать их один за другим специальной «лейкой», которой его снабдил Крашке. А второго мая, поздно ночью, сияющий Крашке ворвался, как буря, в личные апартаменты военного атташе и выложил на стол кассету от фотоаппарата, которым был снабжён «король бубен». Полковник Вейцель и Крашке в радостном волнении забрались в ванную комнату, служившую и для особо секретных фоторабот, и начали проявлять плёнку. В темноте, только подчёркиваемой смутным красным светом фотофонаря, мерно постукивал бачок для проявления, осторожно покачиваемый господином Крашке. Вейцель сопел от волнения — шутка сказать, сейчас выяснится результат такой трудной и сложной работы!
И вот пролетели установленные для проявления плёнки минуты, плёнка вынута из бачка, и — слава всевышнему! — на ней имеются тридцать шесть отлично сделанных снимков чертежей, расчётов, формул…
— Хайль Гитлер! — заорал во всю глотку Крашке и начал трясти руку полковнику Вейцелю.
Итак, достигнут полный успех. Ночью в Берлин полетела победная шифровка. Утром пришло шифрованное поздравление от Канариса и Пиккенброка и приказ немедленно отправить плёнку в Берлин. Как раз в эти дни из Москвы в Берлин должен был выехать некто герр Мюллер, числившийся корреспондентом Германского телеграфного агентства, а в действительности — сотрудник разведки. Герр Мюллер охотно согласился захватить с собой небольшой пакетик и обещал сразу же по приезде в Берлин передать его по назначению.
Господин Вейцель, принимая решение отправить драгоценную плёнку с Мюллером, сразу убивал двух зайцев: во-первых, Мюллер должен был доложить о победе господина атташе Гиммлеру и при случае самому фюреру; во-вторых, получив плёнку через Мюллера, адмирал Канарис уже никак не мог присвоить себе лавров полковника Вейцеля, что он нередко делал, и уже волей-неволей должен был объективно доложить о заслугах господина военного атташе.
Наконец, адмирал Канарис никак не мог придраться к тому, что плёнка была послана с Мюллером, ибо другой подходящей оказии в это время не было, а он сам требовал отправить её как можно скорее.
Словом, всё было задумано очень тонко, и Вейцель потирал руки от удовольствия.
Герр Мюллер жил в отеле «Националь», и Вейцелю не хотелось, чтобы Крашке отнёс ему плёнку в гостиницу. Поэтому было решено, что Крашке приедет прямо на вокзал проводить Мюллера, что было вполне естественно для пресс-атташе посольства, а там вручит ему драгоценный пакетик.
Так и было сделано. За час до отхода заграничного поезда Москва — Негорелое сияющий господин Крашке выехал из посольства на Белорусский вокзал, заверив полковника фон Вейцеля, что сразу после отхода поезда вернётся в посольство и доложит своему патрону, что плёнка поехала в Берлин.

