Книга: Книги крови V—VI: Дети Вавилона
Назад: Дети Вавилона (пер. с англ. М. Красновой)
Дальше: Книга крови VI
Во плоти
(пер. с англ. М. Красновой)
Когда Кливленд Смит вернулся после беседы с дежурным офицером, его новый сокамерник был уже на месте. Он глядел, как плавают пылинки в солнечном луче, проникающем сквозь пуленепробиваемое оконное стекло. Это зрелище повторялось ежедневно (если не мешали облака) и длилось менее получаса Солнце отыскивало путь между стеной и административным зданием, медленно пробиралось вдоль блока Б, а потом исчезло до следующего дня.
— Ты Тейт? — спросил Клив.
Заключенный перестал смотреть на солнце и обернулся. Мэйфлауэр сказал, что новенькому двадцать два года, но Тейт выглядел лет на пять моложе. В лице молодого человека было нечто, делавшее его похожим на потерявшегося (и притом безобразного) щенка, которого хозяева оставили поиграть на оживленной улице. Глаза слишком настороженные, рот чересчур безвольный, руки тонкие: прирожденная жертва. Клив почувствовал раздражение от мысли, что придется возиться с этим мальчишкой. Тейт станет лишней обузой. У Клива нет сил, чтобы тратить их на покровительство новичку, несмотря на болтовню Мэйфлауэра о необходимости протянуть руку помощи.
— Да, — ответил щенок. — Я Уильям.
— Тебя так и называют Уильямом?
— Нет, — сказал мальчик. — Все зовут меня Билли.
— Билли, — кивнул Клив и вошел в камеру.
Режим в Пентонвилле был в некотором роде прогрессивным: по утрам, на два часа камеры оставались открытыми, нередко отпирались на пару часов и днем, что давало заключенным определенную свободу передвижения. Однако это имело и свои недостатки: например, разговоры с Мэйфлауэром.
— Мне велено дать тебе кое-какие советы.
— Да? — переспросил мальчик.
— Ты раньше не сидел?
— Нет.
— Даже в колонии для несовершеннолетних?
Глаза Тейта блеснули.
— Недолго.
— Значит, ты в курсе дела. Знаешь, что ты легкая добыча?
— Знаю.
— Мне тут поручили, — продолжал без энтузиазма Клив, — защитить тебя, чтоб не покалечили.
Тейт уставился на Клива, и голубизна его глаз казалась молочной, будто они отражали солнце.
— Не расстраивайся, — произнес мальчик — Ты мне ничего не должен.
— Чертовски верно. Я тебе ничего не должен, но у меня вроде как есть гражданский долг, — угрюмо ответил Клив. — Это ты.
Клив отбыл два месяца заключения за торговлю марихуаной, и это был его третий визит в Пентонвилл. К тридцати годам он совершенно не постарел: тело крепкое, лицо худое и утонченное; в своем костюме для суда, ярдов с десяти, он мог бы сойти за адвоката. Но если чуть приблизиться, становился виден шрам на его шее, оставшийся после нападения безденежного наркомана, а в походке проявлялась настороженность, будто при каждом шаге вперед Клив сохраняет готовность к быстрому отступлению.
Вы еще молоды, сказал ему в последний раз судья, и у нас есть время, чтобы многого добиться в жизни. Вслух Клив возражать не стал, но думал он иначе. Работать тяжело, а преступать закон легко. Пока кто-нибудь не доказал обратное, он будет делать то, что умеет лучше всего. А если поймают — что ж, в тюрьме не так уж плохо, если ты правильно ко всему относишься. Еда приличная, общество избранное, и пока есть чем занять мозги, он вполне доволен. В настоящее время он читал, о грехе. Тема вполне уместная здесь. Клив уже слышал множество объяснений того, как грех пришел в мир, и от офицеров, работающих с условно осужденными, и от юристов, и от священников. Теории социологические, теологические, идеологические. Кое-какие заслуживали пары минут внимания, большинство же были столь нелепы (грех от утробы, грех от государства), что он смеялся в лицо вдохновенным проповедникам. Все они переливают из пустого в порожнее.
Однако это хорошая жвачка, когда нужно чем-то занять дни. И ночи: он плохо спад, в тюрьме. Нет, ему мешала спать не его собственная вина, а вина других. Он был всего лишь мелким торговцем наркотиками, он поставлял товар туда, где есть спрос, маленький зубчик в огромном механизме; ему не из-за чего чувствовать вину. Но рядом находились другие — казалось, что их множество, — чьи сны не были благостными и мирными. Они кричали, они жаловались, они проклинали судей земных и небесных. Этот шум пробудил бы и мертвеца.
— Так здесь всегда? — спросил Билли Клива через неделю или около того. Новый заключенный уже много раз слышал, как слезы мгновенно переходят в непристойную ругань.
— Да, большую часть времени, — ответил Клив. — Некоторым надо чуток повыть, чтобы мозги не скисли. Это помогает.
— Но не тебе, — заметил немузыкальный голос с нижней койки. — Ты только читаешь свои книжки и держишься в стороне от опасных дел. Я за тобой наблюдал. Это все тебя не волнует?
— Я могу жить и так, — ответил Клив. — У меня нет жены, которая каждую неделю приходит и напоминает о том, что я теряю.
— Ты сидел здесь раньше?
— Дважды.
Мальчик мгновение колебался, прежде чем проговорил:
— Ты, наверное, все тут знаешь, да?
— Ну, путеводителя я не напишу, однако в общей планировке разбираюсь!
Замечание мальчика показалось Кливу странным, и он спросил:
— А в чем дело?
— Мне интересно, — сказал Билли.
— У тебя есть вопросы?
Тейт не отвечал несколько секунд, а затем произнес:
— Я слышал, что обычно… обычно здесь вешали людей.
Клив ожидал чего угодно, только не этого. С другой стороны, несколько дней назад он решил, что Билли Тейт со странностями. Косые взоры его молочно-голубых глаз и то, как он разглядывал стену или окно, — так детектив осматривает место, где произошло убийство, отчаявшись найти разгадку.
Клив сказал:
— Думаю, когда-то здесь был сарай для виселицы.
Вновь молчание. Затем новый вопрос, заданный максимально небрежно:
— Он все еще стоит?
— Сарай? Не знаю. Людей, Билли, больше не вешают или ты не слышал?
Снизу ответа не последовало.
— В любом случае, тебе-то какое до этого дело?
— Просто любопытно.
И правда, любопытством он отличался. Такой странный со своим безучастным взглядом и повадками одиночки, что большинство мужчин его сторонились. Один Лоуэлл интересовался Билли, и намерения его были недвусмысленны.
— Ты не одолжишь мне свою леди до вечера? — спросил он Клива, когда они выстроились в очередь за завтраком. Тейт, стоявший поблизости, ничего не сказал. Клив тоже.
— Ты меня слышишь? Я задал вопрос.
— Слышал. Оставь его в покое.
— Надо делиться, — сказал Лоуэлл — Я тоже могу оказать тебе какую-нибудь услугу. Мы можем кое-что придумать.
— Он этим не занимается.
— Ладно, а почему бы не спросить его самого? — проговорил Лоуэлл, улыбаясь сквозь бороду. — Что скажешь, детка?
Тейт оглянулся на Лоуэлла.
— Нет, благодарю вас.
— Нет, благодарю вас! — повторил Лоуэлл и подарил Кливу вторую улыбку, в которой не было ни капли юмора. — Ты хорошо его выдрессировал. Он садится на задние лапки и служит?
— Отвали, Лоуэлл, — ответил Клив. — Он этим не занимается, вот и все.
— Ты не можешь сторожить его каждую минуту, — заметил Лоуэлл. — Рано или поздно мальчишке придется самому встать на ноги. Если ему не удобнее на коленях.
Намек; вызвал грубый хохот Нейлера, сокамерника Лоуэлла. С этими парнями Клив охотнее всего встретился бы в драке, но его искусство блефовать было отточено как бритва, и он использовал свое мастерство.
— Не беспокойся, — сказал он Лоуэллу, — борода твоя скроет сколько угодно шрамов.
Лоуэлл взглянул на Клива. Улыбка растаяла, он не мог теперь отличить правду от лжи и явно не испытывал желания подставить горло под бритву.
— Только не передумай, — произнес он. И ничего больше.
О стычке за завтраком не упоминали до того момента, когда погасили свет. Начал разговор Билли.
— Тебе не следовало этого делать, — сказал он. — Лоуэлл — мерзкий ублюдок. Я все слышал.
— Хочешь, чтобы тебя изнасиловали? Да?
— Нет, — быстро возразил он. — Боже, нет. Я должен уцелеть.
— После того как Лоуэлл наложит на тебя лапу, ты уже ни на что не сгодишься.
Билли соскользнул со своей койки и теперь стоял на середине камеры, едва различимый во тьме.
— Думаю, и ты в свою очередь тоже кое-чего хочешь, — сказал он.
Клив повернулся на подушке и взглянул на расплывчатый силуэт в ярде от него.
— Так чего, по-твоему, мне хотелось бы, малыш Билли? — спросил он.
— Того же, чего хочет Лоуэлл.
— И ты думаешь, весь шум из-за этого? Я защищаю свои права?
— Ага.
— Как ты говорил: нет, благодарю вас. — Клив опять повернулся лицом к стене.
— Я имел в виду…
— Меня не волнует, что ты имел в виду. Я не хочу об этом слышать, понял? Держись подальше от Лоуэлла, и хватит компостировать мне мозги.
— Эй, — пробормотал Билли, — не надо так, прошу тебя. Пожалуйста Ты единственный друг, который у меня есть.
— Ничей я не друг, — сказал Клив стене. — Просто я не люблю затруднений. Понятно?
— Никаких затруднений, — повторил мальчик; уныло.
— Правильно. А теперь… Мне нужно хорошо выспаться.
Тейт больше ничего не произнес, вернулся на свою нижнюю койку и лег. Пружины под ним скрипнули. Клив молчал, обдумывая сказанное. Он не имел никакого желания прибирать мальчика к рукам, но, возможно, выразился слишком резко. Что ж, дело сделано.
Он услышал, как Билли внизу почти беззвучно что-то шепчет. Клив напрягся, пытаясь подслушать слова мальчика Напряжение длилось несколько секунд, прежде чем он понял: малыш Билли бормочет молитву.
Ночью Клив видел сны. Проснувшись, он не мог вспомнить, о чем, хотя пытался собрать сновидение по крупицам. Тем утром едва ли не каждые десять минут что-то случалось; соль, опрокинутая на обеденный стол, крики со стороны спортивной площадки — казалось, вот-вот что-то натолкнет его на разгадку и сон всплывет в голове. Но озарение не приходило. Это делало Клива непривычно раздражительным и вспыльчивым Когда Уэсли — мелкий мошенник, знакомый еще по предыдущим отсидкам, — подошел к нему в библиотеке и затеял разговор, будто они были закадычными приятелями, Клив приказал коротышке заткнуться. Но Уэсли настаивал.
— У тебя неприятности! У тебя неприятности!
— Да? Что такое?
— Этот твой мальчишка. Билли.
— Что с ним?
— Он задает вопросы. Он очень напористый. Людям это не нравится. Они говорят, тебе следует его приструнить.
— Я ему не сторож.
Уэсли состроил рожу.
— Говорю тебе как друг.
— Отстань.
— Не будь дураком, Кливленд Ты наживаешь врагов.
— Неужели? — отозвался Клив. — Назови хоть одного.
— Лоуэлл, — ответил Уэсли мгновенно. — И еще Нейлер. Да кто угодно. Люди не любят таких, как Тейт.
— А какой он? — огрызнулся Клив.
Уэсли слабо хмыкнул, протестуя.
— Я только попытался тебе рассказать, — произнес он. — Мальчишка хитрый, как долбаная крыса. Будут неприятности.
— Отстань ты со своими пророчествами.
Закон уравнения требует, чтобы и худшие из пророков время от времени оказывались правы: казалось, настало время Уэсли. На следующий день Клив вернулся из мастерской, где развивал свой интеллект, приделывая колеса к пластиковым тележкам, и обнаружил поджидающего его на лестничной площадке Мэйфлауэра.
— Я просил тебя присмотреть за Уильямом Тейтом, Смит, — сказал офицер. — А тебе на это плевать?
— Что случилось?
— Нет, думаю, все-таки не плевать.
— Я спросил, что случилось, сэр?
— Ничего особенного. На этот раз. Его всего лишь отлупили. Кажется, Лоуэлл охотится за ним, да? — Мэйфлауэр уставился на Клива, но не получил ответа и продолжил: — Я ошибся в тебе, Смит. Я думал, обращение к крутому парню чего-то стоит. Я ошибся.
Билли лежал на своей койке: лицо разбито, глаза закрыты. Когда вошел Клив, он так и не открыл глаза.
— Ты в порядке?
— Да, — тихо ответил мальчик.
— Кости не переломаны?
— Выживу.
— Ты должен понять…
— Послушай. — Билли открыл глаза. Зрачки его почему-то потемнели, или причиной тому было освещение. — Я жив, понятно? Я не идиот, тебе это известно. Я знал, во что влезаю, когда попал сюда.
Он говорил так, будто и в самом деле мог выбирать.
— Я могу убить Лоуэлла, — продолжал он, — а потому не мучайся зря.
Он на какое-то время замолчал, а потом произнес:
— Ты был прав.
— Насчет чего?
— Насчет того, что не надо иметь друзей. Я сам по себе, ты сам по себе. Верно? Я медленно схватываю, но в это я врубился. — Он улыбнулся самому себе.
— Ты задавал вопросы, — сказал Клив.
— Разве? — тут же откликнулся Билли. — Кто тебе сообщил?
— Если у тебя есть вопросы, спрашивай меня. Люди не любят тех, кто сует нос не в свои дела. Они становятся подозрительными. А затем отворачиваются, когда Лоуэлл и ему подобные начинают угрожать.
При упоминании о Лоуэлле лицо Билли болезненно нахмурилось. Он тронул разбитую щеку.
— Он покойник, — прошептал мальчик чуть слышно.
— Это как дело повернется, — заметил Клив.
Взгляд, подобный тому, что бросил на него Тейт, мог бы разрезать сталь.
— Именно так, — заявил Билли без тени сомнения в голосе. — Лоуэллу не жить.
Клив не стал возражать: мальчик нуждался в подобной браваде, сколь бы смехотворна она ни была.
— Что тебе надо, зачем ты повсюду суешь свой нос?
— Ничего особенного, — ответил Билли.
Он больше не смотрел на Клива, а уставился на верхнюю койку. И спокойно произнес:
— Я лишь хотел узнать, где здесь были могилы, и все.
— Могилы?
— Где они хоронили повешенных. Кто-то говорил, что там, где похоронен Криппен, растет розовый куст. Ты когда-нибудь слышал об этом?
Клив покачал головой. Теперь он вспомнил, что мальчик уже спрашивал о сарае с виселицей, а вот теперь заговорил про могилы. Билли взглянул на него. Синяк с каждой минутой делался темнее и темнее.
— Ты знаешь, где они, Клив? — спросил он. И снова то же притворное безразличие.
— Я узнаю, если ты будешь так любезен и скажешь, зачем тебе это нужно.
Билли выглянул из-под прикрытия койки. Полуденное солнце очерчивало короткую дугу на отштукатуренных кирпичах стены. Оно было сегодня неярким. Мальчик спустил ноги с койки и сел на краю матраса, глядя на свет так же, как в первый день.
— Мой дедушка, отец моей матери, был здесь повешен, — произнес он дрогнувшим голосом. - В девятьсот тридцать седьмом. Эдгар Тейт. Эдгар Сен-Клер Тейт.
— Ты, кажется, сказал, что он отец твоей матери?
— Я взял его имя. Я не хочу носить имя отца. Я никогда ему не принадлежал.
— Никто никому не принадлежит, — ответил Клив. — Ты принадлежишь сам себе.
— Но это неверно, — возразил Билли, слегка пожав плечами. Он все еще глядел на свет на стене. Уверенность мальчика была непоколебимой; вежливость не делала его утверждение менее веским. — Я принадлежу своему деду. И всегда принадлежал.
— Ты еще не родился, когда…
— Это не важно. Пришел — ушел, такая ерунда.
«Пришел — ушел». Клив удивился. Понимал ли под этими словами Тейт жизнь и смерть? У Клива не было возможности спросить. Билли опять заговорил тем же приглушенным, но настойчивым голосом:
— Конечно, он был виновен. Не так, как о том думают, но виновен. Он знал, кто он и на что способен.
Это вина, так ведь? Он убил четверых. По крайней мере, за это его повесили.
— Ты думаешь, он убил больше?
Билли еще раз слабо пожал плечами: разве в количестве дело?
— Но никто не пришел посмотреть, где его похоронили. Это неправильно, так ведь? Им было все равно, мне кажется. Родственники, возможно, радовалась его смерти. Они с самого начала думали, что он чокнутый. Но он не был таким. Я знаю, не был. У меня его руки и его глаза. Так сказала мама. Видишь ли, она мне все о нем рассказала перед смертью. Рассказала такие вещи, какие никому и никогда не говорила И рассказала мне только потому, что мои глаза… — Он запнулся и приложил руку к губам, будто колеблющийся свет на стене уже загипнотизировал его, чтобы он не выдал слишком много.
— Что сказала тебе мать? — настаивал Клив.
Билли словно взвешивал различные ответы, прежде чем предложить один из них.
— Только то, что дед и я одинаковы в некоторых вещах, — сказал он.
— Чокнутые, что ли? — полушутя предположил Клив.
— Что-то вроде того, — ответил Билли, все еще глядя на стену; он вздохнул, затем решил продолжить признание. — Вот почему я пришел сюда. Так мой дедушка узнает, что он не забыт.
— Пришел сюда? — переспросил Клив. — О чем ты говоришь? Тебя поймали и посадили. У тебя не было выбора.
Свет на стене угас, туча заслонила солнце. Билли взглянул на Клива. Свет по-прежнему оставался тут, в его глазах.
— Я совершил преступление, чтобы попасть сюда, — пояснил мальчик. — Это осмысленный поступок.
Клив покачал головой. Заявление звучало абсурдно.
— Я и раньше пытался. Дважды. Это требует времени. Но теперь я здесь, не так ли?
— Не считай меня дураком, Билли, — предостерег Клив.
— Я и не считаю, — ответил тот. Теперь он стоял Казалось, он почувствовал облегчение, рассказав эту историю. Он даже улыбался, когда говорил: — Ты был добр ко мне. Не думай, что я этого не понимаю. Я благодарен. Теперь… — Он взглянул в лицо Кливу и закончил: — Я хочу знать, где могилы. Найди их, и я больше не пикну, обещаю.
Клив почти ничего не знал ни о тюрьме, ни о ее истории. Но он знал тех, кто обо всем этом знал. Например, человек по прозванию Епископ, столь хорошо известный заключенным, что его прозвище требовало прибавления определенного артикля. Этот человек частенько, заходил в мастерскую в то же время, что и Клив. Епископ за свои сорок с лишним лет так часто садился в тюрьму, выходил из нее и возвращался снова — в основном за мелкие дела, — что с фатализмом одноногого человека, призванного пожизненно изучать монопедию, стал знатоком тюрем и карательной системы в целом. Малую часть своих знаний он почерпнул из книг, большинство же сведений по крупицам собрал у старых каторжников и тюремщиков, готовых болтать часами, и постепенно превратился в ходячую энциклопедию преступлений и наказаний. Он сделал это предметом торговли: продавал бережно накопленные знания в зависимости от спроса, то в виде географической справки для будущего беглеца, то как тюремную мифологию для заключенного-безбожника, ищущего местное божество. Клив отыскал его и выложил плату в виде табака и долговых расписок.
— Что я могу для тебя сделать? — поинтересовался Епископ. Он был тяжеловесный, но не болезненный Тонкие, словно иголки, сигареты, которые он постоянно скручивал и курил, казались еще меньше в его пальцах мясника, окрашенных никотином.
— Мне бы хотелось знать о здешних повешенных.
Епископ улыбнулся.
— Такие славные истории, — сказал он и начал рассказывать.
В незамысловатых деталях Билли был в основном точен. В Пентонвилле вешали до самой середины столетия, но сарай давно разрушили. На его месте в блоке Б теперь отделение наказанных условно и содержащихся под надзором Что касается криппеновских роз, это тоже недалеко от истины. В парке перед хибаркой, где, как сообщил Епископ, располагался склад садовых инструментов, был небольшой клочок травы, в самом центре которого цвел куст роз. Его посадили в память доктора Криппена, повешенного в девятьсот десятом Епископ признал, что в этом случае не может определить точно, где правда, а где выдумка.
— Там есть могилы? — спросил Клив.
— Нет, нет, — ответил Епископ, одной затяжкой уменьшив свою крошечную сигарету наполовину. — Могилы находятся вдоль стены, слева за хибарой. Там длинный газон, ты его должен знать.
— Надгробий нет?
— Никаких надгробий. Никаких знаков. Только начальнику тюрьмы известно, кто где похоронен, а планы он, наверное, давно потерял. — Епископ нашарил в нагрудном кармане своей робы жестянку с табаком и принялся ловко, не глядя на руки, сворачивать новую сигарету. — Приходить сюда и оплакивать мертвецов не разрешается никому, как ты понимаешь. С глаз долой — из сердца вон, идея такая. Конечно, это не помогает. Люди забывают премьер-министров, а убийц помнят. Ты идешь по газону, и всего в шести футах под тобой лежат самые отъявленные из тех, что «украшали» когда-либо нашу зеленую милую землю. А ведь даже креста нет, чтобы отметить могилу. Преступно, а?
— Ты знаешь, кто там похоронен?
— Несколько очень испорченных джентльменов, — ответил Епископ, словно нежно журил их за содеянные проступки.
— Ты слышал о человеке по имени Эдгар Тейт?
Епископ поднял брови, его жирный лоб прорезали морщины.
— Святой Тейт? Да, конечно. Его непросто забыть.
— Что ты о нем знаешь?
— Он убил жену, потом детей. Орудовал ножом так же легко, как я дышу.
— Убил всех?
Епископ вставил новую сигарету в толстые губы.
— Может, и не всех, — сказал он, щуря глаза, словно хотел припомнить детали, — Может, кто-то из них и выжил. Скорее всего, дочь… — Он пренебрежительно пожал плечами. — Я не слишком хорошо запоминаю жертв. Да и кто их помнит? — Он уставился на Клива ласковыми глазами, — С чего ты так интересуешься Тейтом? Его повесили до войны.
— В тридцать седьмом. Уже порядком разложился, правда?
Епископ предостерегающе поднял указательный палец.
— Э, нет, — сказал он. — Видишь ли, земля, на которой построена эта тюрьма, имеет особые свойства. Тела, в ней похороненные, не гниют так, как повсюду.
Клив бросил на Епископа недоверчивый взгляд.
— Это правда, — заверил толстяк. — У меня есть точные данные. И поверь, когда бы ни выкапывали тело из земли, его всегда находили в почти безупречном виде. — Он воспользовался паузой, чтобы прикурить сигарету, сделал затяжку и теперь выпускал изо рта дым вместе со словами. — Когда придет конец света, добрые люди из Мэрилебоун и Кэмден-тауна поднимутся — гниль да кости. А грешники поскачут к Страшному суду свеженькие, как будто только что родились. Представляешь?
Этот парадокс восхищал его, широкое толстое лицо светилось от удовольствия.
— Ах, — задумчиво произнес он, — и кого же тогда назовут испорченным?
Клив так никогда и не узнал в точности, как Билли попал в садоводческий наряд, но он это сделал Возможно, юноша обратился прямо к Мэйфлауэру, который убедил вышестоящее начальство, что Тейту можно доверить работу на свежем воздухе. Как бы то ни было, он что-то придумал, и в середине недели, когда Клив узнал о местоположении могил, Билли оказался снаружи. Холодным апрельским утром он стриг газон.
Информация о том, что произошло в тот день, просочилась по тайным каналам приблизительно ко времени отдыха Клив услышал рассказ из трех независимых источников, ни один из которых не был на месте действия. Отчеты различались в деталях, но явно сходились по сути.
В общих чертах говорилось следующее: садоводческий наряд, четыре человека под присмотром тюремщика, двигался вокруг блоков. Они приводили в порядок газоны, выпалывали ненужную траву и готовили землю к весенним посадкам. Охрана была не на высоте: прошло две или три минуты, прежде чем тюремщик; заметил, что один из подопечных тихо ускользнул Подняли тревогу, однако долго искать не пришлось. Тейт не пытался убежать, а если и пытался, то припадок особого рода разрушил его планы. Его обнаружили — и тут версии значительно расходятся — на газоне у стены. Тейт распростерся на траве. Некоторые утверждали, что лицо его было черным, тело завязано узлом, а язык почти откушен; другие говорили, что он лежал вниз лицом, разговаривал с землей, всхлипывал и о чем-то молил Последовал вывод, что мальчик лишился рассудка.
Сплетни поставили Клива в центр внимания, что ему очень не нравилось. Весь следующий день у него не было ни одной спокойной минуты, поскольку люди хотели знать, каково жить в одной камере с психом. Но Клив отвечал, что Тейт был идеальным соседом, спокойным, неприхотливым и безусловно вменяемым. Ту же историю он рассказал и Мэйфлауэру, когда на другой день его подробно допросили; позднее повторил ее тюремному врачу. Клив и не заикнулся об интересе Тейта к могилам и стал присматривать за Епископом, требуя, чтобы тот тоже молчал. Епископ согласился подчиниться при условии, что в свое время ему поведают обо всем во всех подробностях. Клив пообещал, и Епископ, как приличествовало его гипотетическому духовному сану, свое слово сдержал.
Билли отсутствовал в камере два дня. Тем временем Мэйфлауэр перестал дежурить в этом тюремном секторе. На его место из блока Д перевели некоего Девлина. Слава о нем шла впереди него: похоже, он не был склонен к состраданию. Впечатление подтвердилось, когда в день возвращения Билли Тейта Клива позвали в кабинет Девлина.
— Мне говорили, что вы с Тейтом близки, — заявил Девлин. Лицо его было тверже гранита.
— Не совсем, сэр.
— Я не собираюсь повторять ошибку Мэйфлауэра, Смит. Насколько я знаю, Тейт доставляет неприятности. Я буду следить за ним с зоркостью ястреба, а когда меня нет, ты будешь делать это вместо меня, понял? Достаточно ему скосить глаза в сторону, и я выкину его отсюда в специальное подразделение раньше, чем он успеет пернуть. Я понятно говорю?
— Отдал почести, да?
Билли очень похудел в больнице, и трудно было даже вообразить, сколько этот скелет весит. Рубашка висела мешком, ремень застегивался на самую последнюю дырку. Худоба сильнее обычного подчеркивала его физическую уязвимость. Удар боксера полулегкого веса свалил бы его с ног, подумал Клив. Но худоба придала его лицу новую, почти отчаянную напряженность. Казалось, он состоит из одних глаз, да и те растеряли весь свой солнечный свет. Ушла и притворная пустота взгляда, сменившись сверхъестественной целеустремленностью.
— Я задал вопрос.
— Я тебя слышал, — ответил Билли. Солнца сегодня не было, но он все равно смотрел на стену. — Да, если тебе необходимо знать, я отдал почести.
— Мне велено присматривать за тобой. Девлин велел. Он хочет убрать тебя отсюда. Может, и совсем перевести.
— Перевести? — Билли посмотрел на Клива так испуганно и беззащитно, что его взгляд трудно было вынести более пары секунд. — Подальше отсюда, ты это имеешь в виду?
— Думаю, так.
— Они не могут!
— Они могут. Они называют это «поездом призраков». Сейчас ты здесь, а через минуту…
— Нет, — сказал мальчик, внезапно сжав кулаки. Он начал дрожать, и на мгновение Клив испугался, что будет второй припадок. Но усилием воли Билли справился с дрожью и опять направил взгляд на сокамерника. Ссадины и синяки, полученные от Лоуэлла, стали желтовато-серыми, они еще долго не исчезнут; на щеках выступила бледно-рыжая щетина. Клив против желания ощутил прилив тревоги.
— Расскажи мне, — попросил Клив.
— Что рассказать? — отозвался Билли.
— Что случилось у могил.
— Я почувствовал головокружение. Упал. Очнулся уже в госпитале.
— Так ты сказал им, верно?
— Так и было.
— Не так, насколько слышал я. Почему бы тебе не объяснить, что в действительности произошло. Я хочу, чтобы ты доверял мне.
— Я доверяю, — сказал юноша. — Но, видишь ли, я должен сохранить все в секрете. Это — между мной и им.
— Тобой и Эдгаром? — переспросил Клив, и Билли кивнул. — Между тобой и человеком, убившим всю свою семью, кроме твоей матери?
Билли явно был напуган тем, что Клив в курсе дела.
— Да, — кивнул он после раздумья. — Да, он убил их всех. Он бы убил и маму, если бы она не убежала. Он хотел стереть свою семью с лица земли. Чтобы не осталось наследников, чтобы не нести плохую кровь.
— Твоя кровь плохая, да?
Билли позволил себе слабо улыбнуться.
— Нет, — ответил он. — Я так не думаю. Дед ошибался. Времена изменились, разве не так?
Он сумасшедший, подумал Клив. С быстротой молнии Билли уловил его настроение.
— Я не сумасшедший, — сказал он — Скажи им. Скажи Девлину и любому, кто спросит. Скажи всем — я агнец. — Его глаза опять горели неистовством. «В нем ничего нет от агнца», — подумал Клив, но воздержался от того, чтобы сказать это вслух, — Они не должны перевести меня отсюда, Клив. После того, как я подошел так близко. У меня здесь дело. Важное дело.
— С покойником?
— С покойником.
Если Кливу он объявил свою новую цель, то с другими заключенными его отношения строились иначе. Он не отвечал ни на вопросы, ни на оскорбления, которыми его осыпали. Его внешнее пустоглазое безразличие было безупречным. Клив поражался: мальчик мог бы сделать актерскую карьеру, не будь он профессиональным безумцем.
Но то, что он затаил, вскоре стало проявляться в лихорадочном блеске глаз, в судорожных движениях, в задумчивости и непоколебимом молчании. Для доктора, с которым Билли продолжал общаться, физическое ухудшение было очевидным. Он заявил, что юноша страдает депрессией и бессонницей, и прописал успокаивающие таблетки. Лекарство Билли отдавал Кливу, утверждая, что сам в нем не нуждается. Клив принял его с благодарностью. Впервые за много месяцев он стал хорошо спать, его теперь не беспокоили слезы и крики заключенных. Его отношения с юным соседом, и без того очень сдержанные, теперь ограничивались простой вежливостью. Клив чувствовал, что Билли совершенно отгородился от внешнего мира.
Клив не впервые наблюдал такой уход. Его сводная сестра Розанна умерла от рака желудка три года назад. Это тянулось долго, и состояние ее ухудшалось до самых последних недель. Клив не был с ней близок, что создало перспективу, позволившую ему многое увидеть. В поведении женщины он различил то, чего недоставало его семье. Его испугала систематичность, с какой Розанна готовилась к смерти; она сужала свои привязанности, пока рядом не остались лишь самые важные фигуры — ее дети и священник. Остальные, включая мужа, прожившего с ней четырнадцать лет, были изгнаны.
Теперь он видел ту же холодность и эмоциональную бережливость в Билли. Подобно человеку, который готовится пересечь безводную пустыню и слишком дорожит своей энергией, чтобы тратить ее на лишние жесты, мальчик замкнулся в себе. Это выглядело жутко. Клив ощущал все большее неудобство, разделяя с Билли помещение восемь на двенадцать футов, словно они вместе жили на улице смерти. Единственным утешением оставались транквилизаторы, Билли без труда очаровал доктора, и тот продолжал снабжать его лекарствами. Таблетки гарантировали Кливу спокойный сон без сновидений — по крайней мере на несколько дней.
А потом ему приснился город.
Нет, сначала ему снилась пустыня. Пространство было засыпано сине-черным песком, обжигавшим ступни, а холодный ветер задувал в глаза и в нос, развевал волосы. Клив знал, что бывал здесь и раньше. Во сне он узнавал вереницы бесплодных дюн без единого деревца или постройки, чтобы разрушить монотонность. Но в прежние визиты он приходил сюда с проводниками — в этом он был твердо уверен; теперь же он здесь один. Над головой стояли тяжелые сине-серые тучи, обещавшие, что солнце не выглянет. Ноги его кровоточили от песка, словно он часами бродил по пустыне, тело покрылось синей пылью. Когда усталость навалилась на него и почти одолела, он увидел руины и подошел к ним.
Это не походило на оазис. На пустынных улицах не было ничего, что могло бы подкрепить силы путника, — ни фруктовых деревьев, ни искрящихся фонтанов. Там находилось скопище домов или даже их частей: рядом громоздились то целые этажи, то отдельные комнаты, будто пародия на городской квартал. Безнадежная мешанина стилей: прекрасные георгианские особняки стояли среди многоквартирных зданий с выгоревшими помещениями. Великолепный дом с террасами — безукоризненный вплоть до фарфорового пса на подоконнике — стоял спина к спине с гостиничным пентхаусом. И повсюду шрамы, показывающие, как грубо их выламывали из родной среды: стены растрескались, предлагая заглянуть мимоходом в личные апартаменты, лестницы вели в облака и в никуда, двери хлопали от ветра, приглашая в пустоту.
Клив знал, здесь есть жизнь. Не только ящерицы, крысы и бабочки (сплошь альбиносы), что порхали и прыгали, когда он шел по заброшенным улицам. Здесь была и человеческая жизнь. Он ощущал, что за каждым его движением наблюдают, хотя не видел ни следа людского присутствия — по крайней мере, в первый свой визит.
Во второй визит вместо утомительной прогулки по заброшенной местности его допустили прямо в некрополь. Ноги легко следовали тем же путем, каким шел он и в первый раз. Ветер той ночью дул сильнее, он подхватывал кружевные занавески в одном окне, звякал китайским колокольчиком в другом. Ветер принес голоса, ужасные и диковинные звуки, что раздавались из какого-то удаленного места за городом. Слушая жужжание и взвизги, напоминающие крики безумных детей, Клив благодарил судьбу за эти улицы и комнаты — за то, что они ему знакомы, хотя и лишены уюта. Но, несмотря на ужасные голоса, у него не возникало желания шагнуть внутрь зданий: он не хотел обнаружить причину возникновения сего архитектурного безумия, то, что вырвало с корнем части зданий и соединило их здесь.
И все-таки после того, как он один раз посетил это место, Клив возвращался туда ночь за ночью, всегда с окровавленными ногами, встречая лишь бабочек, крыс да черный песок на каждом пороге — песок, заползающий в комнаты и коридоры. Раз от раза ничего не менялось. Мимоходом он мог разглядеть между занавесками или сквозь жалюзи застывшие моменты жизни: стол, накрытый на три персоны (каплун не разрезан, соус дымится); душ, включенный в ванной комнате, где все время качается лампа; болонка в апартаментах, похожих на кабинет адвоката; парик, снятый и брошенный на пол, на прекрасный ковер, чьи узоры наполовину пожраны песком.
Только однажды он встретил в городе человеческое существо, и это был Билли. Произошло удивительное. Как-то ночью, когда ему грезились улицы, он наполовину очнулся от сна. Билли не спал, а сидел посередине камеры и смотрел на свет в окне. Там был не лунный свет, но мальчик купался в нем так, словно это свет луны. Лицо он поднял к окну — рот открыт, веки сомкнуты. Клив едва успел понять, что Билли пребывает в трансе, как транквилизаторы опять подействовали и сон сковал его. Однако он захватил с собой в сон кусок реальности, втянув юношу в свое сновидение. Когда он опять оказался в городе, там его встретил Билли Тейт: стоял на улице, лицом обратившись к темным тучам, рот открыт, глаза зажмурены.
Это длилось мгновение. Потом мальчик удалился, поднимая фонтаны черного песка. Клив звал его, но Билли бежал сломя голову. С необъяснимой уверенностью, как бывает во сне, Клив знал, куда он направляется: на край города, где дома редеют и начинается пустыня. Ничего не побуждало его пускаться в погоню, и все-таки он не хотел потерять связь с единственным человеком, встреченным на этих жалких улицах. Он снова позвал Билли по имени, более громко.
На этот раз Клив почувствовал его руку на своей руке и испуганно подскочил — он очнулся в камере.
— Все в порядке, — сказал Билли. — Это сны.
Клив пытался выбросить город из головы, однако в течение нескольких опасных секунд сон просачивался в бодрствующий мир. Глядя на мальчика, он видел, что волосы Билли подняты ветром, который не принадлежал, не мог принадлежать тюремным помещениям.
— Ты видишь сон, — повторил Билли. — Проснись.
Вздрагивая, Клив сел на койке. Город удалялся — почти ушел — но перед тем, как потерять его из виду, он без сомнений убедился: Билли знал, когда будил Клива, что они были там вместе несколько недолгих мгновений.
— Ты знаешь, да? — выдохнул он в мертвенно-бледное лицо рядом с собой.
Мальчик казался сбитым с толку.
— О чем ты говоришь?
Клив покачал головой. Эта мысль становилась все более невероятной по мере того, как он удалялся от сна. Однако, глядя на костлявую руку Билли, все еще сжимавшую его собственную, он был почти готов увидеть частицы обсидианового песка у юноши под ногтями. Но разглядел лишь обычную грязь.
Сомнения, однако, держались в голове долго. Когда рассудок почти поборол их, Клив осознал, что теперь внимательнее наблюдает за мальчиком, ожидая какого-то поворота в разговоре или случайного взгляда, способного раскрыть природу игры Билли. Такие попытки были безнадежным делом. Все понятные черты исчезли после той ночи, и мальчик стал, подобно Розанне, закрытой книгой, не дающей ключа к своему шифру. Что касается сновидения, о нем даже не упоминалось. Единственным косвенным намеком на пережитое стала настойчивость, с какой Билли убеждал Клива принимать седативное.
— Ты нуждаешься в отдыхе, — сказал он, вернувшись из лазарета с новым запасом лекарств. — Возьми их.
— Тебе тоже надо спать, — ответил Клив, любопытствуя, сильно ли мальчик будет настаивать. — Я в этом дерьме больше не нуждаюсь.
— Нет, нуждаешься, — напирал Билли, протягивая пилюли. — Ты знаешь, как мешает шум.
— Говорят, к нему привыкают, — ответил Клив. — Обойдусь без таблеток.
— Нет, — не соглашался Билли. Теперь Клив почувствовал всю силу его настойчивости. Это подтвердило подозрения: мальчик хотел, чтобы он был одурманен, причем одурманен всегда.
— Я сплю сном младенца, — говорил Билли. — Пожалуйста, возьми таблетки. Иначе они пропадут.
Клив пожал плечами.
— Ну если ты уверен, — пробормотал он удовлетворенно, как будто смягчившись. Его страхи подтвердились.
— Уверен.
— Тогда спасибо.
И он взял пузырек.
Билли просиял. С этой улыбки и начались по-настоящему плохие времена.
Той ночью Клив ответил на уловки мальчика собственной игрой. Он притворился, что принимает транквилизаторы, как обычно, но и не думал их глотать. Как только он лег на свою койку лицом к стене, он открыл рот, снотворное выпало и закатилось под подушку. Затем он сделал вид, что заснул.
Тюремные дни и начинались, и заканчивались рано: к 8.45 или к 9.00 большая часть камер всех четырех блоков погружалась в темноту, заключенных закрывали до рассвета, предоставляя их собственным помыслам. Сегодняшняя ночь выдалась довольно тихой. Плаксу из соседней камеры перевели в блок Д, но в разных местах на этаже раздавался шум Даже без таблеток Клив чувствовал, что сон искушает его. С нижней койки не доносилось ни звука, за исключением редких вздохов. Невозможно было догадаться, спит Билли или нет. Клив хранил молчание, изредка украдкой бросая взгляд на светящийся циферблат часов. Минуты словно отлили из свинца, и, пока тянулись первые часы, он боялся, что притворный сон вот-вот станет реальным. Клив как раз думал об этом, когда дрема одолела его.
Проснулся он много позже. Казалось, положение его во время сна не изменилось. Перед ним была стена с облупившейся краской, она походила на неразборчивую карту какой-то безымянной местности. С нижней койки не слышалось ни звука. Сделав движение подобно тому, как двигаются во сне, он подтянул руки, чтобы можно было увидеть бледно-зеленый циферблат часов. Час пятьдесят одна Еще несколько часов до рассвета Он четверть часа пролежал, не меняя позы, прислушиваясь к звукам в камере и пытаясь понять, где Билли. Ему не хотелось поворачиваться и искать его глазами: он боялся, что мальчик стоит посреди камеры, как стоял в ночь посещения города.
Мир, погруженный в темноту, вовсе не был тих. Клив слышал глухие шаги, когда кто-то ходил туда-сюда в камере этажом выше, слышал, как вода бежит по трубам, как воет сирена на Каледониан-роуд. Он не слышал Билли. Ни единого вздоха.
Минуло еще четверть часа, и Клив почувствовал, что знакомое оцепенение наваливается на него. Если он останется на месте, он снова уснет и проснется лишь утром. Чтобы что-то узнать, он должен повернуться и посмотреть. Благоразумнее, решил он, действовать не украдкой, а повернуться как можно естественнее. Он это и сделал, бормоча, словно во сне, чтобы усилить иллюзию. Итак, он повернулся, прикрыв лицо рукой, чтобы подглядывание не заметили, и осторожно открыл глаза.
В камере было темнее, чем той ночью, когда он застал Билли с застывшим лицом, обращенным к окну. Сейчас мальчика Клив не видел. Он открыл глаза шире и осмотрел камеру как можно внимательнее, через щелочку между пальцами. Что-то было неладно, но он не вполне понимал что. Он полежал несколько минут, пока глаза приспосабливались к темноте. Но зрение не обострялось, сцена оставалась нечеткой, словно картина, так покрытая грязью и лаком, что ее перспектива ускользает от взора исследователя. Все же он знал наверняка, что тени по углам и у противоположной стены не пусты. Он хотел избавиться от предчувствия, заставлявшего сердце глухо колотиться, оторвать голову от подушки, словно набитой камнями, и позвать Билли, попросить, чтобы тот не прятался. Но здравый смысл советовал иное. Клив тихо лежал, покрываясь потом, и смотрел.
Теперь он начал понимать, что ошибался. Обстановка камеры изменилась. Тени лежали там, где их быть не могло: они раскинулись по стене, куда должен падать немощный свет из окна. Каким-то образом между окном и стеной свет был задушен и уничтожен. Клив прикрыл глаза, чтобы дать своему одурманенному разуму шанс подыскать рациональное объяснение и опровергнуть это заключение.
Когда он открыл глаза вновь, сердце его дрогнуло. Тень не потеряла ни капли могущества, она немного подросла.
Никогда прежде он не ощущал такого страха, не чувствовал холода в кишках, подобного тому, что обнаружил сейчас. Все, что он мог сделать, — держать дыхание ровным и оставить руки там, где они лежали. Инстинкт призывал его укрыться и спрятать поглубже лицо, как делают дети. Две мысли удержали Клива от такого поступка. Первая: малейшее движение способно привлечь нежелательное внимание. Вторая: Билли где-то в камере и, возможно, напуган этой ожившей тьмой, как и сам Клив.
А затем с нижней койки заговорил мальчик. Его голос был тихим; видимо, он не хотел разбудить спящего соседа. И этот голос звучал необыкновенно интимно. Клив не допускал и мысли, что Билли разговаривает во сне, — время самообмана давно прошло. Мальчик обращался к темноте, и этот неприятный факт сомнений не вызывал.
— Больно, — произнес юноша со слабым укором в голосе. — Ты мне не говорил, как это больно…
Было ли это фантазией Клива или же теневое видение расцвело в ответ, подобно чернилам каракатицы в воде? Он почувствовал ужас.
Мальчик заговорил снова. Голос его был столь тих, что Клив едва улавливал слова.
— Должно быть, скоро, — сказал он со спокойной настойчивостью. — Я не боюсь. Не боюсь.
Тень опять сдвинулась. На этот раз Клив поглядел в ее середину и осознал, какую химерическую форму она приняла. Горло его трепетало, в гортани теснился крик, готовый вот-вот вырваться наружу.
— Все, чему ты можешь научить меня… — говорил Билли. — Быстро…
Слова приходили и уходили, но Клив едва слышал их. Внимание его было приковано к занавеси теней, к фигуре, что двигалась в складках. Это не иллюзия. Там находился человек или его грубое подобие: материя тела слишком тонкая, очертания все время размываются и опять стягиваются в некое подобие человека с величайшим усилием. Черты посетителя он различал плохо, но и того хватало, чтобы почувствовать: уродства выставлены напоказ, как достоинства. Лицо напоминало тарелку сгнивших фруктов: мясистое, шелушащееся, то раздутое от скопления мух, то внезапно опадающее до ядовитой сердцевины. Как мог мальчик беседовать с подобной тварью? И все же, несмотря на гниение, горькое благородство проступало в осанке, в муке глаз, в беззубом «О» его рта.
Билли внезапно встал. Резкое движение после долгих тихих слов так подействовало на Клива, что крик почти вырвался из его горла. Он с трудом подавил его, зажмурил глаза и стал глядеть сквозь решетку ресниц, что же произойдет дальше.
Билли снова заговорил, но теперь голос его звучал слишком тихо, чтобы подслушивать. Мальчик шагнул к тени, причем тело его закрыло большую часть фигуры на противоположной стене. Камера была шириной в два-три шага, но благодаря какому-то смещению физических законов казалось, что мальчик отошел на пять, шесть, семь шагов от койки. Тень и ее служитель занимались своим делом, совершенно поглотившим их внимание.
Фигура Билли уменьшилась сильнее, чем это возможно в пределах камеры, словно он шагнул через стену в какую-то другую область. И только теперь, глядя широко раскрытыми глазами, Клив узнал то место. Тьма, откуда выступал гость Билли, состояла из клубящейся тени и пыли, а за ним, едва различимый в колдовском сумраке, но узнаваемый для любого, кто там был, лежал город сновидений Клива.
Билли приблизился к своему хозяину. Создание возвышалось над ним, изодранное в лоскуты, длинное и тонкое, но жаждущее власти. Клив не знал, как и почему мальчик шел туда, и отчаянно боялся за Билли, но соображения собственной безопасности приковали его к койке. В тот момент он осознал, что никогда не любил никого — ни мужчину, ни женщину — так сильно, чтобы последовать за ними в тень ужасной тени. Эта мысль родила жуткое чувство одиночества. Клив знал: никто не сделает и шага, чтобы оттащить его от края пропасти, даже если увидит, как он идет к своему проклятию. И он, и мальчик — потерянные души.
Теперь повелитель Билли поднимал свою разбухшую голову, и вечный ветер с тех голубых улиц вдувал в его лошадиную гриву яростную жизнь. Вместе с ветром прилетали те самые голоса, которые Клив слышал прежде, — всхлипы сумасшедших детей, нечто среднее между слезами и воем. Будто подбодренное ими, существо потянулось к Билли и схватило его; мальчик подернулся дымкой. Билли не вырывался из объятий, а скорее отвечал на них. Клив, не в силах наблюдать эту ужасную близость, зажмурил глаза. Когда — секунды или минуты спустя? — он открыл их, объятия разомкнулись.
Существо развеивал ветер. Оно дробилось на части, куски шелушащегося тела летали по улицам, словно мусор, гонимый воздушными потоками. И это словно стало сигналом: рассыпалась вся сцена, улицы и дома поглотила пыль, они удалялись. И еще до того, как последние лоскутья тени пропали из поля зрения, город исчез. Клив обрадовался его исчезновению.
Реальность, сколь бы мрачной она ни была, предпочтительнее такой опустошенности. Крашеная стена, кирпич за кирпичом, проявлялась вновь, Билли, освобожденный из объятий хозяина, снова втиснулся в прочную геометрию камеры. Он стоял и глядел на свет в окне.
Клив той ночью опять не спал Лежа на своем несминаемом матрасе и глядя вверх, на сталактиты краски, застывшей на потолке, он гадал, обретет ли когда-нибудь вновь утраченную в сновидениях безопасность.
Солнечный свет отличался истинным артистизмом. Он искрился и блистал, подобно продавцу мишуры, страстно желающему ослепить и сбить с толку. Но под сверкающей поверхностью пряталось иное состояние: то, которое солнечный свет, вечный угодник толпы, думал утаить. Оно было отвратительным, ужасающим и безнадежным Ослепленные зрители даже мельком никогда такого не видели. Но Клив теперь знал, каково отсутствие солнца; он прочувствовал его в сновидениях и, оплакивая потерю своего неведения, понимал, что больше не сможет вернуться вспять — в зал, где стоят зеркала света.
Он изо всех сил старался скрыть от Билли произошедшую перемену. Мальчик не должен догадаться о том, что Клив подслушивал. Однако таиться было почти невозможно. На следующий день Клив пытался делать вид, будто ничего не произошло, но спрятать беспокойство не смог. Тревогу невозможно контролировать, она сочилась из пор, как пот. Мальчик все знал; без сомнения, он знал. И немедленно высказал свое подозрение. Когда после дневной работы в мастерской они вернулись в камеру, Билли живо взял быка за рога.
— С тобой сегодня что-то не так?
Клив принялся перестилать постель, боясь взглянуть на Билли.
— Ничего особенного, — откликнулся он. — Чувствую себя неважно, вот и все.
— Плохо спал ночью? — спросил мальчик.
Клив чувствовал, как взгляд Билли обжигает его спину.
— Нет, — ответил он, выдержав паузу, чтобы ответ прозвучал не слишком быстро. — Я принял твои таблетки, как обычно.
— Хорошо.
Диалог прервался, и Клив закончил приводить в порядок постель молча. Но растянуть это занятие надолго ему не удалось. Когда он отвернулся от койки, Билли сидел за небольшим столом, держа в руках одну из книг Клива. Мальчик небрежно пролистывал том, какие-либо признаки подозрительности исчезли. Однако Клив знал, что внешнему виду лучше не доверять.
— Зачем ты это читаешь? — спросил Билли.
— Чтобы убить время, — ответил Клив, залезая на верхнюю койку и вытягиваясь там, что, естественно, мгновенно уничтожило результаты его труда.
— Нет. Я не спрашиваю, зачем ты читаешь книги. Я спрашиваю, зачем ты читаешь именно эти книги? Всякие глупости о грехе?
Клив едва расслышал вопрос Здесь, на койке, он слишком ясно вспомнил впечатления нынешней ночи. Он вспомнил также, что тьма и сейчас наползает опять на край мира. При этой мысли ему показалось, будто содержимое желудка подступило к горлу.
— Ты меня слышишь? — окликнул его мальчик.
Клив пробормотал, что слышит.
— Ну так зачем эти книги? О проклятии и прочем?
— Кроме меня, их в библиотеке никто не берет, — ответил Клив с трудом, потому что боялся проговориться, ибо другие, невысказанные слова были куда важнее.
— Значит, ты не веришь в то, что там написано?
— Нет, — сказал он. — Нет, я не верю ни единому слову.
Мальчик некоторое время молчал. Клив не смотрел на него, но слышал, как Билли переворачивает страницы. Затем прозвучал другой вопрос, заданный более спокойно.
— Ты когда-нибудь боялся?
Тема беседы от чтения перешла к чему-то более насущному. Зачем Билли спрашивает про страх, если сам не боится?
— А чего мне пугаться? — спросил Клив.
Краем глаза он заметил, что мальчик пожал плечами, перед тем как ответить.
— Того, что происходит, — сказал он безразличным голосом. — Того, с чем ты не можешь совладать.
— Да, — произнес Клив, не ведая, куда заведет этот обмен репликами. — Да, конечно. Иногда я боюсь.
— И что ты тогда делаешь? — задал вопрос Билли.
— Ведь тут ничего не поделать, так? — отозвался Клив. Голос его звучал приглушенно, как и голос самого Билли. — Я перестал молиться в то утро, когда умер мой отец.
Он услышал мягкий хлопок — Билли закрыл книгу. Клив чуть повернул голову, чтобы видеть мальчика. Билли не смог скрыть своего волнения. Он боялся. Клив понял: мальчик не хочет, чтобы снова настала ночь, даже больше его самого. Осознание общего страха ободрило Клива. Возможно, мальчик не полностью подчинен тени; возможно, удастся упросить его показать выход из этого засасывающего кошмара.
Он сел прямо. Голова его почти доставала до потолка камеры. Билли прервал свои размышления и взглянул наверх; лицо его представляло собой мертвенно-бледный овал подрагивающих мышц Пришло время все сказать. Именно сейчас, пока свет на этажах не выключили и камеры не заполнили тени. Потом не будет времени для объяснений — мальчик затеряется в городе, недосягаемый для уговоров.
— Мне снятся сны! — произнес Клив. Билли ничего не ответил, просто смотрел пустыми глазами. — Мне снится город.
Мальчик не реагировал. Он явно не собирался по собственной воле что-либо разъяснять, его следовало подтолкнуть.
— Ты знаешь, о чем я говорю?
Билли покачал головой.
— Нет, — ответил он легко. — Мне никогда не снятся сны.
— Они всем снятся.
— Значит, я их не помню.
— А я помню, — сказал Клив. Он решил продолжить разговор, не позволив Билли вывернуться. — И во сне я вижу тебя. Там, в городе.
Теперь мальчик слегка вздрогнул Клив заметил это и убедился, что не зря тратит слова.
— Что это за место. Билли? — спросил он.
— Откуда мне знать? — отозвался Билли. Он, кажется, был готов рассмеяться, а затем передумал. — Я не знаю, понял? Это твои сны.
Прежде чем Клив смог ответить, он услышал голос надзирателя. Тот двигался вдоль камер, напоминая, что надо укладываться. Очень скоро свет погасят, и Клив будет заперт в этой узкой камере на десять часов. Вместе с Билли и призраками.
— Прошлой ночью… — начал он, опасаясь без подготовки заговорить о том, что увидел и услышал. Но еще больше его страшила перспектива провести целую ночь в том городе, в одиночестве, в темноте. — Прошлой ночью я видел… — Он запнулся. Почему не приходят слова? — Видел…
— Что видел? — требовал ответа мальчик. Лицо его ничего не выражало, прежний трепет мрачного предчувствия исчез. Возможно, он тоже услышал слова надзирателя и осознал, что ничего тут не поделаешь, что нет способа предотвратить наступление ночи.
— Что ты видел? — настаивал Билли.
Клив вздохнул.
— Я видел мою мать, — ответил он.
Мальчик выдал свое облегчение легкой улыбкой, пробежавшей по его губам.
— Да… Я видел мать. Отчетливо, как в жизни.
— И это расстроило тебя? — спросил Билли.
— Иногда сны огорчают.
Надзиратель дошел до камеры Б.3.20.
— Выключить свет через две минуты, — приказал он на ходу.
— Тебе необходимо принять еще несколько таблеток, — посоветовал Билли, кладя книгу на стол и подходя к койке. — Тогда ты будешь как я. Никаких снов.
Клив проиграл Его, опытного хитреца, обманул мальчишка. Он лежал, глядя в потолок, и отсчитывал секунды до того момента, когда погасят свет, а внизу Билли раздевался и укладывался в постель.
Еще оставалось время, чтобы вскочить и позвать надзирателя, чтобы начать биться головой в дверь камеры, пока за ним не придут. Но как ему объяснить свой поступок — сказать, что он видит плохие сны? Они ответят: а кто их не видит? Или заявить, что он боится темноты? А кто не боится? Ему бы рассмеялись в лицо и приказали отправляться обратно в койку, и он бы остался полностью разоблаченным, вместе с мальчиком и его хозяином, ожидающим у стены. Такая тактика опасна.
И в молитве нет прока. Клив сказал Билли правду: он покончил с Богом, когда его молитвы, выпрашивающие отцу жизнь, остались без ответа. Из этого божественного безразличия родился атеизм, и вера не может опять загореться, как бы ни был глубок ужас.
Мысли об отце неизбежно напомнила о детстве. Ничто не могло полностью завладеть его вниманием и отвлечь от страхов, кроме воспоминаний о детстве. Когда свет наконец потушили, испуганный разум попытался укрыться в этих воспоминаниях. Удары сердца замедлились, пальцы перестали дрожать. Клив и не заметил, как сон овладел им.
Теперь отвлечься было невозможно. Как только он заснул, приятные воспоминания растаяли, а он на сбитых, окровавленных ногах вернулся в ужасный город.
Или, скорее, в его окрестности, поскольку нынешней ночью он не последовал знакомым маршрутом мимо дома в георгианском стиле и скопления многоквартирных строений, а вместо этого направился к предместьям, где ветер был сильнее обычного и голоса, прилетающие вместе с его порывами, яснее. С каждым шагом Клив ожидал встретить Билли и его темного спутника, но никого не видел. Лишь бабочки сопровождали его в пути, светящиеся, словно циферблаты часов. Они садились на плечи и волосы, как конфетти, потом вспархивали снова.
Он без происшествий достиг края города и остановился, изучая взглядом пустыню. Облака, как всегда плотные, двигались над головой с величием огромных колесниц. Голоса этой ночью как будто звучали ближе и не так душераздирающе, как прежде. Смягчились ли сами голоса или он просто привык к ним, Клив не знал.
А затем, когда он смотрел на дюны и небо, загипнотизированный пустотой, он услышал шорох, оглянулся через плечо и увидел улыбающегося человека. Человек был одет в выходной костюм. Он приближался к Кливу со стороны города Он сжимал нож, чье лезвие было окровавлено; рука и рубашка спереди промокли от крови. Даже во сне, одурманенный лекарствами, Клив устрашился зрелища и отступил назад, слова предостережения слетели с его губ. Однако улыбающийся мужчина будто не заметил его, прошел мимо и углубился в пустыню, отбросив нож после пересечения некой невидимой границы.
Лишь теперь Клив заметил, что другие путники поступали так же, и земля городских окраин усеяна смертельными сувенирами: ножи, веревки, даже человеческая рука, отрубленная у запястья. Большинство вещей было почти погребено в песке.
Ветер вновь принес голоса: слова бессмысленных песен, оборвавшийся смех. Изгнанный мужчина отошел на сотню ярдов от города и теперь стоял на вершине дюны, явно чего-то ожидая. Голоса становились все громче. Клив внезапно ощутил беспокойство. Каждый раз, когда он бывал в городе и слышал эту какофонию, в воображении рождались образы, заставлявшие кровь холодеть. Стоит ли дожидаться появления демонов? Любопытство оказалось сильнее благоразумия. Гряда, из-за которой они должны прийти, приковывала взор, а сердце глухо билось. Отвести глаза было невозможно. Человек в выходном костюме начал снимать пиджак, потом отбросил его и стал ослаблять галстук.
Кливу показалось, что он разглядел нечто в дюнах. Шум возвысился до приветственного вопля на грани экстаза. Клив остановился, не позволяя собственным нервам разгуляться. Он решил рассмотреть надвигающийся ужас во всей его многоликости.
Внезапно, перекрывая грохот музыки, кто-то закричал. Голос мужской, но высокий и пронзительный, кастрированный страхом. Голос донесся не из города-сновидения, а из той, другой выдумки, название которой он не мог припомнить. Усилием воли Клив вновь обратил внимание на дюны, вознамерившись увидеть картину, что вот-вот должна была появиться перед ним. Крик превратился в вопль, рвущий глотку, и замер. Но теперь вместо него звенел сигнал тревоги — более настойчивый, чем обычно. Клив ощутил, что сон от него ускользает.
— Нет… — бормотал он, — дайте мне увидеть…
Дюны двигались. Но это было возвращение — из города в камеру. Протесты не помогли. Пустыня поблекла, город растаял. Клив открыл глаза. Свет в камере был все еще выключен, звенел сигнал тревоги. В камерах этажом выше и ниже слышались крики. Голоса офицеров в смятении вопросов и требований звучали громче обычного.
Мгновение он лежал на койке, даже теперь надеясь вернуться в сновидение. Однако сигнал тревоги звучал слишком пронзительно, а истерия в камерах не стихала. Клив признал поражение и сел на постели, окончательно разбуженный.
— Что происходит? — спросил он Билли.
Мальчика не оказалось на его месте у стены. Несмотря на тревогу, он, видимо, спал.
— Билли!
Клив свесился через край койки и уставился вниз… Там было пусто. Простыни и одеяла отброшены.
Клив спрыгнул с койки. Вся камера просматривалась за две секунды, спрятаться негде. Мальчика не было видно. Испарился он, что ли, пока Клив спал? О подобных, исчезновениях Клив слышал — тот самый «поезд призраков». Об этом предупреждал Девлин: трудных заключенных внезапно переводят в другое место. Клив не сталкивался с тем, чтобы подобное происходило ночью, но все когда-то случается в первый раз.
Он подошел к двери, чтобы попытаться разобрать что-нибудь в гвалте, царящем снаружи, но отказался от толкований. Вероятнее всего, там драка: наверное, какие-то узники впали в бешенство от того, что им придется остаться вместе в камере. Клив попытался догадаться, откуда раздался первый крик — справа, слева, сверху, снизу; но сон спутал все направления.
Пока Клив стоял возле двери в надежде, что мимо пройдет надзиратель, он ощутил изменение в воздухе. Оно было слабым, и поначалу Клив его не заметил. Только когда он поднял руку, чтобы протереть глаза со сна, он ощутил, что его руки покрылись гусиной кожей.
Теперь сзади он услышал шум дыхания или какое-то грубое подобие вдохов и выдохов.
Он беззвучно шевельнул губами, пытаясь выговорить:
— Билли…
Мурашки переползли на спину, его трясло. Камера не пуста — совсем рядом с Кливом кто-то был.
Клив собрал, все свое мужество и заставил себя повернуться. Камеру окутывала более плотная тьма, чем после пробуждения. Воздух казался колеблющимся покровом. Но Билли в камере не было. Не было никого.
А затем шум повторился и привлек его внимание к нижней койке. Пространство в том месте налилось дегтярно-черным, сгустилась тень — подобная той, на стене, — слишком глубокая и изменчивая, чтобы иметь естественное происхождение. Там рождалось квакающее дыхание, похожее на последние вздохи астматика. Клив понял: мрак в камере возникал здесь — в узком пространстве кровати Билли тень просачивалась на пол и клубилась туманом до верха койки.
Запас страха у Клива оказался неистощимым. Несколько прошедших дней он испытывал страх в сновидениях и в грезах; он покрывался потом, он мерз, он жил на грани разумного и выжил. Теперь, когда все тело его покрылось гусиной кожей, разум не ударился в панику. Клив чувствовал себя спокойнее, чем обычно, недавние события усиливали его бесстрастность. Он не свернется калачиком, не зажмурит глаза и не станет молить о приходе утра, потому что, если он сделает так, он признает себя мертвецом и никогда не поймет природы этой тайны.
Он глубоко вздохнул и подошел к койке. Койка затряслась. Обитатель нижнего яруса неистово метался.
— Билли, — позвал Клив.
Тень двинулась. Она сгустилась у ног Клива; она внезапно бросилась ему в лицо, источая запах дождя на камнях, холодный и безутешный.
Клив стоял в шаге от своей койки и все-таки ничего не мог поделать, тень была для него неодолимой преградой. Но зрение могло обманывать его. Он потянулся к постели. Под его напором пелена разошлась, как дым, и стала видна фигура, бьющаяся на матрасе.
Конечно, там был Билли; но не совсем. Пропавший Билли, может быть, или тот Билли, который появился. Клив не хотел оставаться рядом с таким созданием. На нижней койке лежало темное отвратительное существо, уплотнявшееся по мере того, как Клив наблюдал за ним, созидающее себя из теней. В накаленных добела глазах и в частоколе игольчато-острых зубов было нечто от бешеной лисицы и одновременно — от перевернутого на спину насекомого, наполовину свернувшегося, с панцирем вместо плоти. Это походило на ночной кошмар. Создание непрерывно менялось. Какими бы ни были его очертания, Клив видел, как они истаивают. Зубы росли, удлинялись и одновременно теряли материальность: вещество вытягивалось в хрупкие острия, а затем рассеивалось дымкой. Конечности, что молотили по воздуху, тоже подросли. В глубине хаоса виднелся призрак Билли Тейта с открытым ртом: мальчик мучительно лепетал что-то, отчаянно стараясь остаться узнаваемым. Клив хотел проникнуть в этот водоворот и вытащить оттуда мальчика, но он чувствовал, что процесс имеет собственную инерцию и движущую силу; вмешательство могло оказаться губительным Ему оставалось лишь стоять и наблюдать, как тонкие белые конечности Билли и уплотняющийся живот корчатся, пытаясь избавиться от чудовищной анатомии. Светящиеся глаза исчезли последними: вылились из глазных впадин мириадами нитей и улетели вместе с черным дымом.
Теперь Клив увидел лицо Билли. Отголоски прежнего состояния все еще проглядывали в нем. Затем они исчезли, тени ушли, и на койке остался лишь Билли — голый и обессиленный тяжкими страданиями.
Он взглянул на Клива с невинным выражением лица.
Клив вспомнил, как мальчик жаловался твари из города.
«Больно… — Так, кажется, говорил он. — Ты не рассказывал мне, как это больно…»
Достойная внимания правда Тело мальчика казалось пустым, сделанным из пота и костей; более неприятное зрелище едва ли можно вообразить. Но оно человеческое; по крайней мере человеческое.
Билли открыл рот. Губы его были красными и блестящими, будто измазанные губной помадой.
— Теперь… — выговорил он между болезненными вдохами. — Что нам теперь делать?
Казалось, разговор для него был чрезмерным напряжением. В глубине горла раздался звук, словно он подавился, и мальчик прижал руку ко рту. Клив шагнул в сторону, когда Билли встал и проковылял к ведру в углу камеры, использовавшемуся для ночных нужд. Но добраться до ведра он не успел, тошнота одолела его на полпути, рвота выплеснулась между пальцев и хлынула на пол. Клив отвернулся, когда Билли вырвало, и мысленно приготовился терпеть зловоние до утра, когда произведут уборку. Однако запах, заполнявший камеру, не был запахом блевотины, а более сладким и густым.
Клив с удивлением повернулся к фигуре, скрюченной в углу. На полу возле ног мальчика виднелись брызги темной жидкости, такие же ручейки стекали по его голым ногам. Даже в темной камере можно было различить, что это кровь.
Даже в самых благоустроенных тюрьмах вспышки насилия прорываются, и всегда неожиданно. Взаимоотношения заключенных, которые проводят вместе шестнадцать часов из ежедневных двадцати четырех, непредсказуемы. И надзиратели, и заключенные знали, что вражды между Лоуэллом и Нейлером не было. До тех пор пока не раздался тот крик, из их камеры не доносилось ни звука — ни спора, ни выкриков. Что побудило Нейлера неожиданно напасть на соседа и зарезать его, а потом нанести тяжкие раны себе самому, обсуждали и в столовой, и во дворе на прогулке. Однако вопрос «зачем» уступил первое место вопросу «как». Ходили слухи, что найденное тело Лоуэлла представляло неописуемое зрелище, и даже люди, привыкшие к жестокости, испытали потрясение. Лоуэлла не особенно любили, он был наглым и лживым. Но кем бы он ни был, он не заслужил столь страшной смерти. Человека просто распотрошили: глаза выколоты, гениталии оторваны. Нейлер, единственный возможный виновник, успел вспороть себе живот. Теперь он лежал в отделении реанимации, и прогнозы врачей не обнадеживали.
Пока слухи о насилии расползались по блоку, Клив провел весь день незамеченным. У него тоже было что рассказать, но кто бы ему поверил? Он и сам верил с трудом. Время от времени, когда видения вновь одолевали его, он спрашивал себя, не сошел ли он с ума. Но ведь здравый рассудок — понятие относительное. С уверенностью Клив мог утверждать одно: он видел трансформацию Билли Тейта Он уцепился за эту уверенность с упорством, рожденным отчаянием. Если он перестанет верить собственным глазам, у него не останется защиты и темноту не сдержать.
После умывания и завтрака заключенных заперли по камерам. Работу в мастерских, развлечения и любую деятельность, требующую перемещения по этажам, запретили, пока камеру Лоуэлла фотографировали, обыскивали, а потом отмывали. После завтрака Билли все утро проспал — состояние, по глубине походившее на кому. Когда он проснулся к ланчу, он повеселел и стал дружелюбнее, чем на протяжении последних недель. В его легкой болтовне не содержалось ни намека на то, что он знает, что случилось предыдущей ночью. В полдень Клив сказал ему правду в лицо.
— Ты убил Лоуэлла, — заявил он.
Больше не имело смысла изображать неведение. Может быть, сейчас мальчик не осознает, что совершил, но вскоре память к нему вернется. И сколько пройдет времени, прежде чем он вспомнит, что Клив видел его превращение? Лучше признаться сразу.
— Я видел тебя, — сказал Клив. — Я видел, как ты изменялся…
Казалось, Билли не слитком встревожили такие откровения.
— Да, — ответил он. — Я убил Лоуэлла Ты осуждаешь меня?
Вопрос, вызывающий за собой сотни других, задан небрежно, словно из легкого интереса.
— Что с тобой случилось? — спросил Клив. — Я видел тебя здесь. — Устрашенный воспоминаниями, он указал на нижнюю койку. — Ты не был человеком.
— Я не ожидал, что ты увидишь, — ответил мальчик. — Я давал тебе таблетки, так ведь? Ты не должен был подсматривать.
— И предыдущей ночью, — продолжал Клив, — я тоже не спал.
Мальчик заморгал, как; испуганная птица, слегка вздернув голову.
— Ты поступил глупо, — произнес он. — Очень глупо.
— Так или иначе, я не посторонний, — сказал Клив. — Я вижу сны.
— О да. — Нахмуренные брови портили фарфоровое лицо Билли. — Да. Тебе ведь снился город, правда?
— Что это за место, Билли?
— Я читал где-то: «У мертвых свои магистрали». Ты когда-нибудь слышал об этом? Ну… у них есть и города.
— У мертвых? Ты имеешь в виду что-то вроде города призраков?
— Я не хотел тебя ввязывать. Ты был со мной добрее, чем большинство людей. Но я предупреждал тебя, что пришел в Пентонвилл заниматься делом.
— С Тейтом.
— Точно.
Клив хотел рассмеяться. Эти слова — город мертвых — были нагромождением бессмыслицы. И все же его озлобленный разум не находил более вероятного объяснения.
— Мой дед убил своих детей, — сказал Билли, — потому что не желал передавать свою наследственность следующему поколению. Он поздно выучился, понимаешь? До того как он завел семью, дед не знал, что он не такой, как большинство других. Он особенный. Но он не желал этого дара и не желал, чтобы его дети жили с этой силой в крови. Он бы убил себя и закончил дело, но моя мама убежала. Прежде чем он смог отыскать ее и убить, его арестовали.
— И повесили. И похоронили.
— Да, повесили и похоронили. Но он не исчез. Никто не исчезает, Клив. Никогда.
— Ты пришел сюда, чтобы отыскать его.
— Не просто отыскать, а заставить его помочь мне. Я с десяти лет знаю, на что способен. Пусть не вполне осознанные, но у меня были подозрения. И я боялся. Конечно, я боялся. Это ужасная тайна.
— Эти превращения… они происходили с тобой всегда?
— Нет. Я просто знал, на что способен. Я пришел сюда, чтобы заставить моего деда научить меня, заставить его показать мне, как делать. Даже теперь… — Он посмотрел на свои пустые руки. — Когда он учит меня… Боль почти непереносимая…
— Так зачем ты это делаешь?
Мальчик асептически посмотрел на Клива.
— Чтобы не быть собой. Чтобы стать дымом и тенью. Стать чем-то ужасным. — Он казался искренне озадаченным. — Ты бы не хотел этого?
Клив покачал головой.
— То, чем ты стал прошлой ночью, отвратительно.
Билли кивнул.
— Так думал мой дед. На суде он называл себя отвратительным. Вряд ли они поняли, что он имеет в виду. Он говорил о проклятии. Он встал и сказал: «Я — экскремент Сатаны. — Билли улыбнулся этой мысли. — Ради Христа, повесьте и сожгите меня». С тех пор он изменил мнение. Век ветшает, земля нуждается в новых племенах.
Он внимательно посмотрел на Клива.
— Не бойся, — сказал Билли, — я тебя не трону, если ты не будешь болтать. Ты не будешь, правда?
— А что я могу рассказать, чтобы мне поверили? — мягко ответил Клив. — Нет, я не буду.
— Хорошо. Немного позже я уйду. И ты уйдешь. И сможешь все забыть.
— Сомневаюсь.
— Даже сны закончатся, когда меня здесь не будет. Ты видишь их только потому, что у тебя есть задатки экстрасенса. Поверь. Тебе нечего бояться.
— Город…
— Что город?
— Где его жители? Я никогда никого не видел. Нет, не совсем так. Одного я видел. Человека с ножом… уходящего в пустыню…
— Не могу тебе помочь. Я сам, прихожу туда как гость. По рассказам деда я знаю только, что город населен душами мертвых. Что бы ты там ни увидел, забудь. Ты не принадлежишь тому месту. Ты еще не умер.
Всегда ли благоразумно верить словам, которые говорят мертвые? Очистились ли они от лжи, когда умерли? Начали ли новое существование как святые? Клив не верил в такие наивные вещи. Более вероятно, что они берут с собой все свои способности, хорошие и плохие, и используют их там, насколько могут. В раю должны быть сапожники, не так ли? Глупо думать, что они забудут, как тачать сапоги.
Поэтому вполне возможно, что Эдгар Тейт лгал о городе. Было еще что-то, чего Билли не знал. А как насчет голосов на ветру? Или тот человек, бросивший нож среди прочего хлама, прежде чем уйти в одиночку бог знает куда — что это за ритуал?
Теперь, когда страх исчерпался и не осталось ни пяди твердой реальности, чтобы на нее опереться, Клив не видел причины, почему бы не отправиться в город по собственной воле. Вряд ли на его пыльных улицах встретится нечто более страшное, чем то, что Клив видел на койке в своей камере. Или то, что произошло с Лоуэллом и Нейлером. Теперь город представлялся почти убежищем. Безмятежность царила на его пустых улицах и площадях. В городе Клив чувствовал себя так, будто все дела завершены, со всеми страданиями и гневом покончено. Эти здания, эти комнаты — с протекающей ванной и чашкой, наполненной до краев, — уже пережили самое страшное и успокоились, пережидая тысячелетия. Когда ночь принесла очередной сон и город предстал перед Кливом, он вошел туда не как испуганный путник, сбившийся с дороги во враждебном пространстве, а как гость, желающий расслабиться в знакомом месте — знакомом достаточно, чтобы не потеряться в нем, но все же не настолько, чтобы заскучать.
Словно отвечая на эту легкость, город сам открылся ему. Бродя по улицам — ноги его, как всегда, были сбиты и окровавлены, — Клив видел, что двери широко распахнуты, занавески на окнах отодвинуты. Он отнесся к приглашению без высокомерия, решил воспользоваться им, чтобы внимательнее изучить особняки и многоэтажки. При ближайшем рассмотрении они оказались далеки от образцов домашнего уюта, за какие Клив принял их поначалу. В каждом обнаруживался знак недавно совершенного насилия: перевернутое кресло, след на полу, где каблук скользил в луже крови. Были приметы и более очевидные. Например, молоток, оставленный на столе вместе с газетами; на его раздвоенном конце, которым вытаскивают гвозди, запеклась кровь. В комнате с разобранным полом черные пластиковые свертки, подозрительно скользкие, лежали возле вынутых досок. В каком-то доме висело зеркало, разбитое вдребезги, в другом вставная челюсть валялась возле камина, где вспыхивало и потрескивало пламя.
Все это были декорации убийств. Возможно, жертвы перенеслись в иные города, полные зарезанных детей и убитых друзей, а здесь остались живописные сцены преступлений, навсегда застывшие, бездыханные. Клив, как истинный вуайерист, шел по улицам и наблюдал сцену за сценой, в мыслях восстанавливая те мгновения, что предшествовали вынужденному покою каждой комнаты. Вот здесь погиб ребенок — кроватка его перевернута; здесь кого-то убили в собственной постели — подушка пропитана кровью, топор лежит на ковре. Может быть, это разновидность проклятия — убийцы обязаны какую-то часть вечности (или целую вечность) провести там, где они убивали?
Никого из преступников Клив не видел, хотя логика подсказывала, что они должны находиться поблизости. Значило ли это, что они обладали способностью оставаться невидимыми, дабы оберечь себя от любопытствующих глаз, от прогуливающихся сновидцев вроде Клива? Или время, проведенное в этом нигде, трансформировало их и они больше не были плотью и кровью, а стали частью своей комнаты — креслом, китайской куклой?
Затем Клив вспомнил мужчину на окраине: он появился, одетый в выходной костюм, с окровавленными руками, и удалился в пустыню. Тот мужчина не был невидимкой.
— Где вы? — окликнул Клив, подойдя к порогу кухни с открытой духовкой, с посудой в раковине, где из крана бежала вода. — Покажитесь.
Глаза уловили движение, и он посмотрел через дверь. Там был человек. Он был там все время, понял Клив, но стоял так тихо и был такой неотъемлемой частью комнаты, что оставался незамеченным, пока не посмотрел в сторону гостя. И Клив почувствовал прилив беспокойства. Он подумал, что в каждой комнате, которую он разглядывал, непременно находился либо один преступник, либо несколько убийц, замаскированных неподвижностью Человек понял, что его увидели, и шагнул из укрытия. Средних лет. На щеке порез после утреннего бритья.
— Кто ты? — спросил человек. — Я тебя видел прежде. Ты проходил мимо.
Голос тихий и печальный, не похож на злодея, подумал Клив.
— Просто гость, — ответил он мужчине.
— Здесь не бывает гостей, — возразил тот, — только будущие жители.
Клив нахмурился, стараясь понять, о чем говорит мужчина. Но разум, погруженный в сон, медлил, и прежде, чем он сумел разрешить эту загадку, возникли другие.
— Я тебя знаю? — спросил человек. — Я чувствую, что забываю больше и больше. А это не дело, верно? Если я все забуду, я никогда не уйду, так ведь?
— Уйдешь? — переспросил Клив.
— Совершу обмен, — произнес человек, приглаживая волосы.
— И куда ты пойдешь?
— Обратно. Вновь совершать это.
Теперь он пересек комнату и подошел к Кливу. Вытянул руки ладонями вверх — их покрывали пузыри.
— Ты можешь мне помочь, — сказал он. — Я заключу сделку с лучшими из них.
— Я не понимаю.
Человек явно решил, что Клив прикидывается. Верхняя губа с подкрашенными черными усами оттопырилась.
— Понимаешь, — отозвался он. — Прекрасно понимаешь. Просто ты хочешь продать себя, как и все делают. Просишь самую высокую цену, не так ли? Кто ты — наемный убийца?
Клив покачал головой.
— Я просто сплю, — ответил он.
Приступ веселья у мужчины закончился.
— Будь другом, — попросил он. — Я не обладаю властью, как некоторые. Знаешь, кое-кто приходит сюда и уходит обратно через несколько часов. Они профессионалы. Они договариваются. А я? Что до моего дела, это было преступление на почве страсти. Я пришел неподготовленным. И я останусь здесь, пока не сумею заключить сделку. Пожалуйста, будь другом.
— Я не могу тебе помочь, — сказал Клив, не вполне понимая, о чем его просят.
Убийца кивнул.
— Конечно, — произнес он. — Я и не ожидал…
Он отвернулся от Клива и двинулся к очагу. Пламя там вспыхнуло сильнее, и возник мираж конфорки. Мужчина небрежно положил одну из вспухших ладоней на дверку духовки и закрыл ее, но почти сразу же она со скрипом отворилась вновь.
— Знал бы ты, как возбуждает аппетит запах жареной плоти! — сказал мужчина, опять повернувшись к дверке и пытаясь ее закрыть. — Кто может обвинять меня?
Клив оставил этого человека наедине с его бессвязной болтовней. Если здесь и присутствовал смысл, он вряд ли заслуживал того, чтобы в него вдаваться. Разговор об обменах и бегстве из города ускользал от понимания Клива.
Он побрел дальше, больше не вглядываясь в дома. Он увидел все, что хотел видеть. Утро близко, скоро звонок затрезвонит на этаже. Наверное, он сейчас проснется, думал Клив, и на сегодня покончит с путешествием.
Едва он подумал так, он увидел девочку. Лет шести-семи, не больше, она стояла на ближайшем перекрестке. Явно не убийца… Он направился к ней. Либо от смущения, либо по какой-то менее достойной причине девочка повернула направо и побежала прочь. Клив последовал за ней. Когда он достиг перекрестка, она оказалась уже далеко на следующей улице, и он опять пустился в погоню. Когда преследуешь кого-то во сне, законы физики неодинаковы для участников погони. Девочка, казалось, двигалась легко, а Клив боролся с густым, словно патока, воздухом. Однако он не останавливался, а спешил вслед за девочкой. Скоро он удалился на значительное расстояние от знакомых мест, в тесноту дворов и аллей, представляющих, как он полагал, многочисленные сцены резни. В отличие от центральных улиц, это гетто включало в себя более полные фрагменты пейзажа: травянистая обочина, скорее красная, чем зеленая; фрагмент виселицы с петлей; груда земли. А теперь вот просто стена.
Девочка завела Клива в тупик, а сама исчезла, оставив созерцать гладкую кирпичную стену, сильно выщербленную, с узкой прорезью окна. Очевидно, это и было то, на что его привели посмотреть. Он уставился сквозь пуленепробиваемое стекло, с внешней стороны запачканное потеками птичьих испражнений, и обнаружил, что разглядывает одну из камер Пентонвилла. Желудок его сжался. Что за игра — вывести из камеры в город сновидений лишь для того, чтобы привести обратно в тюрьму? Но несколько секунд изучения успокоили: это не его камера. Это камера Лоуэлла и Нейлера. Картинки приклеены скотчем к серому кирпичу, кровь разбрызгана на полу и на стенах, на постели и на двери. Это еще одна сцена убийства.
— Господи всемогущий, — пробормотал Клив. — Вилли…
Он отвернулся от стены. На песке у его ног спаривались ящерицы, ветер, отыскавший дорогу в эту тихую заводь, принес бабочек. Клив смотрел на их танец, и тут прозвенел звонок в блоке Б. Наступило утро.
Это была ловушка. Механику ее Клив не постигал, но в назначении не сомневался. Билли скоро отправится в город. Камера, где он совершил убийство, уже поджидает его, и из всех гнусных мест в том скопище склепов эта пропитанная кровью каморка, несомненно, была самым гнусным.
Мальчик не может знать, что приготовлено для него. Дед лгал ему о городе мертвых, он рассказывал не все и не подумал поведать Билли о тех случаях, когда приходится оставаться там. А почему? Клив мысленно вернулся к уклончивому разговору, который он вел с человеком в кухне. Что за слова об обменах, о заключении сделок, о возвращении назад? Эдгар Тейт раскаялся в своих грехах, ведь так? По прошествии лет он решил, что он не экскремент дьявола и что вернуться в мир вовсе не так уж плохо. Билли стал средством для возвращения.
— Ты не нравишься моему деду, — сказал мальчик, когда после второго завтрака их вновь заперли в камере.
На второй день расследования все дела, развлечения и работа были отменены, пока камеру за камерой допрашивали относительно смерти Лоуэлла и Нейлера.
— Не нравлюсь? — переспросил Клив. — А почему?
— Ты слишком любопытен, когда ты в городе.
Клив расположился на верхней койке, Билли сидел на стуле у противоположной стены. Глаза мальчика покраснели, его била слабая, но постоянная дрожь.
— Ты скоро умрешь, — проговорил Клив. Как дать понять это ясно, без обиняков? — Я видел… в городе…
Билли покачал головой.
— Иногда ты рассуждаешь как сумасшедший. Мой дед говорит, что я не должен доверять тебе.
— Он боится меня. Именно поэтому так говорит.
Билли иронически рассмеялся. Это был очень неприятный смех, заимствованный, как рассудил Клив, у дедушки Тейта.
— Он не боится никого, — резко возразил Билли.
— Боится того, что я увижу. И расскажу тебе.
— Нет, — ответил мальчик с абсолютной убежденностью.
— Он приказал тебе убить Лоуэлла, ведь так?
Голова Билли дернулась.
— Зачем ты это говоришь?
— Ты никогда не хотел убивать его. Может быть, хотел немного напугать обоих, но не убить. Это идея твоего любящего дедушки.
— Никто не указывал мне, что делать, — сказал Билли. Взгляд его стал ледяным. — Никто.
— Ладно, — уступил Клив. — Может, он направил тебя, а? Сказал, что это дело семейной чести или вроде того?
Замечание определенно достигло цели — дрожь усилилась.
— Ну и что? Даже если он так сделал?
— Я видел, куда ты скоро отправишься, Билли. Место уже поджидает тебя.
Мальчик уставился на Клива, но не прерывал его.
— Убийцы населяют этот город, Билли. Вот почему там твой дед. А если он найдет себе замену, он получит свободу.
Билли встал. На лице его отражалось бешенство, все следы иронии исчезли.
— Что значит «получит свободу»?
— Вернется в мир. Сюда.
— Ты лжешь.
— Спроси его.
— Он меня не обманывает. Его кровь — моя кровь.
— Думаешь, его это волнует? После пятидесяти лет, проведенных в ожидании подходящего случая, чтобы уйти. Ты думаешь, ему не наплевать, как он это сделает?
— Я расскажу ему о том, как ты лжешь! — воскликнул Билли.
Раздражение его не полностью относилось к Кливу, слышалось и затаенное сомнение, которое Билли пытался подавить.
— Ты покойник, — сказал мальчик. — Стоит ему обнаружить, что ты пытаешься настроить меня против него, и ты узнаешь его. Да, ты его узнаешь. И будешь молить о том, чтобы не знать.
Казалось, выхода нет. Чтобы убедить начальство перевести его в другую камеру до наступления ночи (слабая надежда), ему придется отказаться от всего, что он говорил о мальчике прежде, и сказать им, что Билли опасный безумец или что-то вроде того, то есть явную ложь. Но даже если его переведут, такой маневр еще не гарантирует безопасности. Мальчик сказал, что был дымом и тенью. Ни дверь, ни решетки не сдержат его, что доказывает судьба Лоуэлла и Нейлера. К тому же Билли не один. Надо принимать в расчет Эдгара Сен-Клера Тейта и силы, которыми он обладает. И все же оставаться нынешней ночью рядом с мальчиком равносильно самоубийству. Клив отдает себя в лапы чудовищ.
Когда заключенные вышли из камер, чтобы поужинать, Клив поискал Девлина и попросил уделить ему время для короткого разговора, что и было сделано. После ужина Клив предстал перед надзирателем.
— Вы просили меня присматривать за Билли Тейтом, сэр.
— А что такое?
Клив мучительно обдумывал, что сказать Девлину, чтобы добиться немедленного перевода. На ум ничего не приходило. Он запнулся, надеясь на вдохновение, но слова, как назло, не подыскивались.
— Я… я… хотел подать прошение о переводе в другую камеру.
— Причина?
— Мальчишка неуравновешен, — ответил Клив. — Боюсь, он принесет мне проблемы. Впадет в очередной припадок…
— Ты уложишь его на лопатки одной рукой. Он отощал, одни кости остались.
Если бы Клив разговаривал с Мэйфлауэром, он, возможно, обратился бы к тому напрямую. Но с Девлином подобная тактика была изначально обречена.
— Не знаю, почему ты жалуешься. Он же практически идеальный, — сказал Девлин, иронически передразнивая тон любящего отца. — Спокойный, вежливый. Не представляет опасности ни для тебя, ни для других.
— Вы не знаете его…
— Что ты пытаешься мне внушить?
— Посадите меня в карцер, сэр. Куда угодно, мне все равно. Только уберите меня от него. Пожалуйста.
Девлин не отвечал, но озадаченно смотрел на Клива. Наконец, он произнес:
— Ты боишься его.
— Да.
— В чем же дело? Ты сидел в одной камере с крутыми парнями, и ни волоска с твоей головы не упало.
— Он не такой, — отвечал Клив. Он мог повторять только одно: — Он сумасшедший. Говорю вам, он сумасшедший.
— Весь мир безумен, Смит, кроме тебя и меня. Разве ты не слышал? — рассмеялся Девлин. — Возвращайся в камеру и кончай ныть. Ты не согласился на «поезд призраков». А теперь?
Когда Клив вернулся в камеру, Билли писал письмо.
Он сидел на койке, углубившись в свое занятие, и выглядел чрезвычайно уязвимым. Девлин говорил правду: мальчик иссох до костей. Глядя на тростник его позвоночника, выпирающий сквозь футболку, трудно было поверить, что эта болезненная фигурка смогла пережить муки перевоплощения. А теперь — кто знает? Может быть, мучительные трансформации со временем разорвут его на части. Но не слишком скоро.
— Билли…
Мальчик не отводил глаз от письма.
— То, что я говорил о городе…
Билли перестал писать.
— Может быть, я все это вообразил. Просто приснилось…
Билли опять принялся за письмо.
— Я говорил это, потому что я тебя боялся. Вот и все. Я хочу, чтобы мы остались друзьями.
Билли поднял глаза.
— Это не в моих силах, — ответил он очень просто. — Теперь это ушло к деду. Он может проявить милосердие, а может и отказаться.
— Зачем ты сказал ему?
— Он знает, что во мне. Он и я… мы как одно целое. Вот откуда я знаю, что он не обманывает меня.
Скоро наступит ночь, свет в тюрьме выключат, придут тени.
— Значит, мне остается только ждать? — спросил Клив.
Билли кивнул.
— Я позову его, тогда посмотрим.
Позовет, промелькнуло в голове Клива. Нуждается ли старик в призыве от мест своего упокоения? Значит, именно это и происходило, когда Билли стоял в середине камеры с закрытыми глазами, с лицом, обращенным к окну? Если так, можно ли помешать мальчику вызвать мертвеца?
Пока сумрак сгущался, Клив лежал на своей койке, обдумывая возможности. Что лучше: подождать и посмотреть, какой приговор вынесет Тейт, или попытаться перехватить контроль над ситуацией и предотвратить прибытие старика? Если выбрать второе, возврата назад не будет, не останется места оправданиям и мольбам, агрессия породит агрессию. Если не удастся помешать приходу Тейта, это конец.
Свет погасили. В камерах на всех пяти этажах блока Б люди утыкались лицом в подушки. Одни лежали без сна и планировали свою дальнейшую карьеру, когда незначительный перерыв в их профессиональной жизни закончится; другие ласкали невидимых любовниц. Клив прислушивался к звукам в камере, к шумному движению воды по трубам, к неглубокому дыханию на нижней койке. Иногда казалось, что он уже живет вторую жизнь на этой засаленной подушке, оставленный в темноте, без выхода.
Дыхание внизу вскоре стало неразличимым, не доносилось ни единого шороха Может, Билли ждал, пока Клив уснет, чтобы что-то предпринять. Если так, мальчик ждет попусту. Клив не сомкнет глаз и не даст зарезать себя во сне. Он не свинья, чтобы позволить безжалостно вздеть себя на нож.
Двигаясь с максимальной осторожностью, чтобы не возбудить подозрений, Клив расстегнул ремень и вытащил его из штанов. Он мог бы смастерить нечто более подходящее, разорвав наволочку и простыню, но боялся привлечь внимание Билли. Теперь он ждал с ремнем в руке, притворяясь, будто спит.
Сегодня ночью он был рад тому, что шум в блоке тревожит и не дает задремать, потому что прошло целых два часа, прежде чем Билли поднялся с койки. За эти два часа веки Клива несколько раз опускались и отказывались открываться, несмотря на весь страх перед тем, что может случиться, если он заснет. По этажам нынешней ночью плыла печаль. Смерть Лоуэлла и Нейлера сделала нервными даже самых огрубевших заключенных. Крики и переговоры неспящих наполняли ночные часы. Несмотря на усталость, сон не одолел Клива.
Когда Билли наконец встал с нижней койки, было далеко за полночь, и узники почти угомонились. Клив слышал дыхание мальчика: оно стало неровным, прерывистым. Он смотрел из-под прищуренные зек, как Билли пересекает камеру, направляясь к знакомому месту против окна. Несомненно, он собирался позвать старика.
Когда Билли закрыл глаза, Клив сел, отбросил одеяло и соскользнул с койки. Мальчик ответил не сразу. Прежде чем он вполне понял, что произошло, Клив пересек камеру и прижал его спиной к стене, зажав рот Билли ладонью.
— Нет, не выйдет, — прошипел он. — Я не собираюсь последовать за Лоуэллом.
Билли боролся, но Клив был намного сильнее его физически.
— Он не появится сегодня ночью, — сказал Клив, уставившись в широко раскрытые глаза мальчика, — потому что ты не станешь звать его.
Билли стал сопротивляться еще яростнее, он крепко укусил противника за ладонь. Клив инстинктивно убрал руку, и мальчик в два прыжка оказался у окна. В горле его зазвучало странное пение, на лице выступили неожиданные и необъяснимые слезы. Клив оттащил его прочь.
— Прекрати шуметь! — рявкнул он.
Но мальчик продолжал свое.
Клив ударил его наотмашь, но крепко, по лицу.
— Заткнись! — приказал он.
Но мальчик отказался прервать пение, и мелодия обрела другой ритм. Клив бил юношу снова и снова, но не мог заставить замолчать. В камере слышался шорох — менялась атмосфера, темнота сгущались. Тени двигались.
Паника овладела Кливом. Без предупреждения он сжал кулак и крепко саданул мальчика в живот. Когда Билли согнулся пополам, апперкот достал его челюсть. Голова отклонилась назад, затылок столкнулся с кирпичом. Ноги Билли подогнулись, и он рухнул Вес пера, подумал Клив, и это было так. Два хороших удара кулаком, и мальчишка отключился.
Клив оглядел камеру. Движение теней прекратилось, хотя они и дрожали, словно борзые, ожидающие команды. С колотящимся сердцем он отнес Билли на его койку и уложил. Ни признака возвращения сознания! Мальчик безвольно лежал на матрасе, пока Клив разрывал простыню, делал кляп и всовывал его в рот Билли, чтобы не позволить вымолвить ни звука. Затем он стал привязывать Билли к койке. Он использовал свой собственный ремень и ремень мальчика, дополнив их самодельными веревками из разорванных простыней. Работа заняла несколько минут.
Когда Клив связывал ноги Билли, тот зашевелился. Глаза его, полные изумления, открылись. Затем, осознав свое положение, он начал мотать головой из стороны в сторону — единственное движение, возможное в его положении. Так он выражал протест.
— Нет, Билли, — прошептал Клив и набросил одеяло поверх связанного тела, чтобы скрыть происходящее от надзирателя, который мог заглянуть в глазок до утра. — Сегодня ночью ты не позовешь его. Все, что я сказал тебе, правда. Он хочет уйти, и он использует тебя, чтобы сбежать. — Клив сжал руками лицо Билли, так что пальцы вдавились в щеки. — Он не друг тебе. Друг — я. И всегда был им.
Билли старался освободить голову от хватки Клива, но не мог.
— Не трать силы зря, — посоветовал Клив. — Ночь впереди долгая.
Он оставил мальчика на койке, пересек камеру, подошел к стенке, соскользнул по ней, уселся на корточки и стал, наблюдать. Он будет бодрствовать до восхода солнца, а потом, когда появится хоть какой-то свет, предпримет следующий ход. Но сейчас он удовлетворен — медь его тактика сработала.
Мальчик прекратил сопротивление, он ясно понял, что связан слишком умело и не сумеет освободиться. Затишье наступило в камере: Клив сидел на пятачке света, падавшего через окно, мальчик лежал во тьме на нижней койке, равномерно дыша носом. Клив взглянул на часы. 12.45. Когда наступит утро? Он не знал. Впереди не менее пяти часов. Он откинул голову и уставился на свет.
Свет завораживал его. Минуты текли медленно и равномерно, а свет не менялся. Иногда вдоль этажа проходил надзиратель, и Билли, заслышав звук шагов, вновь начинал двигаться. Но в камеру никто не заглядывал. Двое узников остались наедине со своими мыслями: Клив размышлял, наступит ли время, когда он сможет освободиться от тени за спиной; Билли обдумывал что-то свое — мысли, которые приходят к связанным монстрам А время шло, минуты глухой ночи проходили сквозь разум, подобно веренице послушных школьников, наступающих друг другу на пятки. Когда миновала шестидесятая минута, итог назывался часом и рассвет становился чуть ближе, не так ли? И на столько же ближе становилась смерть, и на столько же — конец света, тот роскошный Последний трубный глас, о котором трепетно говорил Епископ: когда он прозвучит, из-под газона поднимутся мертвецы, свежие, как; вчерашний хлеб, и пойдут встречать своего творца. Сидя у стены, прислушиваясь к дыханию Билли, наблюдая за светом на стекле и за стеклом, Клив точно знал: даже если он избежал ловушки, то лишь временно; эта долгая ночь, ее минуты, ее часы были предвкушением другого долгого бодрствования. Клив почти отчаялся; он почувствовал, что душа его погружается в пропасть, откуда нет возврата. Это и есть реальный мир, убивался он. Без радости, без света, без предвидения; только ожидание в неведении, когда нет надежды даже на страх, ибо страх долетает издалека вместе со снами, чтобы исчезнуть с ними. Пропасть глубока и туманна Клив глядел из бездны на свет в окне, и мысли его соединились в один порочный круг. Он забыл о койке и о мальчике, лежащем на ней. Он не чувствовал, что его ноги онемели. Он мог бы забыть и о дыхании, если бы не запах мочи, раздражавший его ноздри.
Клив поглядел на Билли. Мальчик опорожнил мочевой пузырь, но это действие было знаком чего-то еще. Тело Билли под одеялом двигалось так, словно ему не мешали путы. Несколько мгновений ушло на то, чтобы Клив стряхнул с себя летаргию, еще несколько — чтобы понять происходящее. Билли изменялся.
Клив попытался встать, но его ноги затекли после слишком долгого сидения на корточках. Он чуть не упал поперек камеры и удержался, лишь вытянув руку и схватившись за стул. Глаза его приковались к мраку на нижней койке. Сложность и размах движений нарастали. Одеяло упало на пол Тело Билли было неузнаваемо: ужасная процедура, уже известная Кливу, теперь шла в обратном порядке. Вещество собиралось в клубящиеся облака возле тела и сгущалось в отвратительные формы. Конечности и органы не поддавались описанию, зубы в форме игл заняли свое место, громадная голова все еще разбухала. Клив умолял Билли остановиться, однако с каждым вдохом человеческого — того, к чему можно взывать, — оставалось все меньше. Сила, какой недоставало мальчику, была дарована чудовищу: оно уже разорвало почти все путы, а теперь на глазах Клива освободилось от последних и скатилось с койки.
Клив попятился в сторону двери, глазами ощупывая трансформированную фигуру Билли. Он вспомнил ужас, какой его мать испытывала перед уховертками, и различил черты названного насекомого в образовавшемся организме. Тварь выгибала блестящую спину, выставляя шевелящиеся внутренности и разлинованный живот. Никакой аналогии для описания этого существа не подобрать. Голова его изобиловала языками, которые чисто вылизывали глаза, отчасти выполняя функцию век, и бегали туда-сюда по зубам, непрерывно увлажняя их. Из сочащихся дыр вдоль боков исходило канализационное зловоние. Тем не менее даже теперь в нем был запечатлен некий остаток человеческого — намек, лишь увеличивающий омерзительность целого. Глядя на крючки и шипы чудовища, Клив припомнил нарастающий вопль Лоуэлла. Он ощутил пульсацию собственного горла, готового испустить такой же крик, если зверь повернется к нему.
Но у Билли были другие намерения. Он двинулся — конечности в боевом порядке — к окну, взобрался туда и прижал голову к стеклу, как пиявка. Мелодия, воспроизводимая им, не походила на прежнюю песню, но Клив не сомневался, что это тот же призыв. Он повернулся к двери и стал колотить в нее. Он надеялся, что Билли слишком поглощен своим делом и не повернется до того, как явится помощь.
— Быстрее! Бога ради! Быстрее! — Клив завопил громко, насколько мог, и тут же взглянул через плечо, чтобы увидеть, не идет ли к нему Билли. Нет, тот не приближался — он все еще висел, прилипнув к окну, хотя песня его почти стихла. Цель была достигнута. Тьма властвовала в камере.
В панике Клив повернулся к двери и возобновил старания. Теперь кто-то бежал по этажу, он слышал крики и проклятия из других камер.
— Ради бога, помогите! — кричал он.
Он ощущал озноб. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что происходит сзади. Тень росла, стена растворялась, чтобы город и его обитатель могли пройти насквозь. Тейт уже тут. Клив ощущал присутствие — явилось нечто огромное и темное Тейт-детоубийца, Тейт-трансформер, Тейт — тварь из тьмы. Клив стучал в дверь, пока руки его не начали кровоточить. Казалось, раздающиеся шаги отделены от него целыми континентами. Куда они направляются? Куда?
Холод за спиной превратился в порыв ветра. Клив увидел свою тень, отброшенную на дверь мерцающим голубым светом, почуял песок и кровь.
А затем раздался голос. Не мальчика, а его деда, Эдгара Сен-Клера Тейта. Этот человек провозгласил себя экскрементом дьявола; когда Клив услышал его омерзительный голос, он поверил и в ад, и в его владыку. Поверил, почти попав в кишки Сатаны, став свидетелем его чудес.
— Ты слишком любопытен, — сказал Эдгар. — Пора тебе отправляться в постель.
Клив не хотел оборачиваться. Последнее, что промелькнуло в его голове: он должен обернуться и посмотреть на говорящего. Но он больше не был повелителем собственной воли. Пальцы Тейта забрались в его голову и шарили там. Клив повернулся и посмотрел.
Висельник был в камере. Он не походил на тварь, которую видел Клив, на лицо из бесформенной массы лиц. Он был здесь, во плоти, одетый по моде другой эпохи, но не без изящества. Его лицо оказалось хорошо вылепленным, лоб широкий, глаза пристальные. Он все еще носил обручальное кольцо на пальце той руки, что гладила склоненную голову Билли, как гладят дрессированного пса.
— Время умирать, мистер Смит, — произнес он.
За дверью Клив услышал крик Девлина. У него не осталось дыхания, чтобы ответить. Но он слышал скрежет ключа в замке, или то была иллюзия, созданная разумом, чтобы рассеять панику.
Крохотная камера полнилась ветром. Ветер перевернул стул и стол, поднял в воздух простыни, похожие на призраков из детских страхов. Он подхватил Тейта, а вместе с ним и мальчика, засасывая их обратно в удаляющийся город.
— Теперь пошли, — требовал Тейт, и лицо его разлагалось. — Нам нужен ты, телом и душой. Пойдем с нами, мистер Смит. Мы не хотим, чтобы от нас отказывались.
— Нет! — закричал Клив, обращаясь к своему мучителю. Засасывающий воздух вытягивал его пальцы, его глазные яблоки. — Я не…
Сзади загремела дверь.
— Я не пойду, слышишь!
Дверь внезапно распахнулась и бросила его вперед, в круговорот тумана и пыли, что уносила прочь Тейта и его внука. Клив двинулся с ними, но чья-то рука схватила его за рубашку и оттащила от черты, когда сознание уже отказало ему.
Где-то вдали Девлин засмеялся, как гиена. Он сошел с ума, решил Клив, и меркнущий разум вызвал образ мозгов Девлина, исходящих через рот, подобно стае летучих собак.
Он проснулся во сне; и в городе. Проснулся и вспомнил последние секунды сознания, истерику Девлина, руку, удержавшую его, когда две фигуры перед ним уже засосало. Он последовал за ними, словно не мог допустить, чтобы его оцепеневший разум не вернулся знакомым путем в метрополию убийц. Но Тейт пока еще не выиграл. Присутствие здесь Кливу лишь снилось. Физическая его сущность пребывала в Пентонвилле; это давало себя знать на каждом шагу.
Он прислушался к порывам ветра Они были, как всегда, красноречивы: голоса приходили и уходили с каждым дуновением, но никогда, даже если ветер замирал до шепота, не исчезали совсем. Когда он прислушался, он различил крик. В немом городе звук становился потрясением, он спугнул крыс из нор и птиц с какой-то укромной площадки.
Заинтересованный, Клив следовал за звуком, чье эхо почти оставляло след в воздухе. Когда он спешил по пустым улицам, он слышал все больше громких голосов. Мужчины и женщины появлялись из дверей и окон своих камер. В их лицах не было никаких общих черт, чтобы подтвердить выкладки физиономистов. У убийства столько же лиц, сколько преступлений. Единственной общей чертой была сломанная душа, отчаявшаяся после десятилетий, проведенных на месте преступления. Клив рассматривал их на ходу, и ответные взгляды смущали его, не позволяя понять, куда он идет. Потом Клив обнаружил, что опять находится в гетто — сюда его заманил ребенок в одном из прошлых сновидений.
Теперь он завернул за угол и в конце тупика, знакомого по предыдущему визиту — стена, окно, комната в крови, — увидел Билли, скорчившегося у ног Тейта на песке. Мальчик был наполовину собой, наполовину тварью, в которую превратился на глазах Клива. Лучшая часть содрогалась, пытаясь освободиться от второй половины, но безуспешно. На мгновение тело мальчика распрямилось, белое и хрупкое, но только для того, чтобы в следующий миг смениться другим в непрерывном потоке трансформации. Это рука, напрочь оторванная, прежде чем выросли пальцы? Или лицо проявляется на сосуде со множеством языков, что служит твари головой? Картина не поддавалась анализу. Едва Клив различал нечто узнаваемое, как оно исчезало.
Эдгар Тейт прервал свое занятие и оскалил зубы на Клива. Ему могла позавидовать акула.
— Он усомнился во мне, мистер Смит, — произнесло чудовище. — Он пришел искать свою камеру.
У бесформенной массы на песке вдруг открылся рот, чтобы издать резкий крик, полный боли и ужаса.
— Теперь он хочет быть подальше от меня, — продолжал Тейт. — Ты посеял сомнение. Он должен выстрадать последствия. — Тейт направил дрожащий палец на Клива, и конечность монстра изменилась, плоть стала мятой кожей. — Ты пришел туда, куда тебя не звали, так гляди на мучения, которые ты принес.
Тейт пнул тварь у ног. Она перевернулась на спину, изрыгая блевотину.
— Я ему нужен, — сказал Тейт. — И у тебя хватает духа на это смотреть? Без меня он пропал.
Клив не ответил висельнику, а вместо того обратился к зверю на песке.
— Билли, — позвал он, вызывая мальчика из череды непрерывных изменений.
— Пропал, — повторил Тейт.
— Билли, — снова окликнул Клив. — Послушай меня…
— Он уже не вернется, — проговорил Тейт. — Тебе это только снится. Но он здесь, во плоти.
— Билли, — настаивал Клив. — Ты слышишь меня? Это я, Клив.
Услышав свое имя, мальчик на миг приостановил круговые движения. Клив снова и снова звал его.
Один из первых навыков, какой приобретает человеческое дитя, — откликаться на собственное имя. Если что-то и могло подействовать на Билли, это его имя.
— Билли… Билли…
Тело опять перевернулось.
Тейт, похоже, чувствовал себя неуютно. Его самоуверенность улетучилась. Тело темнело, голова стала походить на луковицу. Клив старался отвести глаза, не глядеть на искажения анатомии Эдгара Тента, а сосредоточить все силы на том, чтобы вызвать обратно Билли. Повторение имени приносило плоды — тварь подчинялась. Каждую минуту появлялось все больше черт мальчика. Выглядел он жалко, кожа да кости на черном песке. Но лицо его почти восстановилось, и глаза глядели на Клива.
— Билли?..
Он кивнул. Волосы его прилипли ко лбу, конечности свело.
— Ты знаешь, где ты? Кто ты?
Сначала сознание будто покинуло мальчика. Затем, постепенно понимание затеплилось в глазах, и одновременно с пониманием пришел ужас перед человеком, стоящим над ним.
Клив глянул на Тейта. За последние несколько секунд, пока Клив не смотрел на убийцу, голова и верхняя часть туловища старика почти утратили человеческие черты, обнаружив разложение более глубокое, чем у его внука. Билли посмотрел через плечо, как избиваемая хлыстом собака.
— Ты принадлежишь мне! — произнес Тейт, хотя органы его теперь едва ли были приспособлены для речи.
Билли увидел тянущееся к нему чудовище и попытался приподняться, чтобы избежать объятия. Но он был слишком медлителен. Клив увидел, как заостренный крюк тейтовской конечности охватывает горло Билли и подтягивает мальчика к себе. Кровь брызнула из разрезанного в длину дыхательного горла, а вместе с ней — свист вырывающегося воздуха.
Клив завопил.
— Со мной, — проговорил Тейт. Слова превращались в тарабарщину.
Внезапно тупик наполнился светом. Мальчик, Тейт и город поблекли. Клив пытался удержать их, но они ускользали, а на их месте проявлялась иная реальность: свет, лицо, голос, вызывающий его из одного абсурда в другой.
Рука доктора, холодная и влажная.
— Что же такое тебе снится? — спросил этот идиот.
Билли исчез.
Из всех тайн, с которыми столкнулись той ночью в камере Б.3.20 начальник тюрьмы, Девлин и другие надзиратели, наиболее обескураживало исчезновение Уильяма Тейта. Камера не была взломана. О видении, заставившем Девлина смеяться безумным смехом, ничего не говорили — легче поверить в коллективную галлюцинацию, чем в объективную реальность случившегося. Когда Клив пытался пересказать события той ночи и предыдущих ночей, его монолог, прерываемый слезами и паузами, встречали притворным пониманием, но глаза отводили. Он пересказывал свою историю несколько раз, не обращая внимания на их снисходительность, а они внимали каждому слову, пытаясь отыскать среди его безумных бредней ключ к разгадке фокуса Билли Тейта — фокуса, достойного Гудини. Не обнаружив ничего, что продвинуло бы расследование, они начали раздражаться. Сочувствие сменилось угрозами. Они настаивали. Голоса, задававшие один и тот же вопрос, раз от разу становились громче.
— Куда исчез Билли Тейт?
Клив отвечал то, что знал:
— Он в городе. Понимаете, он убийца.
— А его тело? — спросил начальник тюрьмы. — Где, по-твоему, его тело?
Клив не знал, он так и сказал об этом Через некоторое время, то есть всего четыре дня спустя, он стоял у окна и наблюдал за работой садоводческого наряда. Тут он вспомнил о газоне. Он отыскал Мэйфлауэра, опять сменившего Девлина в блоке Б, и сообщил офицеру о том, что пришло ему в голову.
— Он в могиле, — заявил Клив. — Он со своим дедом Дым и тень.
Гроб выкопали под покровом ночи, соорудив сложную загородку из жердей и брезента, чтобы скрыть происходящее от любопытных глаз. Лампы, яркие как день, но не такие теплые, освещали работу тех, кто вызвался участвовать в эксгумации. Предположение Клива озадачило всех, но иной, даже самой нелепой разгадки этой тайны не было. Потому они собрались у неприметной могилы и стали ворошить землю, которая выглядела так, будто ее не тревожили на протяжении полувека. Там были начальник тюрьмы, группа чиновников министерства внутренних дел, патологоанатом и Девлин. Один из докторов полагал, что навязчивые галлюцинации будет проще излечить, если больной увидит содержимое гроба и уверится в ошибочности своих теорий; поэтому он убедил начальника тюрьмы, что Кливу также следует находиться среди зрителей.
В гробу Эдгара Сен-Клера Тейта обнаружилось мало нового для Клива. Тело вернувшегося сюда убийцы (возможно, как дым?) — не вполне зверь и не вполне человек. Оно сохранилось, как и обещал Епископ, словно казнь только что свершилась. Гроб с ним делил Билли Тейт: голый, будто дитя, он лежал в объятиях дедушки. Тронутая тленом конечность Эдгара все еще вонзалась в шею Билли, и стенки гроба потемнели от запекшейся крови. Но лицо мальчика не было испорчено.
— Как куколка, — заметил один из докторов.
Клив хотел возразить, что у кукол не бывает следов слез на щеках и такого отчаяния в глазах, но не смог подобрать слов.
Клива освободили из Пентонвилла три недели спустя, после специального постановления коллегии, по истечении лишь двух третей положенного срока. Через полгода он возвратился к единственной знакомой ему профессии. Но надежда, что он избавится от снов, оказалась недолговечной. Город все еще был внутри него, пусть не столь ясный и легко достижимый теперь, когда исчез Билли, чей разум открывал доступ туда. Однако присутствие действенного и могущественного ужаса по-прежнему томило Клива.
Иногда видения почти уходили. Понимание этой зависимости заняло несколько месяцев: сон возвращали люди. Если Клив проводил время с человеком, у которого было намерение убивать, город возвращался обратно. Такие люди встречались нередко. Когда чувствительность к смерти, разлитой в воздухе, обострялась, Клив едва мог передвигаться по улицам. Потенциальные убийцы были повсюду. Люди надевали нарядную одежду и с радостными лицами шагали по тротуарам, на ходу воображая смерть своих работодателей и их семей, звезд мыльных опер и неумелых портных. Весь мир затаил убийство в душе, и Клив больше не в силах был этого вынести.
Только героин давал некое освобождение от груза переживаний. Клив никогда не делал внутривенных инъекций, но наркотик скоро стал для него небом и землей. Однако это было дорогим удовольствием, а человек, чьи профессиональные контакты постоянно сужаются, едва ли способен платить. Парень по имени Гримм, приятель-наркоман (он столь отчаянно бежал от реальности, что мог поймать кайф и от скисшего молока), предложил Кливу выполнить некую работу, которая принесет вознаграждение и удовлетворит его аппетиты. Вроде бы стоящая идея, Клив согласился. Плата за работу казалась слишком высокой, чтобы человек, так нуждающийся в деньгах, от нее отказался. Работой, конечно, было убийство.
«Здесь нет гостей, только будущие жители», — так сказали однажды Кливу. Он уже не помнил, кто сказал, но он верил в пророчества Если не совершить убийства сейчас, это лишь вопрос времени и он убьет позже.
Все детали убийства оказались ужасающе знакомы, однако Клив не предвидел подобного стечения обстоятельств. Он бежал с места преступления босиком, перебирая голыми ногами по тротуарам и гудрону шоссе. Когда полиция загнала Клива в угол и пристрелила, ступни его были окровавлены и готовы ступить на улицы города, точно как в сновидениях.
Комната, где он убил, ожидала его. Он прожил там несколько месяцев, прячась от любого, кто появлялся на улице. (Клив судил о времени по отрастающей бороде, поскольку сон приходил к нему редко, а день — никогда.) Потом он грудью встретил холодный ветер и вышел на окраину города, где дома исчезали и начиналась пустыня. Клив шел, не глядя на дюны, прислушиваясь к голосам. Звуки не смолкали, поднимаясь и опадая, словно вой шакалов или детей.
Он оставался здесь долго, а ветер сговаривался с пустыней, чтобы похоронить его. Но плоды ожидания не разочаровали Клива. В один из дней (или лет) он увидел мужчину: тот пришел на край города, бросил ружье в песок, а затем побрел в пустыню, и вскоре те, что подают голоса, вышли ему навстречу. Они бежали вприпрыжку, безумные, дикие, танцующие на своих костылях. Они окружили мужчину, смеясь, и он пошел с ними. Расстояние и ветер застилали дымкой картину, но Клив не сомневался, что видел, как один из них подобрал человека, поднял на плечи, словно мальчика, а потом передал в руки другого. Так продолжалось до тех пор, пока на пределе всех чувств Клив не услышал вопль мужчины, снова выпущенного в жизнь. Клив побрел прочь, удовлетворенный: он наконец узнал, как грех (и он сам) явился в мир.
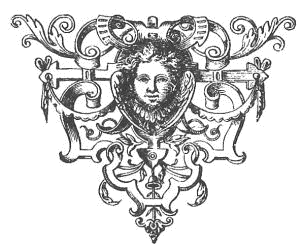
Назад: Дети Вавилона (пер. с англ. М. Красновой)
Дальше: Книга крови VI

