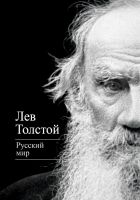Вместо заключения
Верность своему народу…
Мой отец сохранил глубокую преданность наших предков иудаизму Впрочем, кроме Шабата (известно, что в этот день запрещается и охотиться, и скакать верхом), он соблюдал основные праздники, освященные религией евреев скорее из уважения к традиции, нежели из истинной религиозности. Он присутствовал на службе в Рош-а-Шана, Йом-Кипур и в пасхальные дни… Накануне Йом- Кипура особенно следил за моим поведением; после ужина, последнего перед постом, мы пешком шли в синагогу на улице Виктуар, я надевал черный костюм, белый галстук и высокую шляпу. Люди на улице смотрели на нас с удивлением.
Конечно, отмечали мою бар-мицву, своего рода первое причастие. По этому случаю была устроена пышная церемония, и помнится, что, распевая молитвы, я от страха фальшивил.
Еще я вспоминаю седер — ужин накануне Пасхи (праздника, посвященного исходу евреев из Египта в 1500 году до нашей эры), когда собиралась вся семья. Я испытывал волнение, читая наизусть «Ма Ништана», но лишь смутно чувствовал символический смысл различных обрядов, сопровождавших эту церемонию.
Посреди стола перед главой семьи раскладывались различные предметы, каждый из которых что-то символизировал: кость ягненка служила напоминанием об агнце, принесенном евреями в жертву накануне дня, когда произошла десятая казнь египетская; три «полных» мацы — лепешки из муки без дрожжей, называемых также пресным хлебом, — в память о спешном бегстве евреев, преследуемых египетским фараоном; горькие травы, например хрен, напоминают о горечи жизни евреев в египетском рабстве; тесто, приготовленное из протертых фиников и инжира и воскрешающее в памяти известковый раствор, который месили евреи-рабы, строившие пирамиды; и наконец, яйцо — оно не имеет ни начала, ни конца, это сама бесконечность, вечность, надежда на вечное возрождение жизни.
Седер — это еще и благоприятный случай собраться всем вместе за веселым и добрым праздничным столом. Мы хором пели ликующий гимн, славящий Бога, аллел (от этого слова произошло слово «Аллилуйя»). После этой трапезы в течение восьми дней ели только пресный хлеб.
И конечно, начиная с моей бар-мицвы, я все детство соблюдал пост во время Судного дня.
Мой отец чувствовал себя ответственным за еврейскую общину. Всю свою жизнь он возглавлял главную еврейскую организацию Франции — Центральную Консисторию, и с начала гитлеровских гонений в Германии он отдал много сил для помощи беженцам.
Обязательное правило, которое вошло в плоть и кровь моих родителей и которое повторялось при каждом удобном случае, — это запрет жениться на женщине неиудейской веры или не готовой эту веру принять. И если позднее я отошел от этих наставлений, это значит, что они не стали основой модели поведения, заложенной в юности.
С усилением в предвоенной Франции антисемитизма, вызванного примером Германии и разжигаемого ненавистью к Народному фронту, ко мне пришло чувство ответственности за моих единоверцев, как это всегда было в моей семье.
Действия правительства Виши и статус евреев еще более обострили это чувство активной солидарности; кроме того, все чаще становились известными ужасы преследования и травли евреев и судьба евреев, заключенных в нацистские концлагеря.
И вот я вновь в синагоге на улице Виктуар через несколько недель после освобождения Парижа. Впервые за четыре года я пришел на праздник Йом-Кипур. Народу в синагоге было мало, там и здесь виднелись свободные места. А те, кто находился в зале, только недавно вышли из своих убежищ. Я представил себе лица тех, кто должен был быть среди нас, но кого больше не было, чьи места оставались пустыми… Живые словно соседствовали с призраками мертвых. Меня охватило волнение. Было во всем этом что-то странное, сверхъестественное, ирреальное, что-то хватающее за душу и жуткое. Кровавое напоминание об «ужасе ужаса».
* * *
По примеру американских еврейских организаций и с их помощью сразу после войны у нас было организовано объединение, в функции которого входило руководство всей социальной и культурной жизнью нашей общины и ее финансирование. Эта организация называлась «Объединенный еврейский социальный фонд» (О. Е. С. Ф.), ее первым президентом был Леон Мейс, прекрасно проявивший себя на подпольной работе во время войны. Через два или три года это место унаследовал я. Я занимал этот ответственный пост в течение более тридцати лет, вплоть до апреля 1982 года.
О. Е. С. Ф. объединял евреев, принадлежавших к разным политическим, религиозным или культурным течениям, и это было важно, чтобы поддержать единство, сохранить равновесие всех тенденций и, в особенности, для наблюдения за тем, чтобы все важные решения обсуждались большинством членов общины и отвечали общим интересам. Будучи на этом посту в течение столь долгого времени, я подчас сталкивался с проблемами, которые выходили за рамки жизни общины как таковой и касались трудностей политического характера, когда требовалось вмешаться и ратовать то за активные действия, то за умеренность.
Так, например, в 1955 году один католический священник вызвал всеобщее возмущение своим отказом вернуть семье Финали их двоих детей, которых он спас во время войны; несомненно, он хотел их обратить в католическую веру. В моем окружении в этом увидели начало новых гонений на евреев, и я приложил все, какие только возможно, усилия для того, чтобы охладить столь несвоевременный пыл моих коллег. Я сделал заявление, на которое впоследствии многократно ссылались. Я призывал не обвинять в ритуальном похищении человека, спасшего детей от ритуального преступления. Я всячески поддерживал Каплана — Главного раввина Парижа, который очень искусно вел переговоры с католическими иерархами, поставленными в трудное положение и растерявшимися, — в результате детей вернули в их родную семью.
Большим событием начала 60-х годов стало массовое возвращение во Францию ста пятидесяти тысяч евреев из Алжира (не считая тех, кто приехал из Марокко и Туниса). Социальный фонд должен был мобилизовать людей и средства, чтобы их принять, обустроить и облегчить их интеграцию в экономическую и культурную жизнь страны. В 1967 году усиливающееся напряжение между Израилем и Насером мне ясно показало, что, выступая против военного решения конфликта, де Голль готовится к смене политического курса, до сих пор ориентированного на традиционный франко-израильский альянс. Считая своим долгом действовать, я один отправился в субботу (накануне начала военных действий) в Елисейский дворец, чтобы встретиться с Этьеном Бурен де Розье, ответственным секретарем канцелярии президента. Елисейский дворец казался пустым, но вскоре я узнал, что Генерал находится в своем кабинете, так как он прервал нас парой реплик, попросив своего сотрудника зайти к нему. Я объяснил, что если я правильно понимаю намерения де Голля, то мой долг предупредить его о возможности вполне определенной реакции еврейской общины. Тогда все помнили, что де Голль ничего не сделал, чтобы признать пусть скромное, но особое место евреев во французском мартирологе; что он не присутствовал на открытии восстановленной синагоги в Страсбурге; что, несмотря на мою настойчивую просьбу, он не почтил своим присутствием церемонию открытия памятника Неизвестному еврейскому мученику. Теперь этот перечень увеличится, сказал я моему удивленному другу, который мне пообещал все передать Генералу. Но де Голль ничего не сделал и на этот раз, он называл еврейский народ «самоуверенным и властным», что сути дела не меняло.
В том же году во время кризиса, предшествовавшего Шестидневной войне, я пытался убедить тогдашнего премьер-министра Жоржа Помпиду, что закрытие Тиранского пролива, каким бы маловажным он ни казался как морской путь, наверняка создаст для Израиля ситуацию «казус белли», то есть явится поводом к войне. Когда военные действия уже начались, Помпиду дал разрешение министру вооруженных сил Пьеру Мессмеру задержать введение в действие эмбарго, чтобы осуществить последние поставки оружия Израилю, который в тот момент полностью зависел в этом от Франции. Тогда же я узнал, что план израильских операций изучался вместе с французским Главным штабом, который ежеминутно следил за его развертыванием и заранее информировал министра об ожидаемых действиях.
* * *
Что же касается политической позиции Жоржа Помпиду по отношению к Израилю и его личных чувств, то об этом я писал в короткой статье, опубликованной в газете «Лё Монд» в апреле 1974 года через несколько дней после его смерти:
«<…> Мы очень много говорили с ним о Ближнем Востоке и об Израиле, и я сожалею, что мнение еврея он либо неправильно понимал, либо неправильно интерпретировал. Либералу по природе, ему была неведома любая нетерпимость, он не антисемит, и это его кредо. Так, только утих его гнев, вызванный недружелюбной демонстрацией евреев Чикаго, он сразу позаботился о том, чтобы показать, что он не испытывает никакого озлобления по отношению к французским евреям и что «Если их сердца переживали за Израиль, то это были французские сердца».
Его симпатии были на стороне Израиля, и в ходе Шестидневной войны он, насколько мог, задержал вступление в силу эмбарго, которое Кэ д Орсе хотело ввести непосредственно перед тем, как его официально обнародовал де Голль. И в то же время, воспитанный историей и классицизмом, Жорж Помпиду не понял горячей страсти сионизма, не уловил романтики революционного содержания эпохи, которая с 1945 по 1948 год вела к еврейскому освобождению и независимости Израиля. Серьезный и здравомыслящий политик ожидал, что Израиль поведет себя, как старая держава. Не имея возможности следить за событиями в Израиле, определяющими жесткость народа, лишь недавно обретшего независимость, Помпиду был шокирован рядом инцидентов…
В области внешней политики Жорж Помпиду разделял убежденность де Голля в том, что Израиль, окруженный арабскими странами с населением несравнимо более многочисленным, не сможет выжить, опираясь на силу, но лишь проводя политику соглашений и компромиссов. По его мнению, ни средств, ни времени не следовало жалеть, чтобы достичь этого, и он рассчитывал, что Израиль проявит столько же выдержки и самообладания, сколько вынуждена была проявить Франция по отношению к народам своих бывших колоний.
Уроки войны Судного дня не противоречат такому взгляду на вещи, и если Жорж Помпиду недооценил невыносимое нервное напряжение, навязанное Израилю, то я уверен, причиной тому не отсутствие симпатии к этой стране и не безразличие к ее будущему. <…>»
Предвыборная президентская кампания 1981 года и серия серьезных антисемитских акций, таких как кровавое нападение на синагогу на улице Коперника, приведшее к человеческим жертвам, вызвали резкие выступления группы еврейских активистов. Они упрекали руководство общины в слишком снисходительной позиции по отношению к властям. Они были вправе так говорить, но я считал эту критику несправедливой. В то же время эта группа призывала голосовать против правительства, срок полномочий которого истекает, и пыталась создать еврейское лобби. Наконец, она демонстрировала безусловную поддержку всех действий Израиля, вызывая раздражение даже тех, кто Израилю симпатизировал. Если, как это случилось после акции на улице Коперника, такого рода покушения будут поводом для шествий с израильскими флагами, то это может оттолкнуть многих евреев — горячих защитников
Израиля, но при этом желающих оставаться французами и не желающих, чтобы их считали израильской колонией, проживающей в Париже. Речь не идет о том, чтобы скрывать наши чувства или не оказывать поддержку Израилю, а лишь о том, чтобы независимые и ответственные граждане могли свободно выражать собственное мнение и сохранять свою национальную идентичность. В этой связи я должен был еще раз публично заявить о взвешенной позиции французских евреев.
После нападения на синагогу на улице Коперника много говорили об антисемитизме во Франции, сравнивали нашу страну со странами Восточной Европы, обвиняя власти в создании благоприятного климата для усиления подобных тенденций. И здесь тоже критику нельзя считать справедливой. Мало кто знает, что еврейские школы во Франции субсидируются государством, ведь этого почти нигде нет; еще более поразительный факт: прохождение военной службы в Израиле освобождает от воинской обязанности во Франции.
И если, к несчастью, к антисионистским акциям палестинских экстремистов присоединяются всплеск неонацизма или выходки красных террористов во Франции, то в этом Франция не одинока.
* * *
Как никто другой, моя семья испытала на себе проявления антисемитизма, в особенности во время дела Дрейфуса. Дрюмон в своей газете «Да Либр Пароль» от души потешался над этими событиями. Я приведу всего лишь две или три из его нападок — первые пришедшие на память. Известно, что мой дед Альфонс де Ротшильд по собственной воле отказал своему лучшему клиенту — России, не желая сотрудничать с режимом, виновным в кровавых погромах. Дрюмон расценил это выражение солидарности как «позорный поступок»: «… Ротшильды не остановились перед предательством. Они преследуют одну только цель: помочь своим единоверцам в России».
Самые легкие оскорбления антисемитского толка касались «жалкого» происхождения моей семьи («потомки старого коробейника, за которым с лаем бежали собаки, когда он проходил по деревням… потомки грязного старьевщика из Франкфурта»). И тут же бессовестные рассуждения о нашем «чудовищных размеров» состоянии («их громадные капиталы, как тысячи пиявок… Мировые банки сегодняшних Ротшильдов, куда набиваются состояния королей и народов»).
Рассуждения об извечной ненависти иноземца («варварская жестокость немецкого еврея, хищного и прожорливого») подкреплялись презрительным утверждением о мифическом могуществе золота: «Апатрид Ротшильд — хозяин «Банк де Франс», он имеет больше власти, чем министры, чем Президент Республики, чем сам Парламент».
Как видим, все темы затронуты, впрочем, вариантов не так уж много!
Но есть кое-что получше. Ненависть слепа и не боится противоречий: «Ротшильд был в Общине так же, как он был среди оппортунистов, как он был среди анархистов, среди социалистов, как он был везде»! Ненависть даже не боится выглядеть смешной: когда история не в силах снабдить Дрюмона хоть каким-нибудь обвинением в предательстве, он вовсе не отчаивается. Нельзя найти ни единого следа Ротшильдов в Панамском скандале — одном из самых громких финансовых скандалов XIX века? «Их нельзя найти просто потому, что они были настроены враждебно по отношению к Панаме (!) А враждебно к Панаме они были настроены потому, что эти немецкие евреи всегда и во всем против Франции»!
Антисемитизм играет столь важную роль в истории евреев, что они не могут удержаться, возможно, не без известной доли мазохизма, чтобы не сохранить несколько особенно наглядных сувениров. Я, например, взял в рамочку карикатуру Сема, на которой изображены мои дед и бабушка, Альфонс и Лори, старые, сгорбленные, одинокие, прогуливающиеся по тротуарам Довиля, напротив пляжа, усеянного пустыми стульями. Это было во время дела Дрейфуса, и карикатурист показал своим рисунком, что при приближении моих родных все разбегались, чтобы не здороваться с ними.
Робер Бадентер как-то дал мне номер «Ла Либр Пароль» за декабрь 1905 года, статьи которого, написанные, легко догадаться в каком тоне, были посвящены памяти моего деда Альфонса, названного там «Золотым королем». Вопреки всякому здравому смыслу я храню и этот документ тоже под названием «сувенир», если так можно выразиться.
В целом моя семья всегда занимала сдержанную позицию в отношении сионизма, и мой дедушка Эдмон действовал в одиночку, оказывая евреям Палестины значительную поддержку, скорее, впрочем, из гуманитарных и религиозных, нежели политических соображений.
Потрясение, вызванное войной и истреблением шести миллионов евреев, радикально изменило все прежние позиции. Само понятие «родина евреев» приобрело огромную эмоциональную значимость, я сам стал страстным сионистом, но не предполагал в связи с этим менять свою судьбу и судьбу моих близких. Само слово «сионист» вводит в заблуждение, поскольку обозначает как сторонника государства Израиль, так и человека, твердо решившего эмигрировать в эту страну.
В 1945 году я отправился в краткую поездку на Ближний Восток; мне поручили собрать и сообщить свои наблюдения. В Иерусалиме Бен Гурион, любивший во всем точность, спросил меня, а это была наша первая с ним встреча, сионист ли я. Видя, что я медлю с ответом, он уточнил:
— Вы хотите здесь воспитывать вашего сына?
Сожалея, что разочарую его, я ответил отрицательно, и причина была понятна.
Я провел две недели в Палестине и посетил различные еврейские поселения, в частности, побывал во многих киббуцах. Каждый из них имел свои характерные черты, политические или географические, и, хотя руководство это отрицало, я встретил много проявлений нетерпимости, например, нежелания принимать в киббуцы выходцев из других стран. Вместе с Артуром Кёстлером, который тогда только приехал в Палестину, я праздновал первый вечер Пасхи — седер — в киббуце эмигрантов из Югославии. Это киббуц Эйн Гев, расположенный на берегу Тибериадского озера.
С нами был молодой человек по имени Тедди Коллек — знаменитый мэр Иерусалима, и наша с ним долгая дружба началась здесь, среди толпы, танцующей хору.
Во время этой же поездки я заехал в Каир, где познакомился с одним очень компетентным и интересным человеком, офицером разведки. Он поделился со мной своими пессимистическими прогнозами относительно интересов Франции в этом секторе земного шара.
Возвращение на самолете заняло три дня, с учетом промежуточных посадок в Бенгази, Тунисе, Алжире; я учитываю также разницу во времени и скорость. Вернувшись, я написал отчет департаменту министерства, которое организовало мою поездку. В этом отчете я изложил важную и во многом прозорливую информацию, полученную в Каире, и мои собственные наблюдения. Я показал, почему мне кажется очевидным, что в самом ближайшем будущем Франция потеряет Сирию и Ливан. Никого это не взволновало, если вообще кто-нибудь читал мой отчет. Через несколько недель события подтвердили изложенные мной предположения, и лишь одно это обстоятельство принесло мне некоторое удовлетворение.
Я рассказал моим английским друзьям из Лондона о том восторге, который я испытал в киббуцах, где, как мне показалось, удалось, отменив деньги, дать людям всю полноту свободы и счастья. Бесспорно, эмоциональный опыт имеет ценность, к сожалению, только в определенных и весьма ограниченных обстоятельствах. Тогда сионистская мечта вполне соответствовала израильской действительности — я увидел национальный очаг для еврейского народа, общество справедливости и равноправия, порыв первопроходцев, вдохновенный поиск новых ценностей. Отрицательные аспекты этого начинания проявились только позднее…
* * *
С этого времени борьба евреев, выживших в войне и стремящихся строить свою новую жизнь в Палестине, становилась все более впечатляющей. Я следил за этой борьбой, принимая все ее перипетии близко к сердцу, и, как многие другие, с горечью переживал трагические события истории, например, Исход.
А однажды я получил возможность в этой борьбе участвовать. Андре Блюмель, прежний руководитель кабинета Леона Блюма, с которым меня связывала дружба, попросил меня помочь ему спасти Лею Кнут, разыскивавшуюся за терроризм. Я охотно выполнил его просьбу и с той поры поддерживаю отношения с этой женщиной, которая теперь ведет тихую жизнь почтенной матери семейства.
День, когда Израиль в мае 1948 года объявил о своей независимости, мы с Алике встретили с радостью в колонне демонстрантов; мы шли по Елисейским Полям рука об руку с госпожой Мендес Франс, которую случайно увидели здесь же.
Евреи всего мира чувствуют себя связанными с судьбой Израиля, его безопасностью, его репутацией. Это государство играет важнейшую роль в нашей способности преодолеть «комплекс еврея», укоренившийся в нас за две тысячи лет антисемистских гонений. Всю свою жизнь еврей несет особый груз, тяжкий груз; он рождается с сознанием, что многие его презирают, что он может услышать унизительные суждения в свой адрес, суждения, оскорбляющие его порядочность, его национальную принадлежность. И не стоит пожимать плечами и говорить, что не нужно обращать внимания на своих недругов, — каждый хочет, чтобы его уважали, принимали, любили, а если выпадет случай, то и восхищались им. Каждый еврей знает, от какой ненависти и от каких преследований страдали его собратья в прошлом и продолжают страдать сейчас, подвергаясь каре за преступления, которых никогда не совершали.
Декларация Независимости Израиля, рождение еврейского государства, появление собственного дома у еврейского народа, конечно, привели к тому, что евреи Палестины обрели национальную независимость, но не они одни — психологически, в душах своих обрели национальную независимость миллионы евреев диаспоры. Они почувствовали себя свободными от некоего врожденного порока, приписываемого им многие века. Евреи и впредь еще будут страдать от обидных проявлений антисемитизма, но отныне ему будет труднее сломить их моральный дух. Мы, евреи диаспоры, гордимся израильтянами, их мужеством, их военной мощью. После веков преследований и унижений перед лицом всего мира утверждаются честь и достоинство евреев. Теперь мы менее уязвимы для неприязни и враждебности, для сомнений в том, как нас воспринимают другие, для страха перед злым роком, который вновь будет нас преследовать. Израиль — это не наша страна, его знамя — это не наше знамя, но Израиль самим своим существованием освободил основную, глубинную часть нашего «я». И чтобы осознать всю силу наших эмоциональных связей с этим маленьким народом и с тем, что он символизирует, стоит лишь на миг представить себе наши страдания и отчаяние, если Израиль будет уничтожен.
Молниеносная победа, которой закончилась Шестидневная война, коренным образом изменила отношения Израиля с остальным миром. Через несколько дней после этой победы я ужинал с четырьмя пожилыми господами, настроенными весьма реакционно. Они ликовали! Они злились на де Голля, не могли ему простить независимости Алжира, и теперь они, наконец, взяли реванш, отплатили арабам — это помогли им сделать израильтяне! Все средства хороши, чтобы утолить непримиримую ненависть.
Ягненок стал львом, слабый проснулся сильным. Те, кому предрекали самое худшее, вышли победителями, и их победа казалась легкой, красивой и впечатляющей. Евреи, и в особенности израильтяне, встретились с ситуацией абсолютно новой и непредвиденной. Спустя несколько недель после победы в 1967 году приехала в Париж моя сестра Бетсабе, которая живет в Тель-Авиве. Я помню, как она рассказывала:
«Израиль должен незамедлительно уйти с Западного берега Иордана. По двум причинам: во-первых, вот уже две тысячи лет евреи терпят гнет со стороны большинства народов, которые живут в непосредственной близости от них, и мне кажется, что это только навредило бы чести и достоинству Израиля, если бы его армия или его власти сегодня взяли бы на себя ту же роль и выступили угнетателем, против которого неизбежно поднимется волна сопротивления.
И вторая причина. Израиль — это маленькая страна, которая всегда в большей или меньшей степени будет зависеть от Соединенных Штатов или любой другой сильной, индустриально развитой страны. И если однажды Западу надоест враждовать с арабами и он перестанет оказывать поддержку Израилю, то этой стране ничего не останется, кроме как вернуться в свои границы и вновь испытать унижение, о котором его заставила забыть блистательная победа над арабами.
Я бы еще добавила, что если современная мораль и давление общественного мнения не позволили Соединенным Штатам использовать все необходимые средства, чтобы победить Вьетнам, то на что может рассчитывать Израиль?»
* * *
То же самое я сказал Даяну, который воспринял это как пощечину, и Леви Эшколу — тогдашнему премьер-министру, который в течение часа пытался меня переубедить. Он говорил, что ценит важность моих аргументов, но не может проводить другую политику. Я утверждал, что если хоть один арабский солдат (в тот момент это мог быть только иорданец) проникнет на Западный берег Иордана, достаточно будет единственной израильской части, чтобы восстановить порядок.
Тогда Леви Эшкол, меняя тему разговора, задал мне вопрос: если предположить, что Жорж Помпиду займет место де Голля в Елисейском дворце, последуют ли перемены в политике Франции? Я объяснил ему, почему ни одно французское правительство не сможет изменить свою политику на Ближнем Востоке: нашей стране прежде всего важно поддерживать добрые отношения с правительствами североафриканских стран, чтобы исключить появление враждебных Франции военных баз поблизости от нашего средиземноморского побережья. Когда были опубликованы его посмертные записки, я прочитал об этой части нашей беседы и о том разочаровании, которое он испытал, услышав мои прогнозы. События следующих лет их подтвердили.
Я был настолько убежден, что, продолжая оккупацию правого берега Иордана, Израиль подвергает себя серьезной опасности и наносит вред как своей дипломатии, так и чисто психологически, лишая себя поддержки стран и народов, ранее ему сочувствовавших, что в шутку посоветовал Леви Эшколу заручиться помощью арабского министра иностранных дел, чей пропагандистский талант явно превосходил его собственный талант еврея!
Если бы Израиль решительно вывел свои войска с правого берега Иордана в то время, когда Организация освобождения Палестины (ООП) еще не имела особого влияния, он дал бы всему миру уникальный пример нравственности и высоты духа. Каждый еврей инстинктивно хотел видеть в действиях правительства Израиля пример соблюдения этических норм. Но как бы там ни было, не евреям диаспоры диктовать израильтянам, какую политику им проводить, и только те, чье выживание поставлено на карту, имеют право участвовать в принятии жизненно важных решений, касающихся будущего своей страны.
Леви Эшкол умер через два месяца после нашей встречи. Премьер-министром Израиля стала Голда Меир, которая, при всем уважении к ее добропорядочности и уму, ни на шаг не продвинулась в решении этой проблемы.
Уже в другой раз будучи в Израиле, я присутствовал на обеде в Кнессете, и один парламентарий в своей речи рассказал об инциденте, в ходе которого палестинцы, вторгшиеся на территорию Израиля, были выдворены. И он добавил с каким-то самодовольством, которое меня ужаснуло: «Это покажет всему миру, как Израиль поступает с арабскими террористами». Я решил ответить ему и после обычных выражений благодарности за прием и комплиментов попросил его также показать миру, как Израиль обращается с арабскими не-террористами. Уходя, я услышал, как этот парламентарий сказал своему соседу: «Я не знал, что Ротшильд — коммунист».
Честно говоря, я тоже этого не знал! Палестинский вопрос — это ужасная головная боль Израиля и — увы! — доказательство того, что оккупировать так же тяжело, как и быть в оккупации. Рекомендовать какое-то решение, когда столько светлых голов ничего не могли придумать, было бы несерьезно и самонадеянно, но как еврей, я очень хочу верить, что Израиль найдет мудрое и благородное решение, не поступаясь собственными жизненно важными интересами. Евреи счастливы, когда Израиль поступает благородно, но, увы, чувствительность не имеет ничего общего с политикой, и это не тот цветок, которому вольготно цвести на берегах Иордана.
* * *
В течение двух тысячелетий евреи возносили молитвы о возвращении в Иерусалим — один из самых прекрасных городов мира. Этот город с незапамятных времен олицетворяет их прошлое, а сегодня, став местом, где находятся правительственные учреждения, став символом демократической власти, Иерусалим олицетворяет национальный суверенитет еврейского народа. Здесь святыня Яд Вашем хранит для вечности память о Холокосте; этот грот, мрачная обнаженность которого одна достойна принять и сберечь память о миллионах жизней, оборвавшихся в муках, страданиях, скорби и ужасе. Мучительное волнение охватывает меня всякий раз, когда я там бываю.
Ничто в жизни евреев никогда не проходило гладко; и короткая история государства Израиль не является исключением. Какой еще стране, едва родившись, выпало участвовать и победить в трех войнах за тридцать лет; принять и интегрировать в жизнь общества такое количество эмигрантов, которое пятикратно увеличило его население; создать опирающееся на науку сельское хозяйство и промышленность, одну из самых высокотехнологичных в мире!
За эти несколько лет Израиль сумел преодолеть кризис роста, и из убежища эмигрантов превратился в страну со зрелой демократией, способной вести, порой в очень трудных условиях, мудрую политику сдержанности и терпения.
Теперь от него требуют еще большего — найти такой необычный взгляд на вещи, который бы оправдал риск отдать свою судьбу, саму возможность выжить в руки агрессивных соседей, положиться на добросовестность тех, кто не перестает вынашивать планы уничтожения Израиля, и когда Израиль не решается это сделать, то встречает только непонимание и раздражение со стороны тех, кто сами никогда не выполняют то, о чем проповедуют.
Надо ли говорить о том, что требования к «избранному народу» должны иметь предел? И эти требования должны учитывать его судьбу…
Назад: Дела семейные
На главную: Предисловие