Новая Земля
Спас-Чекряк
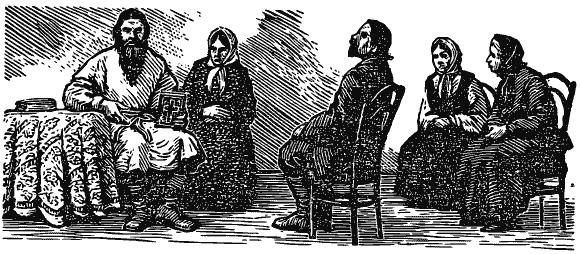
Брань, широкая, как море, и звучная, как лес на горе! Это православный народ бранит того, кому, по всеобщей народной уверенности, одному живется весело, вольготно на Руси. Спросите первого встречного крестьянина, каков у них поп, и почти всегда получите один и тот же ответ: «Грабитель!» И до того уж мы привыкли к этому, что и не удивляемся дикому сочетанию слов: священник – грабитель. Русская жизнь вообще так богата устоявшимися противоречивыми формами, что для того, чтобы видеть, необходимо постоянно, как молитву, твердить себе: «Я – не здешний, я вижу и слышу все это в первый раз, удивляюсь, удивляюсь…»
Заговорив себя так, войдите в семью ругаемого попа, осмотрите его жалкую обстановку, прислушайтесь к ропоту матушки.
– Nicht standes gemuss,– скажете, вообразив себя иностранцем из немцев.
А зависть народная этому «житью» беспредельна, ни с чем не сравнима… Удивительное противоречие!
Но это что! Вот дальше, когда вы задумаетесь с батюшкой и матушкой о судьбе их детей. Сыновья священника получили духовное образование и все хотят сделаться ветеринарами. Они предпочитают скромнейшее место лекаря животных завиднейшему, по мнению народа, положению священника. Они делают это не по идейному разрыву «отцов и детей». Напротив, бегство детей – чисто стихийное, и сам батюшка тут же вам и объяснит, что есть две причины сему пагубному явлению: первая – это материальная необеспеченность духовного лица, а вторая – дурное отношение к нему общества. В таких условиях скромнейшее место ветеринара является желанной целью.
Народ выживает попа, конечно, вовсе не потому, чтобы в нем не нуждался. И на место ушедшего образованного вступает, конечно, другой, из низшей среды, с более простыми инстинктами. Этому помогают наверху. Устраиваются даже какие-то облегченные, чуть ли не четырехлетние, курсы для этих новых людей.
Такова общая схема; но если спуститься вниз, в частности, какие тут запахи! «Зверь со свежим чутьем тут с ума бы сошел», – как сказал один счетчик последней петербургской переписи, спускаясь в подвальные этажи какого-то окрайного дома в столице.
Зато какая же должна быть личность священника, если и в такой обстановке его деятельность получит всеобщее народное признание, если каждый крестьянин с величайшим уважением отзовется о нем, если вы сами, воображающий себя иностранцем, чтобы не притупить чутье, – вы, неверующий и сомневающийся во всем, – в этом случае скажете: «Вот настоящий, цельный человек, каких мало теперь в городах».
Я говорю об отце Георгии из села Спас-Чекряк и хочу передать здесь свои впечатления не в назидание другим пастырям, а просто с этнографической точки зрения, как когда-то приходилось говорить о певце былин, встреченном на Крайнем Севере, на острове одного дикого лесного озера.
* * *
Священник отец Георгий, или, как называет его народ, отец Егор, пользуется теперь в народе почти такой же известностью, как некогда старец отец Амвросий. Некоторые говорят, что оптинский старец «угадывал» лучше, но другие уверяют, что и этот все видит, а кроме того, у отца Егора «молитвенный дар» – служит хорошо. С этой(оценкой, конечно, не согласятся люди, причастные к культу отца Амвросия, но мы говорим здесь в условиях живой действительности. Отец Георгий имеет и прямое отношение к оптинскому старцу: от него он получил благословение и поставление жить в глухом селе Чекряк, в одном из самых бедных приходов Волховского уезда. Отец Георгий – не монах, как старец Амвросий, а до сих пор обыкновенный священник и всю жизнь свою провел в миру, в обыкновенных условиях, что, с одной стороны, лишает его обычного ореола подвижника, но, с другой – ставит его ближе к тому (и таких людей очень много на Руси и из простого народа), кто не очень обольщается ореолами прошлого.
Дело отца Георгия все на виду. Тридцать лет тому назад он поступает в маленький, беднейший приход Волховского уезда, в сорока верстах от железной дороги. Церковь в селе Чекряк была деревянная, завалюшка, похожая на часовню. Отношение населения, конечно, – обычное: у попа глаза завидущие, руки загребущие. Жизнь – почти нищего, и очень понятно, что матушка молодого священника ропщет.
Теперь, через тридцать лет, над тем «ровочком», где до сих пор стоит церковь-завалюшка, далеко виднеется великолепный каменный храм, возле храма стоит трехэтажное здание приюта для крестьянских детей и небольшая больница, недалеко от села – еще одно прекрасное здание – школа для подготовки сельских учителей; в уезде есть еще несколько школ, построенных тем же отцом Георгием; есть даже два или три имения, доходы с которых идут на развитие образовательного дела в крестьянской среде. Сам отец Георгий живет теперь не в лачуге, как раньше, а в хорошем доме с большими светлыми окнами; у счастливой матушки на дворе гуляют стада кур и всякой другой птицы. Никому из народа, однако, и в голову не придет попрекнуть батюшку его благоустроенной личной жизнью; напротив, пишущему это не раз приходилось слышать похвалу, что священник и сам живет хорошо, умеет жить. Дело священника все на виду; советы – советами, служба – службой; а вот еще храм, приют, школы, имения, доходы с которых идут на общественное дело. Да и советы его – не какие-нибудь, а самые житейские и дельные. Не только крестьяне советуются в своих немудреных делах, а купцы, помещики, весь целиком город Волхов ведет свои дела по указанию священника; управа присылает свои сметы.
– Как это мог он? Кто ему помогает? – спросишь, изумленный этой цельностью человеческой личности.
– Кто помогает? Бог, – отвечает так просто крестьянин, что кажется, будто бог – совсем обыкновенный старик и живет он тут же, в селе Чекряк, под соломенной крышей.
Самое же главное, самое удивительное – это не в зданиях, устроенных отцом Георгием, и не в том, что управа с ним советуется, а своя собственная уверенность в том, что есть какая-то точка, где глас народа есть действительно глас бога, и что уж тут никакой не может быть фальши.
* * *
Многочисленных паломников, направляющихся в Спас-Чекряк через Белев, так наставляют:
«Встань до зари, иди по Волховской дороге, к полудню дойдешь до Зайцева. Уморишься – отдохни, запоздал – переночуй. Ночевать везде вольно. От Зайцева спросишь дорожку и придешь, где три земли сходятся: Тульская, Калужская и Орловская. Отсюда недалеко в ровочке и будет тебе отец Егор».
Село Спас-Чекряк возле трех земель – соломенное, но не такое, как другие соломенные деревни: не самотканая одежда у мужиков, не старинные головные уборы у баб, а что-то еще невыразимое дает тон селу, и, когда придешь сюда, кажется, будто из парка в лес попал или с дачи в имение. «Ровочек», о котором говорят, – неглубокая балка, покрытая редким лесом; по ней протекает ручей, и первое, что встречаешь здесь, это – колодец под деревянной крышей на круглых столбах. Тут все паломники останавливаются и непременно запасаются водой. Бутылку из-под казенного вина, – ту самую бутылку, за которой, может быть, вчера сидел муж, выпивал и колотил жену, – теперь женщина наполняет святой водой и потом подходит с ней к отцу Егору.
– Для чего водица? – спросит священник.
– От мужа, батюшка: муж дерется, – ответит женщина…
Когда я подходил к этому месту, пел соловей, лозина, береза и орех распустились, дуб, липа и осина стояли еще черные. Три женщины отдыхали возле колодца; у одной сарафан был в красных цветах, у другой – в белых, – девушка; третья была старуха, и сарафан у нее был в черных цветах. Купец, толстый, с большой четвертной бутылью, и молодой человек, рыженький, с пугливо бегающими глазками, сидели рядом с женщинами.
– Иду я по мужнину делу, – рассказала баба в сарафане с красными цветами, – муж гоняется за мной, убить хочет; не за себя боюсь – за ребенка. Так вот уйти собираюсь, бросить его.
– Ну, что же, – отвечает купец, – нынче можно, нынче слабо, чем тебе себя губить, благословись, да и с богом.
– А я иду по детскому, – объясняет купцу старуха, – сыновья хотят на хутор переходить, на участки, а я боюсь.
Девушка собирается замуж выходить. А сам купец «маленько винцом зашибает» и хочет дать обещание.
Журчит вода. Соловей поет.
– Живописное обозрение! – восклицает рыженький молодой человек.
– Вы откуда? – спрашивает его купец.
– Из Петербурга.
И рассказывает свою историю.
– Выпивал… И вдруг решился здоровья. Страх стал брать при работе. Бросил пить – страх не проходит. Пошел к докторам, а они говорят: «Ты здоров, иди и работай». Работаю – страх все не проходит. Последний доктор дал ландышевые капли. Пил много, безмерно пил, а страх усилился. Тут понял, что доктора не помогут, потерял веру в докторов и пошел к священникам. Обошел всех известных, и все говорят одно: «Ты здоров, иди и работай». А страх все не проходит. Теперь осталось испытать последнее: посоветоваться с отцом Егором.
– Отец Егор поможет, – сочувственно воскликнули все три женщины, – страх твой пройдет!
До молебна оставалось немного времени; все поднялись осмотреть отца Егора «заведение».
С мыслью о народном «прозорливце» всегда соединяется представление о черной рясе, о скудном, «богорадном и самоозлобленном» житии и всегда овладевает чувство неловкости. Потому, когда тут у отца Егора встречают нас сытые матушкины куры и дом, прекрасный, светлый, в котором так хорошо жить и работать, где все так дельно, разумно устроено и где нет следа юродства, – становится легко.
В согласии с домом священника развертывается и все остальное вокруг. Не случайностью кажется то, что приютские девочки, здоровые и веселые, одеты в красные кофты; не случайно то, что сестра, читающая Псалтырь богомольцам, – в кумачовом сарафане, и не случайно, что в этот светлый весенний день дети сажают между могилами старою кладбища яблони. Ни черных ряс, ни кликуш; вся масса народа, отдыхающая возле гостиниц на солнце, спокойна: пришли посоветоваться с отцом Егором.
Я любовался большой плотиной у пруда, которую целых три года в свободное время отец Егор насыпал вместе с детьми. Когда я услыхал сзади себя шум и оглянулся, около верхней ступеньки паперти виднелась большая седая голова, а за ней массой шел в церковь народ.
– У простого попа, – говорит народ, – дело самое легкое: раз махнул рукой, два махнул – и кончено. А у отца Егора трудно.
И в будни каждый день служит отец Георгий. И не как-нибудь служит, а от девяти до часу (молебен); после молебна, тут же, не выходя из церкви, он иногда часов до семи вечера дает свои советы. Час отдыхает и принимает к себе. Двери дома священника всегда открыты для всех. Кроме того, требы, всевозможные новые замыслы, постройки. Труд – немыслимый без особой веры в свое призвание. И лицо, и фигура отца Георгия соответствуют его кипучей деятельности. Лицо его – сильное, почти грозное.
И в церкви такая же простота и отсутствие всяких традиционных благолепных приемов. У отца Егора в будни нет помощников. Сам он подметает сор на полу, сам он наливает масло в лампады, ставит свечи, зажигает, и так еще до службы он привыкает к толпе и толпа к нему привыкает.
«Молитвенный дар», о котором все говорят, у отца Георгия состоит в том, что слова Священного писания, непонятные народу у других, здесь совершенно становятся ясными.
– Молитва терпкая, – говорит отец Георгий перед иконой божией матери. – Стена неколебимая… – И только занесет руку, чтобы перекреститься, – все уж в церкви, как один человек, крестятся. Склонит голову – все склоняют. Он подходит к каждому в церкви («Никого не пропустит, никого два раза не помажет!» – удивляются потом.) и каждого спрашивает, как его звать. Так обойдет он во время службы много раз: то, чтобы помазать, то с Евангелием, то с крестом. И так с ходом службы все больше и больше сживается народ с священником.
Странное и жуткое чувство охватывает, когда стоишь в толпе, верящей, что человек, который сейчас подойдет к молящимся, – не простой человек, а наделенный сверхъестественной силой знать судьбу каждого в прошлом, и настоящем, и будущем. Кажется, если бы на одну секунду поверить в это целиком, как верят все присутствующие в храме, так ужас такой охватил бы, что и убежал бы поскорее… И такая разница в психике! Все простые люди, как ни в чем не бывало, смиренно склоняют свои головы перед существом, знающим не только судьбу людей, но и животных, коров, лошадей, кур и всего, чем владеет крестьянин. Окончив молебен, отец Георгий уходит в алтарь и возвращается со святым копнем в руке и еще каким-то медным сосудом. Вот теперь-то и начинается самое главное, из-за чего и собралась вся эта толпа: советы отца Георгия.
Толпа теснится к амвону, где против открытых царских врат стоит священник. Уже протянулась чья-то рука с бутылкой воды.
– Для чего водица? – спрашивает, сливая воду со святого копия в медный сосуд, священник.
Робкие, невнятные слова верующей женщины и благословение: «Во имя отца, сына и святаго духа. В час добрый!»
Доходит очередь до знакомой мне женщины в сарафане с красными цветами.
– Для чего водица?
– Муж гоняется, – убить хочет.
– А ты поосторожнее, прячься…
– Батюшка, не за себя, за ребенка боюсь. Я уйти от него собираюсь, бросить его.
– В час добрый, – не колеблясь, говорит отец Георгий.
Женщина стоит пораженная, кажется, думает: «Как же так скоро судьба решилась», – и будто не верит ушам.
– В час добрый, – настойчиво повторяет священник. И видно по всему, что уж не первый раз он дает такой совет, что уж по долгому опыту у него составилось общее решение, и правда этого случая дошла до него теперь мгновенно, быть может, от какого-нибудь ему только слышного движения голоса этой женщины.
– В час добрый, – говорит он ей в третий раз и благословляет.
Подходит девушка-невеста, шепчет что-то свое…
– А сколько у него коров? Лошадь есть? Хорошая лошадь? А отец? Да ты его не знаешь. Узнай! Подожди. Узнай!
– Батюшка, корова скидывает.
– Вот тебе свечка.
– Курица…
– Покури ладаном.
Сотни пустяковых вопросов, и всегда неизменно ласковый ответ. Кто-то не решается на операцию, не верит докторам. Он говорит, что операция – легкая и докторам нужно верить. Бледная женщина подошла сзади, как евангельская кровоточивая, держится за край одежды. Он ей шепотом дает совет. По всему видно, что отец Георгий – не только умный человек и верующий, а и читает, следит за результатами науки.
Наконец, и женщина в сарафане с черными цветами добилась своего: спрашивает о своем земельном вопросе, – переходить ли ей с сыновьями на отруба.
Можно, конечно, вперед сказать, что отцу Георгию, как и всякому сельскому священнику, не очень-то хотелось бы посылать семьи на отруба. И он, видимо, без удовольствия отвечает женщине:
– Ведь это – не своя воля. Сыновья хотят?
– Сыновья.
– Это – не своя воля… Этого правительство хочет. Ну, что же… в час добрый!
Женщина чутьем угадывает неполноту ответа.
– Батюшка, – говорит она, – в нашем участке будет тридцать десятин.
– Ну, вот, чего же тебе… Прекрасно можно жить! В час добрый!
Старуха теперь отходит, довольная, к Другим, получившим советы и отдыхающим в церковных углах.
– Прекрасно жить будете, – делится она своей радостью, – будете прекрасно жить. И хорошо будет вам во всем. Так и сказал и благословил: в час добрый, переходите, переходите; этого и сыновья желают, и правительство.
А другие женщины в ответ ей рассказывают о своем и тут же творят для себя из этого «материала» свою собственную легенду, как и старуха с земельным вопросом. Если кому и неприложим к делу совет, тот помолчит, зато уж тот, кому верно вышло, – тот прославит отца Егора.
Про неудачу скажут раз, про удачу – тысячу раз, а из удач какая-нибудь самая большая – разукрашенная и расцвеченная, перейдет границу, где три земли – Тульская, Калужская и Орловская – сходятся, и пойдет гулять по всем другим землям, привлекая верующих.
* * *
Отец Георгий вышел из храма только часам к семи вечера. А дома у него были уже Болховские купцы и помещики со своими земельными и торговыми вопросами. Паломники расходились домой утешенными, с верой и надеждой в сердце, что теперь уж все обернется, бог даст, к лучшему. Один только не получил облегчения маловерный, что от страха к жизни сначала лечился ландышевыми каплями, а потом советами старцев. И странен, и жалок был вид этого фабричного рабочего, сокрушенного в своей новой вере и возвращенного в среду первоначально, детски верующих людей.
– Что же отец Егор вам посоветовал? – спросил я его.
– Да все то же: иди и работай, – ты здоров!
– И вы исполните?
– Я еще посоветуюсь в последний раз с отцом Михаилом в Дорогобуже, – тот, говорят, человек замечательный.
Такому маловерному отец Георгий не помог. Но… и сам Христос удалился в другое место, когда ему не верили.
В общем, от деятельности отца Георгия остается такое впечатление, что есть в ней какая-то живая черта, из-за которой не хотелось бы отнести ее в область седой старины вместе с причитанием воплениц и былинами северных певцов-рыбаков. Эту живую черту можно заметить и в Шамардиной пустыне, устроенной оптинским старцем Амвросием. Там и тут мы находим на одной стороне безотчетную народную веру как основу всего, а на другой – целый ряд разумных действий для просвещения того же народа; между тем и другим – цельная и высоконравственная личность проповедника. И кажется, что живая черта, отличающая Шамардину пустынь от других монастырей, и деятельность отца Георгия от подобных ему состоит в признании разума в религиозном деле. Вероятно, это-то и сделало то, что, как кто-то выразился, золото отца Амвросия от прикосновения к нему великих наших писателей, великих скептиков, не почернело.
О братцах
(Письмо из Петербурга)
1
Это было в день Рождества прошлого года. Тогда еще в Москве братцев не отлучали, и мы шли на собрание без всяких предвзятых мнений.
– Где тут братец живет? – спросили мы пожилую женщину.
– Зачем вам? – спросила она и, внимательно оглядев нас, как оглядывают простые русские люди, сказала: – Он вас не допустит, а если и допустит, то вы его бремя не выдержите.
– Нам, бабушка, только узнать бы…
– Узнать, – строго сказала она, – тут знать нечего.
И ушла своей дорогой.
Так часто в России, при первом сближении с народом на почве веры, получишь упрек за желание «знать».
Знать тут нечего, нужно только верить, а то не допустит. Но нас допустили. Мы, мужчины, сказали условный пароль: «Ищем трезвую жизнь», – а наши спутницы: «Хотим послушать слово божие», – и нас впустили.
Петербургский Лурд с виду не такой, как у Золя. Жалко выглядят только женщины, но и то не все. Мужчины, напротив, кажутся совсем не убогими. Но это только так кажется. Мужчины у братца почти исключительно бывшие и настоящие пьяницы. Это – те люди, которых мы все видим в столицах под вечер, люди, которых боятся барыни, на которых косится городовой, за которыми издали, боясь подойти близко, чтобы не получить затрещину, следят женщины, бледные, исхудалые, – жены пьяниц.
Все эти люди стекаются к братцу за помощью. С раннего утра и до четырех часов вечера они стоят на улице, перед входной дверью, длинной шеренгой, как перед театрами. В зале их помещается человек триста, и стоят они тут молча, прислонясь к стене или опираясь на длинный и узкий стол с евангельскими надписями. Точно не известно, когда явится братец и начнется проповедь. Женщины, встречаясь, целуются и чуть-чуть шепчутся.
– Все по семейному положению, – тихо рассказывает нам о себе и братце жена старшего дворника. – Я вся во скорбях, век скорбела от пьяницы. Придет, бывало, наряжу, как куколку, а наутро опять раздевается. Все пропил. Места лишили. Остались с малыми детьми без крова. Его посадили в острог. Тут я к братцу: «Помоги, братец, я вся во грехах». А он мне на это говорит: «Не бойся, Христос для праведников не приходил, тем и так хорошо, Христос приходил для грешников. Ну, рассказывай свое горе». Я ему все рассказала, как муж сбаловался и как в острог попал и остался без крова. «Ты, братец, – говорю, – ото всего можешь, я к тебе по вере пришла, помолись за меня». Он помолился и дал маслица, чтобы я ему в острожную пищу подлила. «Ты, – говорит, – ему дай». Я дала, и что же вы подумаете?
Дворничиха показала на своего мужа, и больше не нужно было рассказывать. Старший дворник, одетый, «как куколка», с расчесанными и смазанными волосами, был первый трезвенник во всем собрании.
– Маслице от всего, – зашептали сочувственно другие женщины, – маслице даже и скотинке помогает.
– Походите, походите, чудеса увидите.
– Глаза закрываются, вот какие чудеса!
– Братец все может: больных, хромых, убогих выправляет. Слепые прозревают!
– Ссыльные с дороги ворочаются!
– У нас все испытано. Походите. Походите, – увидите… – И совсем уже тихо, на ухо шепчут, как умирал генерал, и почти что умер, и опять воскрес по молитве братца. Показывают генерала, переодетого в штатское, и его молодую дочь. Перестают шептаться. Встают с лавок. Вот-вот явится братец. Теснятся ближе к помосту.
– Братец, как Моисей, его дела делает!
– Наплывает, наплывает народ.
Хотелось бы теперь быть в дремучем лесу, в часовне, заросшей мохом, там слушать проповедь и думать о таинственной жизни лесов. Но здесь, где гудит вентилятор и горят электрические лампочки и слышны звонки трамваев, в этом Петровском парке, где и грибы не растут, и птицы не поют – трудно отрешиться от культуры.
Он явился в яркой зеленой одежде. Возле него, не сводя глаз, стал юноша со светлой улыбкой и хор девушек в белых платках.
Поет все собрание: «Рождество твое…» А братец с блаженной улыбкой, весь пропитанный радостью, счастьем, вглядывается в толпу, словно нащупывая: нет ли тут каких-нибудь закаменелых людей, неспособных слиться с другими и отдаться ему. Когда кончили петь, он развернул Библию и стал читать плохо, торопясь и сбиваясь:
– Авраам родил Исака…
Ему было просто скучно читать.
– Долго… – остановился он. И улыбнулся по-детски.
– Кто кого родил… ну и родил… а вот есть же Евангелие?
– Есть, есть, дорогой! – ответили в толпе.
– Как он родился? Тут и Аврам и Сарры и Агары. Ну, и ладно… Родили дитю живую… и ладно.
– Родили, родили, дорогой!
– А можете ли вы родить живую дитю?
– Твоими молитвами, дорогой!
– С гармоньями, с балалайками да с пьянством?
– Прости, дорогой!
Братец развел руками и улыбнулся опять по-детски. Но там, в толпе, уже нарастало и подхватывало всех какое-то особенное чувство. Что это было? Для нас это было сознание, что между этой толпой пьяниц и бесконечно пропащих людей было лицо такое светлое, детское; трогала уверенность, что есть это лицо. Одна из женщин упала в истерике. Запели, чтобы заглушить вопль. И вынесли женщину. Братец продолжал говорить о рождении Христа.
– «Как же это так дева зачала без греха? Слыханное ли дело, чтобы женщина без греха зачала. Без этого не может родиться дитя». Кто так говорит?
– Научи, дорогой!
– Так диавол соблазняет. Ему неохота. Он хочет, чтобы женщина была не госпожой, а рабой, вот что ему нужно, вот зачем он спрашивает: «Может ли дева без греха зачать?» А вот же и без греха!
– Без греха, дорогой!
– Вот вы были хромые и убогенькие, а теперь выпрямились.
– Твоими молитвами, дорогой!
– Без хлеба сыты.
– Сыты, сыты, дорогой!
– Без вина пьяны…
– Напоил, напоил!
– Хорошо. Он родился, а волхвы идут. Звезда идет. Волхвы лягут спать. Звезда останавливается. Там!
– Там, дорогой!
С пением идут прикладываться к кресту. Братец дает каждому пузырек с маслом, ладан и медную монету. Становится, как и в церкви, когда все кончается. Напутствуя расходящихся, братец просит поменьше есть мяса в этот день.
– Скотина будет благодарна. Волы пашут. Корова молоко дает. А мы резать! Животное тоже понимает. Будут смотреть на вас. Примиритесь с животными и через животных с богом!
* * *
Вот точный список с наших впечатлений от рождественского собрания у братца. В этом же собрании нам указали одну домовладелицу, немку-лютеранку. Она как-то побывала из любопытства у братца, и ей понравилось. Увлеклась и стала ходить. Пастор узнал об этом и тоже явился на собрание.
– Ничего, – сказал он домовладелице, – продолжайте ходить, это – тип христианского праведника, сохранившийся еще в России. Продолжайте, это не мешает вам быть лютеранкой.
2. Не от мира сего
Я иду вдоль оврага по тропинке, пробитой исключительно людьми, имеющими дело с банком. По той же тропинке впереди меня идет девочка с большим мешком на плече; тяжесть не по ребенку: она то пойдет, то сядет. В мешке у девицы – бутылки с водкой, и тащит она их из «винополии» в шинок. Завтра – банковский день, съедется много народу, и водка необходима. округ кредитного товарищества кишат шинки.
Так сочетается в русских условиях жизни кооперация с винной монополией. Потребительское общество возникло здесь давно, еще до «забастовки». Один либеральный барин, большой земец, устроил общество при содействии «третьего элемента». К наблюдению были привлечены учителя, учительницы, помещики с женами, служащие в экономии. Но как ни хлопотали все, плут-продавец перехитрил, проворовался, и лавка закрылась до последнего времени. Кредитное товарищество имело подобную же судьбу: не только ссуды распределялись при помощи водки, но даже без бутылки вина, бывало, и свои-то собственные деньги назад ни за что не получишь; и так мало-помалу и товарищество запуталось и сошло на нет. Теперь я иду в село, потому что услыхал по своем приезде новости: кредитное товарищество будто бы процветает, а потребительское общество возрождается; и самое главное, самое для меня удивительное – что там и тут заведующими делами избраны баптисты. Быть может, в местах, где много сектантов и где к ним привыкли, и не удивительно, что население оценило их нравственную стойкость, но здесь, у нас, это поразительно. Наши сектанты – не какие-нибудь чужие, пришлые люди, что-то вроде «немцев», а здешние, всем известные Никита и Егор. Они изменились у всех на глазах. Никита был где-то на заработках и пришел домой баптистом. Егор, глядя на него, тоже, как говорят, «стал книжки читать и водку пить бросил». Чего-чего не пришлось испытать на первых порах сектантам: становой опечатал и увез у них Библию; священник придирался ко всему, чтобы их изгнать; население издевалось, чуждалось. И еще бы! «Эти люди угодников отменили, отказались от всего родительского». И вот теперь, спустя три года, я слышу поразительную новость: этих самых людей село выбрало на завидные и почетные должности и будто бы в связи с этим процветает кредитное товарищество и возрождается потребительское общество.
Кредитное товарищество – внутри села, в красной кирпичной избе. В маленьком человечке, склоненном над книгой, покрытой цифрами, я с трудом узнаю Никиту. Я привык его видеть или в доме в семье, где он по воскресеньям читает с домашними и объясняет им Библию, или же на поле всегда усердно работающим. Теперь он приспособлен к чуждому его натуре делу. Тут же стоят его серые, обыкновенные односельчане и глядят с раскрытыми ртами на пишущего. А ведь три-четыре года тому назад эти же мужики собирались для обсуждения вопроса об изгнании этих людей и чуть-чуть не изгнали; и было тогда так вообще, что приходило в голову: точно ли русский человек относится, как принято думать, терпимо к сектантам? Вот этот-то вопрос я и ставлю на обсуждение тут же, прерывая на несколько минут занятия.
– Вот с божьей помощью и выбрали, – говорит Никита.
– Раньше мы их боялись, – говорят мужики, – а потом привыкли, и они к нам прирусели, водки не пьют, не безобразничают, так и выбрали.
И все объяснение. Так бывало, когда приедешь на лето в чужое село, то все долго косятся, пока не привыкнут, а обойдется, – какое кому дело до убеждений, до верований приезжего. И, думается, что так, предоставленный самому себе, обошелся бы и всякий народ и везде. Тяжелый будничный труд – главное в деревне, а верования, убеждения – вопросы праздничные, имеющие значение для исключительных людей.
С этим согласны все в этой избе, где я своим приходом вдруг прервал обычное занятие.
– А костры инквизиции, религиозные войны? – спрашиваю я Никиту.
– Так то – времена, – отвечает он. – Их было семь времен. И было по времени семь церквей. Теперь же все мертвое. Но я закрою глаза и выйду.
– Куда выйдешь?
– Выйду к духу, верну свои утраченные права. А на все преходящее закрою глаза.
Никита сидит над цифрами развернутой счетоводной книги и рассуждает о вечном; серые мужики, которые пришли сюда по своим маленьким, «переходящим» делам, ничего не понимают, но слушают сочувственно.
– Трудное ваше дело, Никита Евдокимыч, – говорит один.
– Как поймешь, так нетрудно, – отвечает сектант, – то – белое, а то – черное.
– Как понять-то?
– Сразу: вот белое, а вот черное.
– Я пойму, а как же бабы-то, другая такая злодейка… Никита терпеливо объясняет:
– Не в бабе тут дело; сам поверишь, – баба поверит; тут сразу нужно, чтобы душа встрепенулась и пробудилась; закрой глаза на все остальное и увидишь; а это все здешнее – преходящее, на этом нам основываться нельзя.
Когда я возвращался домой по той же тропинке, где встретил девочку с водкой, возле глубокого оврага, разделяющего все село на две части, то совсем почему-то не испытывал чувства умиления перед терпимостью русского народа к людям других убеждений. Я чувствовал только досаду, что между людьми земли не нашлось ни одного честного человека и пришлось сделать заем у неба, выбрать для простого житейского дела человека не от мира сего.
3. Голгофское христианство
С одним моим знакомым случился «отрадный факт»: был приговорен к смертной казни и помилован. Он участвовал в каком-то военном бунте, начатом из-за дурной пищи. «На самом деле, – рассказывает он теперь, – „червей в мясе“ не было, а восстали так, вообще за правду». Религиозным он был всегда, но ожидание смертного приговора его поколебало в вере: настолько он не сомневался в правоте восставших. Он колебался в тюрьме… Помилованный, он поставил себе задачу: найти оправдание перед богом своему революционному гневу.
Он сделался баптистом из-за того, что в этой религии «есть хоть немножко протеста». Но баптизм его не удовлетворял, и напрасно пресвитер рассказывал ему об апостолах, которым всем было дано одинаково, но которые не все одинаково выполнили свою задачу. Он возражал на это тем, что каждый из апостолов все-таки сознавал всю полноту дела Христова. А баптизм он считал делом частично хорошим, удобным для семейной жизни и воспитания детей. В дальнейших своих исканиях он попал наконец в интеллигентские кружки.
Я помню, – он делал доклад в одном из таких кружков, – старался убедить нас, что царство божие должно быть на земле.
Большинство возникающих на наших глазах религиозных общин и всяких религиозных исканий в народе и в интеллигенции объединяет всеобщая тяга к земле и бунт против неба, забывшего «прокаженную» и поруганную землю. Лучшая жизнь у людей, лучшее будущее здесь, это – земля. Как на яркий пример такой народной религии, устремленной к земле, из вновь возникших сект я укажу на «Новый Израиль», а из культурных слоев вытекает «Голгофское христианство», идейным выразителем которого считается епископ Михаил.
На нашего докладчика о царстве божием на земле напали. Возможно ли, – говорили, – на такой прокаженной земле царство божие?
И что такое – эта земля, о которой все говорят, к которой все стремятся теперь, но все по-разному?
Искатель бога был смущен, больше не выступал с докладом и долго оставался в. тени. Я его встречал потом в народном университете, на лекциях по истории религий, и, наконец, совсем утерял из виду.
И вот теперь, направляясь в Белоостров, к епископу Михаилу, чтобы узнать от него о голгофском христианстве, я снова увидал на вокзале моего знакомого богоискателя.
Нашел ли он свою землю, нашел ли оправдание в боге своему бунту? Да. Он теперь спокоен. Он все нашел в христианстве Голгофы.
Мы едем вместе. И вот это небольшое путешествие в Финляндию, к «запрещенному» епископу. Незаплеванный вокзал. Опрятные вагоны. Дельные и вежливые проводники. И все это – после русских станций и полустанков, где я только что проводил по шести, по семи часов в ожидании поезда.
– Как просто то, что нужно делать в России, – сказал я своему спутнику.
И он так хорошо меня понял, улыбнулся, будто отдыхая от той сложности, куда завели его искания правды.
Но вот на границе Финляндии мы проходим мимо часового. Этот солдат на обратном пути будет шарить в наших карманах: не везем ли мы револьверы?
– Как трудно то простое, что нужно делать в России, – внесли мы поправку к прежним словам. Мы шли по глубокому снегу, по пустой улице, между занесенными дачами. И когда я представил себе, что где-нибудь тут, между этими покинутыми деревянными домиками, в холодной комнате, живет бывший профессор канонического права и теперь старообрядческий епископ, то все больше и больше приходили мне на память мои посещения отшельников в Ветлужских лесах. И эти массы засыпанных снегом дач вблизи огромного города оставляли по-своему не менее жуткое впечатление, чем заросшие мохом и заболоченные леса.
Ставя свои калоши в чьи-то следы, мы обошли одну дачу до черного хода. Прошли одну пустую комнату, холодную кухню; в третьей, в старообрядческом кафтане, у стола, покрытого бумагами, сидел епископ Михаил.
Он весь в своих думах и вздрагивает от чужой мысли, как от физического прикосновения. Монах двадцатого столетия. Один из немногих убежденных людей в России.
Епископ сам затопил печку, сам согрел самовар и начал свою беседу с нами.
Что же такое голгофское христианство и чем оно отличается от баптизма, толстовства, учения духоборов и, наконец, от христианства господствующей церкви?
Все эти исповедания, по мнению епископа Михаила, держатся на одной великой ошибке: они исповедуют, что Христос принес в жертву за мир кровь свою и с этой поры совершено искупление мира. Люди спасены. Им открыты двери рая, если они только впишутся в списки искупленных. Стоит только поменьше грешить и побольше каяться в благодарность Искупителю. Так верят все: и православные, и протестанты, и баптисты, и толстовцы. А Христос требует, чтобы каждый был, как он. Как он, принял Голгофу, взошел на нее. Почувствовал на своей совести зло мира, как свое дело, свое преступление, свой позор и принял на себя долг сорвать с жизни ее проказу. Христово христианство – постоянная Голгофа. Великое распятие каждого. Принятие на себя, в свою совесть всего зла, в котором лежит мир, ответственность за все, что жизнь разлагает, пятнает проказой. Искупление не совершено до конца. Мир еще не спасен. На Голгофе принесена только первая великая жертва за мир, величайшая жертва, как образец и призыв, как проповедь и великое действие слияния воли Христовой с волей человеческой. Церковное христианство думает, что Христос ушел от земли, чтобы строить на небе чертоги для праведных, что земля – только темная, грязная дорога на небо, которую надо скорее пройти, чтобы прийти туда. Нет! Христос – бог живых, на земле хочет создать царство свое, – для человечества, соединенного с ним. Для земли он умер, чтобы ее спасти, ее обновить, с нее хотел он снять древнее проклятие.
Эта основная мысль о земном Христе приводит епископа Михаила к целому ряду выводов, к которым мы вернемся в другой раз.
– Как такие «еретические» взгляды терпят старообрядцы? – спросил я епископа Михаила.
И получил от него совершенно новое и не ожиданное мной объяснение.
– Старообрядцы, – говорит епископ Михаил, – нетерпимы только в обрядах, которые в них входят, как и все природное, от отцов, бессознательно. Что же касается общих взглядов, то они очень терпимы…
Пробираемся домой между пустыми дачами. Во тьме огонек отшельника – все тот же узкий и тесный путь и все к тем же и еще большим страданиям…
«А если я не дан тебе? – вспоминается из Гёте. – Если отец хочет оставить меня у себя?»
Если я и так довольно страдал не по своей вине, неизвестно за что? Если даже заповедь «в поте лица своего обрабатывай землю» я не могу выполнить, потому что земля уже до моего изгнания занята, истощена и мои здоровые руки делают не свое, чужое дело?
И как поверить, что этот узкий, тесный путь новых страданий непременно приведет меня к светлой земле?
4. Земля нового Израиля
В прошлом году я был на именинах у пророка одной общины, близкой к тому, что известно обществу под именем хлыстовства.
Две худенькие, как восковые свечки, девушки провели меня к узкому длинному столу, уставленному тарелками с пряниками и орехами. По обе стороны этого стола сидели все такие же худенькие, изможденные девушки и женщины. Именинник был в углу возле столика, на котором стояла икона; он – черноглазый красавец великан в блестящих высоких сапогах и русском кафтане, немолодой, но кудрявый, с горящими глазами в темных впадинах. Нам всем подали чаю. Хозяин сделал какой-то знак девушкам, они запели тягучую церковную песнь. Потом хозяин особым языком – нелепой смесью славянского с новейшим газетным – долго говорил и пророчил о последнем времени, когда даже «все микроскопы» (микробы) замерзнут. Перед каждым стаканом чаю повторялось то же самое: церковное пение «ангелов», хозяин говорил «о двух психологиях»:
– Одна психология крови, – объяснил он нам, – а другая психология – просто чистый янтарь, постав божий… Окончив свою речь, он говорил:
– Теперь прошу по стаканчику чая, – и садился в угол к столику с иконой Михаила Архангела.
И вот вдруг, как-то неожиданно, из ряда многочисленных бывших на именинах гостей поднялся небольшой человечек с подвижным лицом и с какими-то неестественными манерами, со всякими штучками и ужимочками, и попросил у хозяина для себя и для своих дать спеть по-земному.
Хозяин очень поморщился, но из вежливости разрешил. И ясно было, что дело тут вовсе не в земной песне, а в чем-то другом, нам неизвестном. Грянула не то камаринская, не то «По улице мостовой». Вслушались мы. Ну, так и есть. Земного в песне был только мотив, а слова были все о тех же чистых янтарях, божественных сосудах и шествии Израиля. Напев же земной был избран для того, чтобы тут же и заявить о своей земной религии. Так и оказалось: после пения гость начал говорить против неба, обличать именинника, уверять его, что бог на земле. Говорил он совершенно для нас непонятно и с такими ужимками, с таким кривлянием, что красавец именинник прямо казался в сравнении с ним куполом небесным. Потом, после близкого знакомства с демонстрантом, оказалось, что он вовсе не то, что кажется, что он только будто земной человек, как и его песни только будто земные, только символы земли. Внутри же этого человека была какая-то огромная таинственная сила, такая страшная религиозная воля, направленная к этой будто бы земле, что раз одному образованному и верующему господину сделалось страшно: «Не черт ли это?»
Долго мы не могли понять ничего, чему учил этот пророк, и только после очень долгих и упорных усилий объяснилось учение «Нового Израиля», то учение, которое, выметая все небесное, обращается к земле. Сейчас мы увидим, какая это земля.
– Бога нет! – сказал он раз и стал, сличая библейские тексты, доказывать несообразность буквального понимания Священного писания.
– Может ли это быть! – стучал он, весь бледный, кулаком в стол. – Все это – выдумки досужих людей.
И поистине было что-то демоническое в этом человеке, когда он так говорил: это было не простое кощунство неверующего человека, а возмущение верующего по-своему.
– Он здесь, на земле, – открыл наконец пророк свою тайну. – Из нас всех Христос.
– Во всем Священном писании нет ни одной буквы неверной, но все это нужно понимать притчей.
– Некогда бог, сотворив природу, вошел в душу человека и с тех пор пребывает здесь, на земле, в душе человека.
– Священное писание есть накопленный опыт о боге, и понимать его надо иносказательно, переводя все на себя.
– Неба нет. Писание нельзя понимать буквально. Люди создали небо, обманывая других людей. Вся истина в человеке на земле и живущем в нем боге.
– Царство божие на земле.
Вот учение, которое по существу своему нового ничего не представляет и обще многим мистическим и рационалистическим сектам. Но вот где начинается нечто изумительное: когда, веруя в то, что царство божие на земле, веруя в каждую букву Писания, что оно есть программа для устройства царства божия здесь, – эти люди приступают к делу осуществления этого царства здесь.
Сотни тысяч людей объединяются верой в земного Христа, какого-нибудь даровитейшего и умнейшего Лубкова. И потом дальше все, как в Писании: и пророки, и Иоанн Креститель, и семьдесят равноапостольских мужей, и семь столпов небесного свода. Даже вся Россия поделена на семь частей света, имеющих свои наименования: 1) Верхняя страна Кем; 2) Нижняя страна Кем; 3) Великая Годаринская равнина; 4) Берега священного Нила; 5) Страна Римского отчуждения; 6) Великий Рим; 7) Палестина.
Тут и своя география:
Закавказье в честь альбигойцев называется «Южная Франция», Елисаветполь – Иерусалим, здесь гроб господний, город Бобров – Вифлеем.
Так создалось царство божие на земле. Пятьсот тысяч людей Старого Израиля и быстро растущая громадная армия Нового Израиля живут вместе с нами в той же России такой своеобразной жизнью, что страшно становится: ведь тут что ни шаг, то отживший миф и легенда, направленная в живую струю земной жизни, ведь это – не люди, а тени. Земля… Что же это такое? Земля – лозунг большинства новейших религиозных искателей. Но что же это такое – земля? Если это текучее творческое жизненное начало, то где же оно осуществляется?
Отклики на смерть Толстого
I
По нездоровью я должен был сидеть дома в меблированной комнате, дверью выходящей в коридор. На дворе – слякоть, в комнате – пасмурно, в коридоре – мрачно, как в тюрьме. И вот тут известие об уходе Толстого. Сразу стало светло.
«Значит, и в старости можно бежать, значит, это может сохраниться, эта детская Америка, превратиться на остаток дней во что-то большее…» – думал я.
Теперь, вот теперь, когда слякоть везде, старец поднимается и идет…
На глазах всего мира! Выдержит ли? Что, если вернется, что, если все окончится чем-нибудь маленьким?
Нет, никогда, что бы ни было, – у Толстого этого не может быть! Толстой не вернется. Никогда…
Вот это сознание, что Толстой уже не изменит, какой бы он ни был старый, но пошел и будет идти, с самого начала меня подхватило и несло к какому-то большому миру, в котором исчезают перегородки уж всяких меблированных комнат. И я встал и пошел в коридор с газетой, чтобы поделиться с первым, кто встретится, уверенный, что и все должны переживать то же, что и я.
– Хорошо уйти старику, вот если бы он раньше, молодой, ушел, – встречает меня голос.
Я прячусь назад в свою конуру, но господин с «Новым временем» в руках наступает.
– Если бы, – говорит он, – посмотреть на это с точки зрения сближения Толстого с церковью, это другое: зачем он был в Оптиной? Если бы его гордыня, его ницшеанство склонилось перед святым Серафимом. Если бы он ушел, чтобы помириться с православной церковью…
– Знаете, что тогда? – выскакивает дама из соседней комнаты. – Тогда Толстой обманул бы нас всех. Если Толстой так сделает, значит, ничего в России порядочного нет, – я за границу уеду.
– Сударыня… – идет к ней господин.
Но она перед самым его носом хлопает дверью и закрывается.
И я ухожу к себе. Стараюсь понять, почему же так разно действует на людей одно и то же событие, и мало-помалу мне представляется, что и должно так быть, что где-нибудь на Невском в электрических театрах и вовсе никакого действия на людей уход Толстого не окажет, что даже в своей собственной душе есть такие далекие от этого инстинкты. Тут одно: надо поставить вокруг себя ограду, чтобы не лезло ничто постороннее. «Уехал мириться с церковью…» – повторяю я про себя слова из коридора и припоминаю почему-то одного монашка, гостинщика из Оптиной пустыни, которому Толстой сказал:
– Примешь ли отлученного Льва?
– У нас всех принимают, – ответил этот монашек.
Я знаю и эту гостиницу, и этого монаха, я только что там был. Монах этот, худенький, постный, простой сердцем, – лучшее, что я находил в монастырях. Он принял меня ласково, и я, устроившись в нумере, отправился в скит старца Амвросия, куда и Толстой по приезде своем пошел. Тропинка в лесу. У корней высоких сосен – аллея калек и убогих. Колодец, скитская ограда в лесу, ворота. Изумительная тишина в скиту: вокруг скитского сада плотным кольцом сошлись сосны, шумят, а внизу, в саду, листик не дрогнет, бабочка спокойно порхает от яблони к яблоне, от осеннего цветка к цветку. Тут белая келья старца Иосифа, совсем будто могила. И тут-то постучался Толстой. Я не решился войти, мои помыслы были слишком земные и беспокойные, чтобы решиться войти. Я вернулся в гостиницу. Всенощная еще не кончилась. Тот постный монашек-гостинщик сидел на лавочке и рассуждал с приезжим купцом об игумене Варсонофии.
– Вот, – говорил купец, – полковник, а стал монахом, почему бы так?
– Может быть, война его оттолкнула от мира? – сказал я.
Монашек взволновался, напомнил мне об иноке Пересвете.
Я ему опять сказал о войне, кажется, привел пример из последней войны, настаивая, что война христианину не к лицу.
Монашек растерялся, задумался и вдруг, будто найдя ключ ко всему, сказал:
– А православие? Если не будем воевать, придут католики и завоюют.
И он сказал это так просто, так ясно, что спорить уж было и нехорошо, и видно было, что монашек начал подозревать во мне вовсе неверующего человека. Чтобы успокоить его, я подарил ему копеечных брошюр Почаевской лавры, и он с удовольствием принялся их читать вслух. Этот монашек, инок Пересвет, нерассуждающий, верующий смиренно и просто, мне вспоминается очень ясно.
– Примешь отлученного Льва? – сказал ему Толстой.
– Благословляю тебя на войну с католиками, как инока Пересвета, – отвечает монашек.
Возможно ли это?
Конечно, нет.
Лев Толстой и инок Пересвет несоизмеримы. Их разделяет не гордость одного и смирение другого, а разные ступени религиозного сознания. Так, перебирая свои впечатления из прошлого, я опять возвращаюсь к тому же: «Толстой пошел, Толстой не вернется».
Новое известие: Толстой заболел.
Минутное сомнение, и опять то же: умрет, но не вернется.
В наши комнаты приносят газету за газетой.
– Жив?
– Слава богу, еще жив.
В коридоре тихо. Чувствуется, что сходятся возле события концы всех мировых вопросов, что тут завязывается узел.
В последний день не принесли газет. Из коридора я услыхал рыдающий голос:
– Умер…
– Без покаяния умер? – ответил другой, грубее и черствее.
Тот голос зарыдал сильнее:
– Какое же покаяние, ведь он всего себя добру отдал!
II
Об этом, кажется, не писали в газетах, но так везде передавали друг другу в Петербурге: торжественное собрание соединенных Обществ не только не удалось, но и вовсе провалилось. Молодежь прямо говорит: «Пожар заливали». Ораторы с темпераментом, «интересные», отказались говорить в рамках, поставленных властями, а другие, почтенные общественные деятели и ученые, должны были выступать под великим страхом: чуть что скажешь лишнее или кто пикнет из публики – собрание закроют. В публике ходила легенда, что в случае насильственного закрытия собрания устроителям грозит какой-то огромный штраф в тысячи и тысячи рублей. В этой обстановке настоящей рабской (то есть грубо внешней) несвободы и совершилось чествование великого свободного человека. Можно себе представить теперь психологию какой-нибудь барышни после такого собрания, потерявшей целую неделю, чтобы добыть себе билет на это собрани.
Ведь были, говорят, даже и физически пострадавшие от усердия достать билеты: где-то у кассы разгоняли толпу. В этом всеобщем стремлении пробить броню внешних грубейших препятствий, чтобы на смутное свое откликнулось свое других людей и вместе стало яснее, конечно, много наивного и того, что называют «стадным». Мною ли найдется из всех этих устремленных на собрание людей действительно готовых зарыть свою «зеленую палочку»? И если есть они, такие люди, то найти им друг друга в таких собраниях невозможно, и не только по внешним причинам, но и по внутренним: не хватит смелости на полную искренность, потому что в каждом из нас есть свой маленький бог, которого опасно оказать на людях.
Эти вопросы объединения разобщенных я теперь называют церковными, так же, как раньше в широкой массе нашей интеллигенции их называли социальными. Слово «церковь», связанное теперь со всей суммой новейших интеллигентских исканий, не совсем совпадает с обычным бытовым понятием, и последнее, в отличие от первого, называют «историческая церковь» или даже просто «церковная иерархия». Я говорю это для того, чтобы сделать понятнее изложение своих впечатлений от вчерашнего чествования Толстого уже не на торжественном собрании соединенных Обществ, а в закрытом заседании Религиозно-философского общества. Здесь, в отличие от первого собрания, почти отсутствовали рамки внешней несвободы; здесь собрались и те «интересные» ораторы, которых там не было, словом, – здесь уж, как нигде в другом месте, можно было ожидать, что память Толстого наконец-то будет действительно почтена.
Не было обычного вставания. «Это после всего», – предупредил председатель. Вставание и, быть может, еще нечто большее должно было само собой последовать за речами, выйти естественно. Начались речи заранее уже намеченных ораторов. Передать все, что говорили о Толстом, не так легко. Я могу говорить лишь о своих впечатлениях. Хорошо было то, что каждый из ораторов старался сказать не то, в чем он несогласен с Толстым, а в чем согласен. Согласие больше несогласия – вот что получалось из этого, и личность Толстого росла и росла. Раньше большинство людей разделяло Толстого как художника и как учителя. Но вот тут становилось совершенно очевидным, что это – одно и то же лицо. «Когда-то Толстой смотрел на освещенные предметы и показывал на них, потом Толстой повернулся лицом к солнцу, и от его огромной фигуры легла большая тень», – так я представлял себе когда-то соотношение Толстого художника и учителя. И вот даже это мое представление показалось мне слишком резким, когда я слушал речи. «Тень не нужна, – думал я, – Толстой всегда стоял лицом к солнцу». Зарытая ребенком зеленая палочка и возвращение к ней старика и связанная с этим легенда о царстве божьем на земле – вот канва, по которой говорящие в этом собрании рисовали перед нами великую целостность этой личности. Замечательным оказалось то, что эти все столь различные люди сходились здесь в чем-то одном.
– Быть может, – говорил один из ораторов, – такое согласие – уже начало того большого согласия разных слоев интеллигенции и народа вокруг имени Толстого?
– Быть может, это уже и есть начало ожидаемой церкви?
Кто-то высказал мнение, что это согласие в духе само по себе непрочно, если нет организации, что душа одного человека, соединяясь с другой и третьей, непременно ищет выражения; необходимо дать этому соединенному духу возможность удержаться в одном сосуде…
И как бы в ответ на это старообрядческий епископ Михаил напомнил собравшимся, что Толстой молился.
Тогда все встали, и епископ Михаил с большим чувством прочел молитву. Заранее приготовленный хор запел «Нагорную проповедь».
Тут, однако, произошел один маленький инцидент, о котором и не следовало бы говорить, если бы он не перебил мое настроение и, вероятно, многих. Когда хор запел «Нагорную проповедь», то на стул вскочил небольшой господин и начал неистово кричать. Если бы это был какой-нибудь рядовой политический демонстрант, то уж, конечно, он не мог бы повлиять на настроение, но кричал солидный человек, философ, воспитанный, робкий, застенчивый в общежитии. Кричал же он: «Жизнью и делом покажите связь с Толстым, а не так».
Его уняли. Пение продолжалось. Но я уже не чувствовал пения, а думал, и совершенно определенно думал, о том сосуде, в который будто бы неизбежно, по словам одного из ораторов, должен быть заключен соединенный дух человеческий. Пример – на глазах: Толстой не заключался… Но мы – не Толстые. С другой же стороны, найдется ли тут десяток человек, которые могли бы вместе зарыть зеленую палочку, то есть отказаться от всего случайного во имя вечного и законного, после чего только и можно говорить об истинной церкви. Для того же, чтобы совершить этот подвиг, нужно и маленькому человеку жить по примеру больших, не заключая себя, а в одиночестве доводя себя до всего. Осуществление церкви в таком случае отодвигается в бесконечность, а с этим – и совершение всяких обрядов…
III. Смута в сердце
– Прекрасная могила!
– Чем она тебе нравится?
– Так… в лесу…
– Что же тут хорошего?
– Да сам-то хорош был.
Рассказывает нам еще туляк по пути в Ясную Поляну, как он вместе с Толстым на этой самой дороге чей-то упавший воз поднимал. Больше он о Толстом ничего не знает, книг вообще никаких не читал. Там и тут виднеются соломенные гнезда, в которых выводятся такие простейшие существа, как наш возница-туляк. По той же дороге едут автомобили, коляски, вероятно, тоже, как и мы, на могилу Толстого.
Почему-то кажется, что эти паломники в автомобилях едут совсем не из той земли, где жил Толстой, а откуда-то ужасно издалека, что это все иностранные гости, которые и в самом деле так часто посещали Ясную Поляну.
А по тропе боковой краем ржи плетутся простые богомольцы поклониться праху старца Амвросия в Оптину пустынь. И когда-то сам Толстой, по примеру этих людей в лаптях, этой же самой тропой, тоже ходил к оптинскому старцу.
Едет много экипажей по тракту, но простых паломников в сторону толстовской могилы на боковых тропинках нет.
– Когда это будет? – спрашиваем мы, обращаясь друг к другу…
Для нас «вопрос» вырос в самой живой форме. Спутница моя, дама старая, недавно сильно хворавшая, ехала в Шамардину пустынь говеть и… – могила Толстого была почти на пути, – заехала перед говеньем поклониться праху Толстого, великого, любимого ею и почитаемого человека. Грех! Пусть будут свободолюбивые и умные пастыри доказывать текстами, что нет греха заехать семидесятилетней, седой, православной женщине перед исповедью на могилу Толстого. Грех! Мы это чувствовали уже потому, что не всем в пути это и сказать-то можно было. А когда образованные шамардинские монахини совершенно серьезно, ссылаясь на свидетельство очевидцев, говорили нам, будто земля яснополянская трижды сотрясалась при погребении Толстого, – разве не осудили бы они старуху, узнав об ее поездке на могилу?
И не могу я забыть еще другую старую женщину, которая после смерти Толстого молилась за него, а узнав, что молиться нельзя, – каялась.
Вот встречается на пути книгоноша. В ящике у него брошюры Толстого и отца Иоанна Кронштадтского, – объединяющее начало, очевидно, рубль, но книгоноша не довольствуется этим.
– Тут, – указывает он на книги Иоанна Кронштадтского, – о церкви, а тут – книги Толстого о неправде человеческой. Ведь Христос не одевался в золотую одежду, и апостолы не носили митры с драгоценными камнями.
Смута в сердцах и речах…
Вот еще старик, высокий, прямой, стоит на площадке вагона; к нему подходит другой, рыжий, узнают друг друга, поздоровались.
– Лета мои короткие, – сказал рыжий, – да жизнь долгая, лютая жизнь, а лет мне всего только пятьдесят с очками.
– Ну, и времена! – вздохнул белый старик, всматриваясь, как это бывает, одновременно и с состраданием, и с презрением в лицо молодого старика. – Эх, ты! – качает он головой. – В пятьдесят лет старик. Да ты мне во внуки годишься: тебе пятьдесят с очками, а мне – восемьдесят с очками.
– Глубокие года! – сказал рыжий.
– Севастопольский солдат я; Толстому ровесник, с ним в одном отряде был: я – солдат, он – поручик.
Вмешиваюсь в беседу, спрашиваю у солдата, какой был Толстой поручиком.
– А все такой же. Ты о людях вот что примечай: ежели он сказал тебе что и через десять лет опять об этом так же сказал, – стало быть, человек тот – настоящий. А Толстой и тогда был такой же: с солдатами душа, а начальство ругал, этих генералов…
Очень крепкое словцо пустил севастополец. Дверь вагона первого класса сердито хлопнула.
– Нелюбо слушать! – засмеялся старик и продолжал еще пуще честить начальство, и за Думу, и за японскую войну, и за земельное неустройство. Таких обличителей теперь сколько угодно, и первое время сослуживец Толстого в моих глазах как-то дешевел. Но по мере того, как старик севастополец накоплял новых и новых своих обличений, я начинал понимать, что не обыкновенная эта была речь рядового обличителя, что тут у старого человека мысль вертелась вокруг какой-то основной неподвижной правды. Наконец он сказал:
– Толстому был дар божий неправду видеть. А его отлучили! – продолжал старик. – Такого человека и отлучили от церкви! Господин! – вплотную наступал севастополец. – Я тебе открылся, откройся и мне, чистой кровью откройся, можно ли так судить человека?
Меня занимала в это время мысль старика, что у Толстого был дар божий видеть неправду.
– Судить? – ответил я. – Каким судом судить, – человеческим или божеским?
Старик вдруг весь осел от моих слов.
– Ну, господин, не ожидал от тебя такого ответа. Прости меня, из духовного ты звания или по газетам? По газетам. Хорошо! Давно я не слыхал такого ответа.
Севастополец вдруг весь размяк и прослезился, и никогда я еще не видал более быстрого перехода от силы к слабости. Он рассказал, и как он на Афоне кашку варил, и как был на Валааме, и у Троицы, и у Саровского, и в Соловках.
– Троица, богородица, бог, бог-сын и двенадцать апостолов, родное семейство! – бормотал этот обличитель, обращенный лицом к очагу своей веры. И когда, оправившись, снова обратился сюда, в сторону неправды человеческой, то опять по-севастопольски воскликнул: – Свету конец! Всей России конец наступает! Остается жить сто пять лет. Ибо сказано в Писании: «У орла клюв обновляется, так и земле нужно огнем обновиться». Смотри, смотри, как напутали! – Старик указал на телеграфную проволоку. – Сказано, что перед концом весь свет паутиной будет опутан.
– Боже мой! – воскликнул старик, мысленно уже пережив конец света. – А ведь какая страна-то была, какое богатство. Выли у нас и моря, и леса, и озера, и реки, и птицы, и рыбы всякие, и ягода, и луга заливные, земли черные, светлые и травы всякие по ней. Самая богатая страна была, а хозяина в ней не было. Говорили – мужик плохой. Грязен он, глуп и мал, как цыпленок. Да разве в мужике дело? Дайте мне в руки, я любого мужика в месяц на дело поставлю. Не в мужике дело. Дело – в правительствующем Синоде, – сказал севастополец. – Синоду нужно было объяснить мужикам, что такое – бог, что такое – моря, реки, леса, горы… А Толстой, что же Толстой?.. Он – человек, как и мы, только ему дар божий дан видеть неправду человеческую.
IV. Вагон Толстого
Мертвая станция в безлесных полях. Поезда нет, – спит жандарм, спит буфетчик, спят лакеи, и на столе лежат блюда с холодным, покрытые чем-то белым, будто покойники. Поезд идет – все просыпаются. Открывают блюда с холодным. Тащат огромный самовар. Зажигают огни. Маленькая станция в безлесных полях на десять минут оживает и творит поэму, такую причудливую, такую непонятную для безмолвных, бедных наших полей.
К коротенькому поезду с единственным вагоном для пассажиров сходятся на станцию из ближайших деревень бородатые мужики в овечьих шубах, садятся в зале третьего класса на лавки, на столы и даже на пол. Становится тесно и душно. Поднимаются синие клубы махорочного дыма, слышится не речь, а отдельные ночные звуки под вечный аккомпанемент щелкающих семечек.
В этом году здесь ожидали мужики воздушного корабля. Прибежал сюда этот страшный слух от кондуктора коротенького поезда. Мужики поверили и стали ждать. Поплевывая на землю, люди в овчинных тулупах теперь смотрели на небо и думали: «Вот-вот покажется желанный воздушный корабль». Но не сбылись ожидания. Корабль опустился где-то в сорока верстах от станции, поднялся снова и улетел назад.
– Пустяка не дошел, – сказали мужики. И перестали ждать.
А станция в это время уже готовила новую фантастическую поэму. В единственном пассажирском вагоне коротенького поезда проехал сам Толстой. И когда он умер не очень далеко отсюда, на такой же станции в безлесной равнине, то и люди в овчинных тулупах стали вместе со всем миром творить поэму о нем.
– Праведник! Праведник нынешнего века! – говорили мужики.
Станция напрягала все свои творческие силы. Коротенький поезд удлинился. Проехало великое множество всяких людей. По телеграфным проволокам пробежали слова со всех концов света.
Теперь, спустя несколько месяцев, здесь по-прежнему ходит раз в день коротенький поезд с единственным пассажирским вагоном. Песенка спета. Мужики сходятся и молчат. Не ждут воздушного корабля, на небо не смотрят, а только сплевывают на землю махорочный нагар и семена подсолнухов.
Неужели напрасно творила маленькая станция свою поэму в печальных полях?
V
В Изумрудове, – восемь верст от станции, – и теперь беседуют и спорят о Толстом так же горячо, как и в день его смерти. Тут, в прекрасном саду, насаженном руками самого покойного батюшки отца Федора, в теплом деревянном доме, сложенном под его внимательным глазом, доживают век три старушки. Одна – матушка, вдова отца Федора, тихая, как тень, и такая спокойная, что, когда чай наливает, кажется, будто покойный отец Федор обедню служит. Другая старушка – глухая, но любопытная, все слушает в трубу и ничего не может услышать. Третья – вдова протоиерея; эта всегда молчит и, должно быть, ничего не слушает, вся поглощенная пасьянсом. Тишина в доме. И не будь в Изумрудове живописца и золотых дел мастера Михаилы Петровича, человеческое слово давно бы спряталось в маятник старых часов. Этого Михаилу Петровича вывез сюда откуда-то еще покойный отец Федор, когда нужно было подновить иконостас. С тех пор много прошло времени, батюшку схоронили, а живописец, бритый старик с седым вихром, все живет и все философствует. И теперь, как и раньше, чтобы мысль родилась, ему стоит только придавить пальцем кончик своего носа и посмотреть так, будто собеседник его – стеклянный и сзади еще кто-то стоит. Глаза Михаилы Петровича очень черные, но теперь из года в год как-то желтеют, будто внутри они медные, и черное от времени сходит. Щетина его бороды теперь стала совершенно седая.
– Опасный человек! – предупреждала матушка Анна Александровна покойного отца Федора.
– Ничего в нем не вижу опасного, – отвечал батюшка, очень довольный живописью Михаилы Петровича. – А что в церковь не ходит, – так кто теперь из образованных ходит. Насильно себя не заставишь. Невольник – не богомольник.
– Какой он образованный? Просто – невер! – стояла на своем матушка.
Отец Федор умолкал. Он знал, что матушка, такая для всего добрая, в этом ему не уступит.
Опасный человек, однако, привык к дому батюшки до того, что редкого дня здесь его не увидишь. А когда умер отец Федор, то был единственным тут человеком слова и единственный приносил сюда со станции новости.
В этом году Михаиле Петрович, как только услыхал, о воздушном корабле, прибежал к матушке.
– Восхитительно! – закончил он свой рассказ об аэроплане.
– Что же тут хорошего? – ответила матушка. – Шеи поломают, а неба все равно не достигнут.
Спор о небе и земле у Михаилы Петровича с матушкой – давнишний, старинный. Анна Александровна всякий разговор переводит на то, что там, а Михаиле Петрович защищает, что здесь. И не так просто принял он эти слова: «Неба все равно не достигнуть».
– А вот и достигают, – ответил он.
– Без бога неба нельзя достигнуть, – сказала матушка. – Забываете Вавилонскую башню, Михайло Петрович.
– Вот куда хватили, матушка! – смеется Михайло Петрович. – Ведь это было в те времена, а теперь все изменяется.
– Все по-прежнему, – говорит матушка. – Как сказано в Писании, так все и стоит.
– Почему же всякие другие писания меняются, а это – на месте?
– Потому что его дали нам пророки, святые отцы и мученики.
– О чем спор? – спрашивает глухая.
– О Вавилонской башне, – отвечает протоиерейша.
– И достигнут, – говорит горячо Михаиле Петрович о своем, – и достигнут.
– Невер! – твердит матушка.
Добрая матушка кончила этот спор тем, что будто шутя, а все-таки порядочно отодрала Михаилу Петровича за седой вихор.
В этот раз победа осталась за небом. Воздушный корабль не долетел сорока верст и потом исчез неизвестно куда. И хотя в газетах постоянно писали о воздухоплавании, но сам Михайло Петрович, кажется, уж не очень этому верил.
VI
Слух о смерти Толстого передала матушке молочница. Старушка тут же, на глазах молочницы, стала к образам и помолилась за душу усопшего Льва. И об этой горячей молитве молочница рассказала Михаиле Петровичу, когда стало известно, что молиться нельзя. Старичок философ немедленно явился, уселся в углу и долго молчал.
– Что же вы молчите? – спросила наконец матушка, только что узнавшая о запрещении молиться.
– Восхитительно! – сказал Михайло Петрович.
– Хорошего мало, – ответила матушка. – Умер без покаяния.
– Молитвы праведников спасут его, – намекнул Михайло Петрович на то, что узнал от молочницы.
– Напрасно намекаете, – ответила матушка. – Я помолилась и покаялась теперь.
– Очень вас сожалею, – сказал Михайло Петрович. – И позвольте просить вас объяснить мне, почему это по христианству и за врагов нужно молиться, а за такого человека нельзя?
– Потому, – ответила матушка, – что, как крысу, вредную тварь, мы изгоняем из дома, так и вредного человека отлучает церковь.
– Ошибаетесь! – крикнул Михайло Петрович, разгоряченный. – Крысы с хвостами, а человек – без хвоста!
– Ну… – хотела сказать что-то матушка.
– Не ну, а тпру! – перебил ее Михайло Петрович.
Матушка, и сама в глубине души не верящая тому, что в этот раз говорила, и сдерживаемая стремительностью собеседника, умолкла.
– Вот и ни гу-гу! – торжествуя, сказал Михаиле Петрович, чувствуя победу земли. – Восхитительно умер Толстой, – сказал он, обращаясь по своей привычке к какому-то невидимому и понимающему его другу. – Оправдал себя: один жил, один лег!
– О чем спор? – спросила глухая, приставляя трубу.
– Как Толстой жил и лег, – ответила протоиерейша.
– Ну, как же? – спросила глухая.
– Оправдал себя! – крикнул в трубу Михайло Петрович.
– Нет, – тихо сказала матушка, – не оправдал он себя; мне его жалко: сам себя погубил.
В этот раз спор на этом и окончился. Творя вечернюю молитву, старушка матушка опять нечаянно помолилась за грешника и, вспомнив, покаялась.
* * *
Каждый день на печальную станцию в безлесной равнине приходит коротенький поезд с единственным пассажирским вагоном третьего класса, в котором ехал Толстой. Мужики равнодушно смотрят на поезд, сплевывая шкурки семечек. Придет вагон – станция оживится. Уйдет – станция дремлет. А в Изумрудове старая матушка до сих пор то помолится, то покается, то помолится, то покается.
Сборная улица
1. Сборная улица
Вероятно, эта часть города заселялась как-нибудь случайно, без всякого плана, а потом, когда обратили внимание на беспорядок, стали склеивать улочки, переулочки, огороды, пустоши, – так образовалась капризнейшая в мире улица, и название дали ей Сборная. Обитатели этой улицы – те самые известные русскому читателю растеряевцы, люди без завтрашнего дня.
Расскажу два случая, как я хотел поселиться на Сборной улице и как я бежал или, вернее, меня согнали.
Первый случай. Vir ornatissimus, могучего роста, превосходного телосложения. Служил он на железной дороге и вышел от взрыва благородного негодования. Из какой-то крайней партии он тоже вышел, – «разошелся в тактике». Сдал он экзамен на частного поверенного и стал весьма успешно вести крестьянские дела. Раз в глуши уезда от бывшего его клиента я услыхал такую оценку своего адвоката: «Человек корректный и вполне специальный, говорит по-гречески, настоящий Рюрик!» Я попросил у собеседника разъяснения; он спросил: «С какой точки зрения?» И пошел, и пошел.
Когда я у адвоката осматривал дом, он сам рекомендовал себя человеком «вполне интеллигентным», относя это свое достоинство к числу квартирных удобств.
– На нашей Сборной улице, – говорил он, – все из предрассудков состоят, а я этого не признаю.
Квартира была мне мала. Он сейчас же согласился уступить мне одну из своих комнат, а дверь заделать.
– Я это сделаю бесплатно. Печки не было.
– Тоже бесплатно сделаю.
– Кладовки нет.
– Бесплатно!
– Цена велика…
– Уступлю, почти бесплатно живите, только живите, потому что не так, чтобы я из-за денег, а как вы человек интеллигентный вполне…
Помню, из окошка, возле которого мы стояли, лес виднелся и солнце садилось за лес.
– Живописное обозрение! – сказал мне хозяин.
Я поселился и начал работать по своей «письменной части», поглядывая время от времени на «живописное обозрение».
Хозяин заходит иногда. Я не обращаю на него внимания и работаю молча. Раз, два заходит. Замечаю, он мрачнеет. И вот останавливается как-то у моего окна и смотрит: закат был точь-в-точь такой же, как и тогда.
– Вам нравится солнце? – спрашивает.
– Солнце хорошее.
– Значит, вам нравится?
– Ну, да!
– А мне не нравится.
Музыка в тоне. Я понял тон, – опаснейший тон.
Приходит какой-то праздник. У хозяев гремят бутылки; приглашают меня. Я отказывалось. Бутылки хлопают, гул голосов. Снова является хозяин и требует «категорически» объяснить, почему я отказываюсь. И, не слушая моих объяснений, торопливо заявляет:
– Позвольте, я такой же интеллигент, как и вы.
– Что вы хотите от меня? – раздражаюсь я. – Деньги вам уплачены.
– А я разве вас из-за денег пускал, я вам бесплатно устроил кладовку, теплое отхожее место.
– Это необходимо…
– Какой генерал, подумаешь, какой генерал!
И вот я чувствую: костяк обнажился, костяк жизни, костяк Сборной улицы…
От «интеллигента» я переезжаю к черносотенцу.
Случай второй.
Хозяин, надворный советник, занимается археологией, имеет пять деревянных флигелей, нигде не служит, весь день сидит в пивной и, возвращаясь домой, на своем дворе поет басом церковные напевы. Ходит он в широкой провинциальной разлетайке, шляпой закрывает череп, разбитый и плохо сросшийся. Жильцы – актеры, борец, городовой и я. У меня большой отдельный флигель, и поселяется у меня художник-офортист, большой знаток русской жизни.
Сидим мы как-то вечером и разговариваем о черносотенстве, хотим дать ему определение не логическое, а, как выражается художник, пластическое.
– Дмитрий Карамазов черносотенец?
– Типичный!
– Нет!
– Почему нет?
– В нем есть дух божий, за ним девушка в Сибирь пойдет. А в черносотенстве именно нет духа божия, будущего нет…
Трах! Дверь открывается, в дверях – взволнованная Мария Антоновна, жена городового.
– Вора поймали! Идите, идите!
– В чем дело?
– Бельевая корзина ушла, сама ушла к хозяину под грушу… Взяли корзину, а вечером одумались: сама корзина не может уйти под хозяйскую грушу. Побежали к хозяину; он смекнул дело, хвать – а под грушей вор. Сел на вора верхом и кричит: «Зови жильцов!»
– Мой-то (городовой) на посту. Идите. Бога ради, идите помочь! – зовет Мария Антоновна и убегает звонить к борцу и к актерам.
Ночь. Огни в саду мелькают. Какие-то старухи в ночных коротких темных юбках стоят с лампами. Под грушей, странно освещенной ночными огнями, в белом нижнем белье сидит надворный советник; вор – под ним, в траве вора не видно.
Приходим мы. Вот когда почувствовал хозяин и вспомнил, что он – надворный советник. Ему совестно, он освобождает руку, вытирает пот с лица и, обращаясь к нам, говорит:
– Фу, как разволновался!
Молчание с нашей стороны.
– Ну, что же, – спрашивает хозяин, – пускать?
Встает, отпуская вора. Вор не бежит.
– Подымайся!
– Не пойду, буду лежать. У вора свой каприз.
Приходит полиция и, найдя шесть сорванных груш, уводит вора.
– Фу, как разволновался! – повторяет хозяин, ища нашего сочувствия.
Но мы уходим молча и молча уносим конфуз надворного советника в свой флигель.
Это молчание нас погубило. На другой день, когда хозяин, бася, возвращался из пивной, мы развешивали на стенах квартиры привезенные художником офорты.
– Боже наш, помилуй нас! – раздается в сенях надтреснутый бас.
– Войдите!
– Аминь нужно сказать, а не войдите; или вы некрещеные?
Он выпил, глаза беспокойные, острые.
– Вы не рады? Или мне уйти?
– Нет, зачем…
– Покажете мне картины?
– Вот картины, смотрите.
– Нет, я желаю, чтобы сам художник показал.
– Вот, – показывает художник, – вот и вот… Новый конфуз для надворного советника: он ничего не понимает в этих отвлеченных картинах.
– Дозвольте, – говорит он, – мне повесить у вас свою икону своего письма?
– У нас есть икона: вот Николай Угодник.
– Вы не желаете моей работы!
И пошло… Костяк, обнаженный костяк Сборной улицы. Опять надо квартиру искать.
2. Русский человек
Перед праздником вагоны были переполнены, и нас из второго класса перевели в первый. Тут в купе сидел один только пассажир, господин очень нездорового вида.
– Куда едете? – спросил его купец из второго класса.
Господин ответил неохотно. Но купец, очень добродушный с виду, не смущаясь этим, всех переспросил. Все ехали в N.
– Где же вы там хотите остановиться? – допрашивал нас купец.
Господин первого класса назвал «Петербургскую гостиницу».
– Сохрани вас бог! – воскликнул купец. – «Петербургкая» плохая гостиница, первое неудобство, конечно, клозет на дворе…
– Как! – изумился нездоровый господин. – Мне гостиницу рекомендовал X. как лучшую.
– X., хромой? – спросил купец.
– Вот уж не знаю, – ответил господин, – он мне писал, а так я его не знаю.
– Он хромой, – сказал купец, – ему ходить трудно, вот он вам и рекомендовал гостиницу поближе к своему дому, чтобы к вам почаще ходить. Плохая гостиница; первое неудобство я назвал, второе – насекомые, третье – прислуживает пьяный мужик.
Купец, загибая пальцы, перечислил все неудобства «Петербургской гостиницы». Пассажиры были в ужасе.
– Куда же, куда же нам деться? – спрашивали купца.
– Остановитесь в «Московской», – ответил он, – там очень хорошо.
И все благодарили купца, как благодетеля.
– Здорово я их! – сказал купец мне, когда нас с ним опять перевели во второй класс. – Здорово, ведь хозяин-то «Московской гостиницы» – я!
И закатился добродушнейшим смехом русский человек, хохотал до слез, меня заразил смехом.
– А вы коровьим маслом торгуете? – спросил он, успокоившись.
Долго допрашивал меня купец и наконец добился своего, узнал, чем я занимаюсь.
– Пишете, – одобрил он, – это правильная точка.
– Какой вы партии? – спросил я спутника.
– Партии я, конечно, черносотенной, – ответил он, – а в душе и по совести – трудовик…
И тут же, по русскому обыкновению, рассказал всю свою жизнь, как доказательство того, что он – трудовик. И правда, передо мной прошла трудовая жизнь. Мыл рюмочки у «Яра» – вот начало карьеры. И через пятьдесят лет – собственный трехэтажный каменный дом, «Московская гостиница» в N. Вся жизнь как лишение, как подчинение себя каким-то мудрым правилам, найденным тут по пути, в самом процессе жизни. Приходилось даже отказывать себе в любви к дочери.
– Жена может любить ее, – рассказывал отец, – а мне нельзя: бояться не будет.
Так описывал купец свою жизнь как подвиг, в результате которого – каменный дом. Поезд приближался к монастырю, где раньше жил святой человек. Я заговорил о подвижнике. Купцу не хотелось начинать об этом. Я настаивал.
– Не верю я им, – сказал наконец мой спутник, – я верю только богу и умному человеку, – и решительно отклонил разговор о религии.
«Тоже аскет!» – приходили мне в голову отрывки из современных рассуждений о мещанстве как о результате церковного воспитания народа. И так ясно было теперь, что этот человек произошел не от церкви, не от интеллигенции, а прямо от земли, что передо мной – истинно русский, крепкий земле человек.
Мы говорили о земстве.
– Народники! – ядовито сказал купец. – Мы за народ, выбирайте нас, говорят, поют на все лады. А народ…
Купец вдруг надулся от смеха, залился на высочайшую ноту, не удержался на ней и, весь багровый, как-то пфыркнул губами и щеками.
– А народ, – хотел сказать что-то купец, но опять залился на ту же высокую ноту и опять пфыркнул. – Народ им верит, – сказал он наконец, – знаете наш народ. А они-то, они-то разливаются! Конечно, люди образованные, им и карты в руки. Народники!
Купец мой вдруг совсем преобразился. И как далеко было теперь то его добродушие, с которым он зазывал пассажиров первого класса в свою «Московскую гостиницу». Он теперь говорил ядовито одно:
– Народники!
– Кто они? – спросил я.
– Все, – ответил купец, – теперь и графы, дворяне, – все за народ. Да хотя возьмите Некрасова, на что уж народник был?
– Поэт Некрасов? – спросил я.
– Стихотворец, – ответил купец, – сочинял стихи о народе. А в душе?
– И в душе Некрасов любил народ, – заступился я.
– А в душе у него реакция, – ответил купец. – На словах они все народники, а в душе у всех реакция.
– И граф Толстой? – спросил я.
– Политикан! – решительно сказал купец, – этот говорил другим отдать землю, а сам не отдавал.
– Да ведь он же ушел из своего дома и умер от этого.
– Фокусы, – сказал купец, – ничему не верю, графские фокусы. Вы знаете, почему он ушел? Очень просто все. Остарел, писать сам уж не мог. Дай, думает, хлеб им дам. И дал. Посчитайте теперь, сколько о Толстом написано. Сколько это стоит, если на деньги перевесть? А куда пошло все это? Мужикам? Поди-ко! Да все тем же писателям. Это он для своего же брата и старался. Это все фокусы. Политикан!
– Как же теперь быть? – спросил я купца.
– Очень просто, – ответил он, – народ хотя и глуп, а умнеет. Настанет час, и всех на осинку: дворян, князей, графов…
– И писателей? – спросил я.
– Да и писателей, – ответил купец…
О двух крайностях
(К характеристике времени)
– Подожди, что скажет двенадцатый год!
И спор кончается. Собеседник умолкает, потому что за будущее теперь никто не поручится, да и слово-то какое: «двенадцатый»!
В этом таинственном двенадцатом году нечто должно совершиться. Что – бог знает: многие говорят, будто в этом году отойдет мужикам какая-то большая земля, которую француз под Москвой оставил.
Слышал я первый раз о двенадцатом от молодого парня на телеге, когда добился его расположения, потом по секрету сказали на ярмарке, потом сказал один батюшка, и теперь часто слышу:
– Двенадцатый… Ну…
– То-то, двенадцатый.
Прислушиваясь к народу, можно подумать, что в стране – какой-то заговор и слово «двенадцатый» служит паролем. Но это – не заговор, а только одно упование, подобное чаянию конца света. В народе до сих пор не перевелся тип предсказателя, как вообще мало что переводится в народе, а только отодвигается на задний план.
– Народ стал задумчивый и невеселый, – говорят знатоки сельской жизни, – и все его куда-то тянет, места себе не находит и веселья не видит в вине.
Пьют много, пьют, быть может, так, как никогда, а веселья себе не находят, пьют и толкуют о двенадцатом. А жены невеселых пьяниц в Петровский пост вереницей тянутся к святым местам просить у господа бога защиты от пьяных мужей.
Посмотрите на взволнованное ветром море наливающейся ржи, приглядитесь внимательно и непременно увидите между волнами темные бабьи головы, плывущие по ржи, как челноки по морю. Это – жены пьяниц по богомольной тропе текут к ручьям, колодцам и чудотворным иконам. Вот подходят они к святому колодцу, и, далеко еще не доходя, одна или две из них начинают взвизгивать и смеяться. Что ближе, то хуже: визг переходит в певучий вой, а смех – в дикий хохот. Кликушу подхватывают, раздевают и спихивают в холодную воду. Стон и хохот смолкают, женщина лишается чувств, и ее вытаскивают полежать на траве. Лежит почерневшая, безобразная, с открытым ртом, а рука судорожно сжимает припасенную для святой воды бутылку из-под казенного вина. Другие женщины, набирая в рот святой воды, переливают ее в рот истеричной, не помогает, – льют в открытый рот масло, курят ладаном. В конце концов кликуша открывает глаза. Журчит ручей. На ивах соловьи поют. Везде бегают солнечные зайчики. Кликуша ничего этого не видит и не слышит. Вялая, сонная, подходит к ручью и пустую бутыль казенного вина наполняет святой водой.
Приглядитесь к другим женщинам: у большинства из них в руках – те же пустые казенные бутылки, которые они тоже наполняют святой водой. Вчера муж сидел за этой бутылкой и колотил жену, сегодня она – у святого колодезя.
Что же тут нового? Силоамская купель существует с библейских времен. И мы ответим: новое – в том, что старое выдвигается на передний план. По примеру отца Илиодора из недр русской жизни вышли другие отцы, малые, не так видные, но тоже очень ретивые. За ними идут те несчастные женщины с пустыми казенными бутылками, идут странствующие и путешествующие, идут люди веселого и мрачного характера. Петровки – время свободное, теплое время, луга цветут. – настоящее благорастворение воздухов.
– Ловко отец Херувим ходы делает! – одобряют путешествующие.
– Что говорить… Фигура! Глаза голубые. Голос очаровательный.
– Стрелок!
– Мироносицам числа нет. Солидные жены дома покидают.
– Викарного скоро получит.
Тут же и говорят все это, шествуя многотысячной толпой за иконой в ясный солнечный день. Хлынет дождь – помолчат, но идут, все равно идут и ни за что не сядут в рядом бегущий – поезд железной дороги. Совестно перед язычниками, скажут потом: «Николу Угодника в телячьем вагоне привезли».
Малые Илиодоры в большом числе, это – несомненная черта времени. Есть и еще кое-что, но об этом потом. Теперь меня больше всего занимает схождение в одну точку двух крайностей: как бутыль казенного вина верующие бабы наполняют святой водой. Размышление об этом направляет мою мысль к одному господскому каменному дому, на месте которого раньше стоял деревянный, сожженный в забастовку мужиками.
* * *
Это не обыкновенный теперешний безвкусный помещичий дом. В нем живут люди просвещеннейшие и гуманнейшие. Чего-чего только не настроили в селе благорасположенные исстари к народу господа. Пишущему это приходилось уже говорить о хорошо устроенном потребительском обществе и кредитном товариществе, дела которых по желанию самого православного народа ведут сектанты-баптисты. Оба эти учреждения основаны господами. А профессиональная школа, поставляющая знаменитые кружева! А прекрасная общая народная школа! А всякого рода благотворительность! А старые заслуги перед народом во время освобождения крестьян! Вспомнишь все это и чувствуешь, как губы сочнеют.
Теперь помещик стал безвкусным и серым до невозможности. Но нужно сказать правду, что и мужик оказался как-то во всей своей наготе. Вот в забастовку взяли и сожгли дом гуманнейших людей вместе с дорогой библиотекой, старинной мебелью, записками, дневниками и, быть может, ценными рукописями… Кончилась забастовка, – исчезли последние следы тех старых добрых помещичьих чувств, проявление которых мы еще могли наблюдать в нашем краю до революции. Исчезли следы чувств, воспитанных эпохой освобождения крестьян.
Владельцы сгоревшего деревянного барского дома вгорячах решили отомстить мужикам. Поверят ли мне? Они перестали выдавать дрова для отопления ими же устроенной народной школы…
Так некогда один мой знакомый, саратовский немец, старичок, Адам Адамыч, рассердился на своего Серко. Лошадка не вовремя дернула, а старичок из-за этого ногу сломал. Шесть недель молча лежал Адам Адамыч, и когда выздоровел, то прямо на костылях пошел на конюшню. Там он засучил рукава, поплевал по ладони, долго прилаживал, примеривался и, наконец, дал своему любимому Серко жестокую пощечину в нос.
* * *
– Как мысли быстры! – слышал я недавно восклицание на именинах в провинции.
Быстрее мысли, однако, был ход событий в сожженной усадьбе. Стучали молотки о камни и железо. Понукали мужики своих кляч. Те самые мужики, что сожгли усадьбу, теперь возили камень для нового господского дома. Дом построился быстро, как в сказке.
Теперь я еду туда и вижу, – выросло что-то еще большее, высокое, красное.
– Что это еще там строится? – спрашиваю.
Присмотритесь и поздравьте. Неужели не видите? – сказал мне управляющий имением.
Я пригляделся и разобрал, что между холмом, где стоит господский новый дом, и другим берегом реки, где живут мужики, возле мельничной плотины, как-то из-под низу, с реки поднимается высокая труба.
– Винокуренный завод строится, – сказал управляющий.
И теми же самыми владельцами, которые тут же настроили всевозможные благотворительные учреждения. Вот прямо передо мной, окруженная школами и кооперативными учреждениями, и поднимается труба…
– Замечательная труба, – говорит управляющий, – вы сходили бы посмотреть, сегодня будут громоотвод ставить.
Это было в Духов день. В этот святой день недалеко от нас происходит громаднейший кулачный бой, в другом селе – знаменитая конская ярмарка. Кроме того, теперь в новой церкви торжество установления креста, и вот еще на винокуренном заводе громоотвод ставят. Куда идти? Кулачный бой и ярмарка в разных сторонах, громоотвод и крест – в одной. Хочу убить двух зайцев, иду в сторону винокуренного завода.
Управляющий спорит со мной.
– Спирт, – рассуждает он, – весь целиком сдается в казну, на месте ничего не остается. Винокуренный завод дает местному населению только заработок, только хорошее и ничего дурного. Соседство завода с благотворительными, просветительными и кооперативными учреждениями на практике вовсе уже не так противоречиво.
Владельцы винокуренного завода настолько просвещенные люди, что даже их управляющий считает себя последователем Толстого, Джорджа и Рёскина. Я легко мог сослаться на имена. Но знаю по опыту, как опасна философия, когда идешь наблюдать практическое дело. Между тем я знаю наверно, что местные крестьяне, живущие возле винокуренных заводов, каким-то образом спиртом пользуются. Как – не знаю.
Мы подходим к заводу. Толпа мужиков окружила мастера, собирающегося поднимать блоком своего помощника для установки громоотвода на высоте.
– Как это ухитряются с заводов вино таскать? – спрашиваю ближайшего ко мне мужика.
– Мочалкой, – отвечает он.
Рабочие окунают мочалку в спирт, потом выжимают и пьют.
– А из бочек – соломинкой…
Просверливают бочку и пьют соломинкой. Это общеизвестно.
Но ни мочалка, ни соломинка не удовлетворяют меня. Есть какой-то радикальный и массовый метод.
В конце концов докапываемся до истины: владельцы заводов, которые обыкновенно бывают и владельцами крупных имений, расплачиваются за полевые работы водкой, а водка дешевая, и уж самому-то хозяину не трудно сберечь «для себя» в размере местного потребления. Само собой, не всякий владелец так делает, а о нашем не может быть и речи. На этом соглашении и оканчивается наш спор с управляющим.
Между тем мастер, владимирский мужик, укрепив на веревке осиновую «чурку», предлагает помощнику садиться на нее.
Высота огромная. Зрелище необычайное. Толпы народа стекаются посмотреть установку громоотвода к трубе винокуренного завода. Какой-то мужик не то иронически, не то серьезно напоминает, что сейчас и крест на колокольне будут ставить, что вот-вот должен ехать протопоп, так не лучше ли, прежде чем поднимать человека на такую высоту, немного обождать и попросить батюшку дать напутственный.
Владимирские мастера, серьезные, дельные люди, работают молча. Но, услыхав теперь слово «протопоп» и «напутственный», мастер вдруг неожиданно обернулся к толпе и такую штуку сказал о попах и молебнах:
– Отмочил! Пульнул!
Как один человек, грохнула толпа, и под общий дикий гул, крутясь по веревке выше и выше, стал подниматься человек на трубу винокуренного завода.
Труба все одолела, все пересилила. Труба выше господского дома, выше колокольни, выше всего.
* * *
Почти возле самого винокуренного завода строится еще какое-то кирпичное здание.
– Это дом винокура?
– Нет, это община сестер милосердия.
– Как?! Строит та же рука?
– Из одного источника, но, конечно, лица в семье разные…
Ну, вот и рассудите: легко ли дать теперь характеристику времени. Хочу отметить полнейший упадок прежних добрых чувств в помещичьей среде и вдруг вижу рядом с винокуренным заводом общину сестер милосердия (я забыл еще упомянуть об обществе с капиталом для выдачи замуж беднейших крестьянских невест). Хочу я сказать о распространенности шинков, об ужасном невеселом теперешнем пьянстве народа – и вдруг умиляюсь: верующие бабы наливают в казенную бутыль святую водицу.
По круглой поверхности
– В настоящее время демократизация весьма переработалась! – сказал мне в вагоне сосед.
Мы говорим с ним о новом русском явлении – лихорадочном стремлении низших слоев общества к образованию. С истинным образованием тут, конечно, очень мало общего, дело тут даже вовсе не в образовании, а лишь бы вывести детей в люди, но в результате, смотришь, у повара дочь – гимназистка, швейцар под лестницей надевает сыну гимназическую куртку. Из каких бы источников ни исходило это стремление, но в результате, правда же, «демократизация».
Мой собеседник говорит ужасным русским языком, но он – специалист по подготовке детей в средние учебные заведения. Бедняки отдают ему детей, и он, не выходя из программы, буква в букву, зубрит с ними учебники. Это – специалист, выдвинутый временем, как в свое время у нас появился и агитатор-политик, не знающий истории. Он самоуверен, о своем образовании мнит бог знает что.
– Ах, сколько кислороду, сколько кислороду! – восклицает он, открывая окно.
– Мне холодно… – жмусь я.
– Изолируем! – успокаивает он меня и закрывает окно, и пристукивает, и опять говорит совершенно довольный: – Полнейшая изоляция!
Мы подъезжаем к Козельску, к Оптиной пустыни. У меня там есть дело: собрать для одного знакомого материалы о жизни Константина Леонтьева.
– В Оптину! – восклицает изумленный и разочарованный собеседник.
Я объясняю, зачем мне…
– Не согласен! – восклицает он.
– Да с чем же вы не согласны?
– С вашим знакомым.
– Он – ученый, это – научные материалы…
– Все равно, ведь лучше Загоскина не напишет. Поезд подходит. Мои руки заняты. Я киваю головой и извиняюсь, что не могу пожать руки.
– Ничего, – успокаивает меня репетитор детей, – в настоящее время демократизация так переработалась, что руки можно и не подавать: через руку – зараза и прочее…
– Прощайте!
А вот другой полюс круглой поверхности.
Мы в тех же краях, но не у города, а в лесу, в глухариных местах. Над нами свешиваются арки склоненных друг к другу бурей деревьев, экипаж то и дело натыкается на поверженные и гниющие стволы. И вдруг лес расступается, большой, молодой фруктовый сад, пасека с додановскими ульями, помещичий дом. Раньше в этой лесной даче жил какой-то Жуковский, дворянин, теперь живет мужик серый-пресерый, и зовут его уже не Жуковский, а просто Жук. Мужик-то и развел этот сад и пчел. Жук весь какой-то красный: борода красная, лицо, шея, только глаза затуманенные, водянистые, да в улыбке есть что-то монастырское. Это – счастливейший в мире человек; всякому заезжему он охотно проболтает свою биографию. Прежде всего он восхвалит господа бога и тут же, быть может, споет псалом и пригласит к пению все свое семейство и даже рабочих. И потом расскажет, что и к истинной вере он пришел от счастья; нужно же кого-нибудь хвалить…
– Я вышел из своей деревни вовсе серым, был серее волчиного подбрюдка, – начинает он свой рассказ.
В солдатах его подчистили. Какой-то блаженный молодой солдатик наставил его на «божественное». И вот тут все пошло. Сразу все открылось, все стало понятно. Серый волк принялся хвалить господа на всех перекрестках Начальство одобряло его. Заводились знакомства в духовном мире. После службы просветил себя паломничеством по монастырям и святым местам и в конце концов, получив совет от каких-то двух монашек-«сироток», купил целое имение без гроша денег. Для этих «сироток» он устроил даже пруд с карасями и угощает их, когда они к нему приезжают. Кроме того, хочет строить тут же дом для вдов имени тех же «сироток».
Выслушав эту биографию, я отметил для себя этот редкий путь к богу от счастья и сказал:
– У нас в России к богу приходят обыкновенно от несчастья…
– А я от счастья! – воскликнул Жук.
Он показал мне целый большой шкап с божественными книгами: все больше книги журнала «Паломник».
– Истинная печать, – сказал Жук, – не масонская.
– Масонская! – изумился я.
– В настоящее время почти вся печать масонская, – твердо сказал Жук. – Ибо сказано в Писании, что при последнем времени придет антихрист и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть. Эта самая печать и есть масонская. Ах, как трудно теперь спастись! Как трудно непросвещенному человеку узнать, какая печать истинная, какая масонская! Те же буквы, те же слова, а глядишь – то божественное, а то масонское. А самый старший масон неприступен, и живет за границей, и носит имя «Сионский царь», от него-то и вышла вся забастовка. И еще выйдет, и втрое будет горше первого, и одолеет всю Русь, и явится и сядет на царское место сам Сионский царь, старший масон, сатана и жид.
Жук плюнул. А я смотрел в окно на белые, вымазанные известкой яблонки в лесу, на желтые пчелиные домики и удивлялся про себя, как можно в таком близком чаянии Сионского царя так хорошо устраиваться. Я вспоминал того репетитора-горемыку с его иностранными словами, отмеченного, несомненно, печатью Сионского царя, и русская жизнь мне представлялась круглой поверхностью, на одной стороне которой был репетитор, на другой Жук, – два полюса.
В «Капернауме»
– Там какой-то парень спрашивает, – кричит обо мне хозяину трактирный мальчик.
– Какой парень, – обращая ко мне любезное, а к мальчику грозное лицо, спрашивает хозяин. – Где тут парень?
– Барин, – увертывается мальчик, – я сказал: барин спрашивает.
– То-то, «парень»… – ворчит хозяин. – Пожалуйте, барин.
– На людях разговаривать будем?
Я в «Капернауме». Это – трактир, интереснейший центр общения народа, наследие все того же пятого года.
«Капернаум» – такое сложное учреждение, с такими разнообразными типами, что нет никакой возможности дать о нем понятие в двух-трех словах. Нужно себе вообразить Растеряеву улицу в пятом году, когда, кажется, и тараканы выползли из щелей и заговорили «на людях», потом нужно представить себе отлив, уходящую волну и забитых отливом на берег диковинных существ, которые продолжают разговаривать, не замечая, что они уже – на сухом берегу. Тут люди, бессознательно (ибо есть совершенно определенная физиономия «сознательных») принимавшие участие в погромах, сюда же ходят и члены «Фракции» (прогрессивного клуба), люди всех партий, всех исповеданий. Это похоже на московскую «Яму», но только примитивнее, ближе к земле, свежее. Как в пустыне, встретив обожженные камни и кости съеденного животного, говоришь себе: «Человек был», так и тут уносишь впечатление: «Человек заговорил».
Человек заговорил! Какой глубокий интерес наблюдателю жизни – проследить момент появления слова, момент выхода его из глубины существа, затерявшегося где-то на Сборной улице, приобщение этого существа к человеческому обществу. Я не преувеличиваю, не фантазирую. Вот, например, известный у нас в городе черносотенец X., человек трудящийся (подрядчик), прославивший раз навсегда господа за то, что он помог ему избавиться от запоя. Но бог, освобождающий человека от запоя, еще – не весь бог… Когда в пятом году появляются в городе чужие, неизвестные, темные личности и зовут его выходить на защиту родного бога и отечества – он идет и громит… А вот теперь он заговорил в «Капернауме»; он скажет слово, а другой, более его просвещенный, скажет двадцать, и бог, освободивший человека от запоя, ведет уже не к погрому, а к милосердию: X. жертвует деньги в какую-то организацию помощи бедным.
Человек заговорил! Чего уже стоит то, что буфетчик «Капернаума» за прилавком, за этим рядом бутылок, держит всегда наготове Библию, и гости временами требуют ее к себе из буфета для справок.
– Вопросы, вопросы, только задавайте нам вопросы! – встречают меня в «Капернауме».
Я спрашиваю то, о чем думаю в последнее время:
– Правда ли – все эти теперешние описания деревенских ужасов, не от себя ли пишут это интеллигенты?
– Не от себя! Правда!
И начинаются рассказы, передаются факты из местной жизни, всем тут известные. Вот наиболее яркие.
Три молодые парня, трезвые, пришли к полотну железной дороги и поклялись зарезать первого, кто пройдет мимо них (у них из-за болот все по полотну ходят). Стали дожидаться. Приходит свинья, и зарезали парни свинью.
Второй случай. Мальчишка-кузнец сковал себе шило длинное, четверти в две. Этим шилом можно пырнуть незаметно. И начал парень с того, что на посидке пырнул гармониста. Во вражде он с ним не был, а так себе. Гармонист повалился, думали, пьяный, а оказалось, проткнут.
Третий случай (он был описан в местной газете). Молодой парень стал на большой дороге с ножом. Шел обоз. Парень ткнул ножом первую лошадь, и вторую, и третью, и так переметил весь обоз, а сам ничем не воспользовался.
Множество подобных случаев рассказывали в «Капернауме», и всегда было в них одно и то же: ребята молодые, действуют бескорыстно и средствами из ряда вон выходящими. Во всем есть что-то фантастичное, а главное, чужое, нездешнее, постороннее человеку земли, скромному труженику. Откуда у него такая странная, дикая фантазия?
Конечно, тут книга виновата, что-то вычитанное… Прочитав книгу, мальчики бегут в неведомую страну, взрослые мальчики из народа начинают странствовать, искать невидимый град.
Какая же тут книга, какая идея?.. Да, конечно же, все тот же Пинкертон, все эти рассказанные случаи так пахнут Пинкертоном…
Я не давал свои объяснения в «Капернауме», они сами, первые, назвали Пинкертона виновником необузданной, дикой фантазии теперешней деревенской молодежи, они мне это доказывали, сравнивая типичные новые жесты, манеры деревенских ребят с жестами героев Пинкертона.
– Азия, – сказал кто-то из «Фракции».
– Нет, батюшка, это Европа! – ответил русский человек.
И начался в «Капернауме» спор об Европе и Азии.
О смирении
Приехали националисты, депутаты от нашего края, читали о Финляндии, Польше, евреях <…>. Интерес поднялся на минуту, когда заговорили о ритуальных убийствах, но и этот вопрос националисты постарались стушевать, оставляя для будущего двери открытыми: с одной стороны, конечно, «кровавые наветы» и прочее – дело нехорошее, но, с другой стороны, почему бы не быть таким убийствам: «существуют же у всех народов всевозможные изуверские секты».
Ничего яркого, волнующего скучную провинциальную жизнь, депутаты не сказали, прочли, раскланялись и уехали. Между тем в ожидании их лекции большое оживление было в «Капернауме». Куда любопытнее лекции было послушать рассуждения купцов-подрядчиков, ремесленников в трактире.
Среди посетителей «Капернаума» есть несколько евреев, типа тех «талмудистов», которых можно встретить в глубочайших недрах России, где-нибудь, например, на Мурмане или Печоре, и в отвлеченной беседе о природе человеческой, о боге с каким-нибудь агентом Зингера отдохнуть душой. Русские в «Капернауме» разделяются на крайне-левых и крайне-правых; те и другие беседуют друг с другом благодаря особенности темы, а тема эта в большинстве случаев – Христос. Левые все хотят доказать, что бог существует в общественности неимущих людей, – левые социалисты, бедные люди. Правые, все – люди богатые, церковники, но совесть их часто взбаламучена несогласием бога, покровительствующего имущему, с Христовым учением.
По случаю приезда националистов, конечно, все эти люди собрались в «Капернауме» перед лекцией и отправили трактирного мальчика купить им билеты.
– Конечно, в основе всего – национальность, – сказал талмудист. – Моисей и пророки все до одного за народ стояли, за кровь, шли они с мечом и огнем, а не то чтобы как-нибудь тихо и смирно. Только вот один Христос – исключение, но ведь и не живут, как учил Христос, церковь устроила для жизни дело Христово, и, стало быть, в основе опять-таки – национальность.
– Пророки, известное дело, были суровые люди, – подхватил и по-своему стал толковать стекольщик Сергей Иванович, левый и неимущий человек. – Вот, например, пророк Елисей. Дети кричат ему: «Лысенький, лысенький», – а он и напустил на них медведицу!
– Не горюй, Сергей Иванович, – сказал другой левый и передовой. – Не горюй, этого не было!
– Как не было! Давайте Библию, сейчас покажу!
Буфетчик достает из-за прилавка Библию и почтительно преподносит ее Сергею Ивановичу.
– Вот медведица, да еще и не одна, а две!
– Ну, что ж, все равно этого не было.
В таком роде и начался разговор «о национальности» и о том, что националистские депутаты, подобно древним пророкам, идут с огнем и мечом, а не с христианским смирением; а если со смирением ничего не поделаешь, то, стало быть, где же Христос?
Спор, наверно, разбежался бы в конце концов ручейками и сошел бы на нет, если бы один молодой человек, очень левый, проникнутый учением Толстого, не сказал бы:
– А все-таки русский народ смиренный.
– Русский народ смиренный? – с насмешкой переспросил деловой человек.
– Конечно, смиренный. Вот, например, какой расчет ему, нищему, сидеть у земли? Ясно, что ему выгоднее бросить и уйти от нее, а вот он все сидит и кормит нас с вами.
Это был lapsus linguae со стороны толстовца: нет ничего опаснее иллюстрировать идею христианского смирения на примере смирения русских мужиков.
– Провокатор! – крикнул до глубины души оскорбленный Сергей Иванович.
Толстовец вовсе не провокатор в жизни, но тут, в трактире, среди большинства крайне-правых, слова его, конечно, сейчас же были использованы: церковники по-своему заговорили о «смирении».
– Черносотенцы, погромщики! – закричали левые на правых.
– А вы – подкидыши! – заревели смиренные. – У вас ни отцов, ни матерей нету.
Потом начался шум невообразимый: кто-то кого-то обвинял в разгроме женской гимназии, кто-то настойчиво доказывал незаконнорожденность Сергея Ивановича, и тот обещался «смазать»: «Молчи, – смажу! Замолчи, – смажу!»
С изумлением следил я за спором, стараясь понять, как слово «смирение» и даже «христианское смирение» могло вызвать подобные страсти. Мне припомнился спор в Петербурге в одной из фракций Религиозно-философского общества. Помню, читался доклад о «совлечении и нисхождении». Мысль докладчика состояла в том, что русский народ, воспитанный православной церковью, стремится не к земной жизни, материальной, а к духовной, небесной, достигая этого упрощением своей жизни («нисхождением и совлечением»). Развивая эту мысль, докладчик приходил к тому заключению, что русский народ, воспитанный православной церковью, выработал в себе пассивное отношение к общественности, гражданственности и что в конце концов придут некие и поработят этот пассивный народ. Кто-то в кружке понял «совлечение и нисхождение» по-своему и выразил своими словами как «смирение и покорность». Ужасно возмутился этим искажением докладчик, он говорил о христианском смирении, а его поняли совсем иначе: смирение и покорность, как известно, были основами крепостного строя. Помнится, и тогда поднялся, как и теперь в трактире, беспорядочный спор с «личностями», но само собой, конечно, в более благопристойных формах, чем в «Капернауме».
Кто же виноват в таком смешении чудовищно противоположных понятий, как смирение христианское и смирение обыкновенное, смирение как средство приобщения к жизни небесной и другое смирение, результатом которого является усиленное, напряженное желание жизни земной? И как быть теперь с этим опасным словом в общежитии? Слово необходимое, а скажешь как-нибудь неловко в «Капернауме», подобно толстовцу, и вдруг еще кто-нибудь «смажет».
Бог знает чем окончился бы спор смиренных и подкидышей в «Капернауме», если бы не возвратился мальчик с билетами на лекцию националистов; все стали получать свои билеты и успокоились.
– А фамилия-то иностранная! – увидав на афише имя одного депутата, ядовито сказал подкидыш смиренным.
– Ничего, – ответили ему, – инославным виднее наши дела.
О пятках и носках
Писать о хорошей стороне жизни невыгодно: материал скоро истощается.
– Что вы мало пишете? – спрашивают меня.
– Материалов нет.
– Как же так? Кругом безобразие, а у вас материалов нет?
«В самом деле, – размышляю я, – не написать ли о безобразии, сколько уж лет тружусь над хорошим, и не единого письма к автору от читателя».
Захожу в трактир, слышу – рассказывают о свинье, как мужики ночью пообещались зарезать кого-нибудь да свинью и зарезали. Спрашиваю:
– Почему такое безобразие? Отвечают:
– Это пахнет Пинкертоном.
Я и пишу о безобразии и как сам народ его понимает: «Пахнет Пинкертоном».
Кроме простого опыта писать в новом жанре, мне казался факт любопытным со стороны своей окраски (фантастической) и что сам народ отмечает это. А если знать, что в настоящее время беллетрист склонен писать субъективно как-то, а публицист на основании вырезок из несчастных наших провинциальных газет, то факт безобразия, помимо личной моей выгоды опыта, представляется ценным, как непосредственно наблюденный факт. Ну, словом, и я, уступая пессимистическому настроению интеллигента в настоящее время, написал о безобразии.
Я через несколько дней захожу в читальню и глазам не верю: во всех газетах безобразие перепечатано со всевозможными комментариями. Так вот, стало быть, о чем надо писать, вот что важно, а я-то, я-то… Прихожу домой: письма к автору, наконец-то, наконец, желанные письма к автору.
Не Пинкертон виноват, – пишут мне (кстати, я от себя и не давал никакого объяснения), – а революционер. Не революционер, – пишут в другом письме, – а провокатор. В третьем письме жалуются на одностороннее освещение мною жизни: рядом с озорничеством в современной деревне существуют кружки самообразования, театр и множество других вкусных вещей.
Словом, отмеченный мною факт безобразия заинтересовал людей всех партий и сразу мне дал то, чего я много лет напрасно добивался путем описания трогательных сторон русской жизни. Теперь путь найден, материалов же такая масса, что я на первых порах ставлю ориентирующий вопрос: «Какие безобразия выгоднее всего описывать?» Ответ ясен: мужицкие безобразия выгоднее, ибо мужик глуп, а возле глупого умному гораздо свободнее. Припоминается мне что-то из Шекспира по этому поводу, но точно я не могу привести слова Гамлета. Иду искать в своем городке Шекспира, захожу в одну библиотеку – нет Шекспира, захожу в другую – тоже нет, наконец попадаю к одному человеку.
– Позвольте мне на минутку Шекспира.
– А возьмите хоть совсем, я Шекспира читать больше не буду.
– Почему же не будете?
– Да что же хорошего в нем. после разоблачений Толстого какой же интерес может быть в нем? Человечество ошибалось в оценке Шекспира, я не хочу повторять ошибку, – король гол.
В провинции от самоучек я не раз уже слышал подобное, спорить не стал и принял Шекспира с благодарностью. Вот слова Гамлета:
«За последние три года век наш так обострился, что носок мужицкого сапога касается пятки аристократа и начинает бередить в ней ссадину».
Раздумываю об этом и начинаю искать носок и пятку в русской жизни. Носок сразу мне дался: провинциал, не признающий Шекспира, конечно, самый острый носок, но пятка мне не сразу далась, я припомнил множество неинтересных, чисто зоологических пяток, которым отрицание Шекспира не причиняет ни малейшей ссадины. Наконец я вспомнил об одном господине, доказывающем, что русского народа вовсе нет. Совершенно так же, как носок говорит (начитавшись Толстого), что Шекспира нет, так же и пятка дает сдачи: русского народа нет. Детская перебранка с обратной: «Тебя нет!» – «Тебя самого нет!»
Я не сочиняю людей для символов. Я мог бы с фактическими данными в руках представить здесь душевную картину этого господина в последовательном развитии его от славянофильства, от горячей веры в народ-богоносец и до предпоследней его ступени, когда он писал обвинительный акт русскому народу (дома, для себя), и, наконец, до последней ступени, когда он твердо сказал на основании исторических, археологических и этнографических изысканий (комнатных), что русского народа нет, король гол.
Стало быть, по одной стороне Шекспира нет, по другой – народа нет. Я не буду анализировать глубже эти факты; быть может, если бы углубиться в существо вещей, то очень возможно, что человек, отрицающий русский народ, в глубине существа своего больше его утверждает, чем не признающий Шекспира, и, наоборот, душа самоучки ничего не содержит народного, а вся для Шекспира, только не понимает своего назначения. Я не о существе вещей, а все о том же своем безобразии: куда же он при такой обостренности в наш век отношений интеллигента и человека из народа попадет, что с ним будет там, в этой гуще? Потом нужно всегда иметь перед собой и не одни только духовные носки и пятки, а и зоологические, где всякий и дурной факт о народе используется съедобно, где ссадины бывают настоящие, кровавые.
Из всего этого вывод такой: о безобразии писать очень выгодно, но беспокойно для совести, особенно беспокойно в то время, когда для отрицания Шекспира не требуется силы Толстого и для горьких слов о народе – беззаветной любви Успенского.
Что же делать мне, скромному наблюдателю? Какие факты текущей жизни отмечать? Писать о хорошем – читать не будут, писать о безобразии – беспокойно для совести (всем почему-то хочется безобразия).
Не испробовать ли мне третий путь, написать немножко о хорошем, немножко о дурном, кстати, это поможет и больной пятке аристократа…
Круглый корабль
Кто бывал у святых колодцев, где поклоняются чудотворным и явленным иконам, замечал, конечно, что верующие люди, искупав младенцев, оставляют их рубашки и крестики тут же, у колодца, на ветках ближайших деревьев. Крестики потом, конечно, падают на землю. И есть в народе такая примета: найдешь крест с лицевой стороны – он сам придет, найдешь с исподней – нужно его искать…
Я слышал эту легенду недалеко от Оптиной пустыни и вспоминаю теперь в Петербурге, раздумывая о последних трех или четырех годах своих наблюдений. Между моими знакомыми есть люди, верующие так ясно и просто, что кажется, будто Христос к ним сам пришел, а есть ищущие, и из этих ищущих для многих стоит глухая стена.
1. Иванушка
Прошлый год я был на Рождестве у братца Иванушки и стоял в громадной толпе пьяниц, проституток и трезвенников, начавших при помощи братца новую, хорошую жизнь. Иванушке нужно было как-то доказать нам, что Христос родился без плотского греха, от чистой девы. Должно быть, это была ему очень нелегкая задача. Он волновался, разводил руками, приводил всякие примеры. Как ни кинь – все выходило, что человеку без греха никак нельзя родиться.
– А все-таки он родился без греха, – сказал братец.
– Без греха, дорогой! – ответила толпа.
– Слышите, – показал братец на окно, – гармонья играет, пьяницы идут с разными музыками.
– Прости, дорогой! – сказали в толпе.
– А вы собрались без музыки и пьянства, без греха, вот он и тут!
– Тут, дорогой!
И правда, нечаянно, негаданно явился Христос в это собрание. Каждое слово, сказанное братцем, после того как поняли, что он тут, было великой милостью. Все жадно ловили, будто пили, его простые, не имеющие в записи никакого значения слова.
– Вы тут были и пили! – сказал в заключение братец.
– Напоил, напоил, дорогой, – отвечала толпа.
Под конец все по очереди пошли прикладываться к образу, который был около братца. Прикладывались, однако, не к образу, а к руке братца и даже к его одежде. Уходили из дома со светлыми лицами, получив пузырек масла, ладан и по две медных копейки.
– Не объедайтесь! – было последнее слово братца.
Он ушел. Электрическая лампочка, освещавшая сверху его лицо, погасла.
Что же было сказано? Вспоминал я потом и ничего особенного не мог вспомнить. Сказано не было ничего. Все вышло само собою. Христос пришел к этим людям сам. Крестик был найден с лицевой стороны.
Моему представлению этого собрания мешает звук вентилятора, слышанный в этой зале, и электрическая лампочка над головой брата. Мысленно я отодвигаю это собрание в Керженские леса, на холмы озера Светлоярого, где скрыт от грешников град Китеж. Я вспоминаю ночь, проведенную среди людей, ожидающих утреннего звона в невидимом царстве, и свои какие-то неясные думы. Я был где-то в давно пережитых веках и смотрел оттуда на здешний мир. И в моем воображении в эти русские леса приходил какой-то светлый иностранец не с одним электричеством, а со словами утешения этим людям-призракам, фатально лишенным общения с миром. И казалось в эту ночь, что открывается какой-то путь от керженской сосны до эллинской статуи. И вот, если бы в эту ночь явился на Светлое озеро Иванушка и загорелась над его головой электрическая лампочка, то и она светила бы в тайном согласии с его немудреными словами.
2. Светлый иностранец
– Наша беда, – говорил изящный хозяин, – в том, что это не мы, а говорить мы так должны, будто это мы…
– Ложь? – спросил молоденький студент.
– Нет, – ответил наш культурный хозяин, – не ложь, потому что я верю, что за нами явятся те, которые будут говорить, как и мы, но только те будут настоящие. Мы же так пройдем, что-то начнем и уйдем.
Юноша студент, очарованный хозяином, таким серьезным и далеким от толпы, просит указать путь к Христу.
– Церковь, – отвечает хозяин, – вспомните детство, когда вы верили, свое прошлое и других, передумайте историю, начиная с себя.
– Не могу, все как-то растеряно, – сказал студент.
– Есть и другой путь, – ответил хозяин, – скажите мне, что вы любите в искусстве, в литературе?
– Кнута Гамсуна! – выпалил студент. Наш хозяин улыбнулся. Ему, классику, последний крик европейской литературы был неприятен.
– Нет, – сказал хозяин, – новейшую иностранную литературу я не люблю, назовите что-нибудь из русской.
– Из русской, – задумывается студент, – из русской больше всего я люблю декадентов.
Это еще было хуже для нашего хозяина.
– У вас дурной вкус, – сказал он, – поймите раз навсегда, что по форме русская литература не ушла дальше «Капитанской дочки» Пушкина. Читайте это, учитесь понимать красоту в простоте. И когда вы себя к этому приучите, то увидите, что самое простое и совершенное творение есть Евангелие. Вы полюбите его, и вам откроется другой путь…
– Все равно, – ответил студент, – я никогда не пойму тайну воскресения Христа во плоти, не духовно, а во плоти.
Хозяин переглянулся с бывшими в комнате богословами, проповедующими в обществе новое религиозное сознание. «Как, – спрашивал он, – отвечать на такие наивные, но неизбежные вопросы?» Стали разбирать, что значит слово «плоть». Воскресение плоти, – объясняли ученые юноше, – только тогда понятно, если исходить не из материалистического мировоззрения. Тогда и слово «плоть» будет значить нечто другое.
– Теперь, – говорили ученые, – новейшие гносеологи как раз и работают над этим вопросом.
И разговор принял специальный философский характер.
В бесконечной осложнённости этот и другие разговоры из квартиры нашего хозяина переходили в Религиозно-философское общество. И там каждый отдельный оратор высказывал свое особенное мнение о вопросе согласования религии и культуры, русской культуры и мировой. Все, о чем спорила когда-то русская интеллигенция на почве материалистического и идеалистического миросозерцания, тут выступало в новом освещении религиозно-философского сознания.
Прошло много таких собраний. Тот молоденький студент стал говорить смело о грехе, об искуплении, о человекобожестве, и богочеловечестве, и богосыновстве.
«Но что, – спрашиваю я себя, – сталось с образом того светлого иностранца, который мне виделся в Керженских лесах?»
Не могу сказать, чтобы он совершенно исчез, но он как-то распылился на много отдельных личностей, и перед каждой из них, несмотря на всю утонченность и искренность исканий, была будто непереходимая пропасть в сознании того, что он делает не общее, а частичное дело. А дело Христово – ведь цельность прежде всего.
Христос к этим людям, как они ни стремятся к нему, сам не приходит, крест ими найден не с лицевой, а с исподней стороны.
3. Чан
На эстраде залы, где происходили религиозно-философские собрания, часто поднимался спор о русском народе. Одни говорили, что русский народ вообще склонен к упрощению жизни («нисхождению и совлечению»), другие, напротив, указывали на сектантскую и староверческую напряженность религиозной воли. Одни говорили, что народ и интеллигенция есть одно, другие, напротив, будто между народом и интеллигенцией такая пропасть, что ноги поломаешь, когда доберешься. Все эти, в сущности, очень простые и общеизвестные интеллигентские разговоры, облеченные в ткань новейших религиозно-философских терминов, неподготовленному человеку не так-то легко были доступны для понимания. Между тем один из присутствовавших в зале, по виду совершенно простой и необразованный человек, до того, кажется, все хорошо понимал, что оратор только откроет, бывало, рот, а он уже смеется, да так ехидно, как настоящий сатир.
– Чего вы смеетесь? – спросил я его однажды, выходя с собрания вместе с ним на улицу.
– Да как же мне не смеяться, – ответил сатир, – разве можно, как они хотят, все звезды по одной пересчитать? Надо найти звезду одну, настоящую, а потом и считать не нужно.
– Настоящая звезда – бог? – спросил я.
Он хихикнул.
– Вот и вы тоже про бога, – сказал он, – оставьте вы его в покое. От бога остался только звук, – сказал он через некоторое время серьезно. – Мы заблудились в диком темном лесу, напугались, стали звать бога. Этот наш звук услыхали, явились к нам с факелами и стали говорить: «Я знаю бога, я знаю бога». И повели за собой. «Где же он?» – спрашивали странники вожатых. «На небе!»
– Смеяться тут нечего, – сказал я сатиру. – попробовали бы сами распутать узел.
– Очень просто, – ответил он, – людям нужно пуп отрезать от неба, чтобы они были на земле и чтобы знали одно: бог на земле.
– Значит, вы отрицаете культуру, – сказал я, – как же быть без культуры?
– Да никак, – ответил сатир, – ваша культура теперь вся распукалась, так сама и развалится.
Не помню, когда еще в своей жизни я встречал такие неожиданности: сатир вдруг превратился в пророка. Человек, исходивший русские леса, степи и горы, теперь шел по Невскому проспекту и говорил, как пророк:
– Свершился круг времен: прошла весна, лето, наступает время жатвы. Чающие бога скоро предъявят иск обещающим. Спросят чающие обещающих, а у тех не бог, а звук. Время жатвы приблизилось. Нивы побелели. Грачи табунятся.
Маска сатира была сброшена, передо мной был человек, до того презирающий культуру, до того верящий в какого-то своего бога здесь, на земле, страшного, черного, что те уважаемые ученые и талантливые люди на эстраде клуба казались малюсенькими пылинками, поднятыми случайным ветром перед ураганом.
Этот сатир-пророк, узнал я, не затем ходит в наше Общество, чтобы учиться, а хочет привлечь на свою сторону интеллигенцию.
В них есть что-то большое, – говорил он, – в них есть частица того, что и у меня, но только они с небом играют… Шалуны! – не раз повторял сатир-пророк.
Слушая этого сильного человека земли, я не раз мысленно сопоставлял его с образом моего светлого иностранца. «Что, если бы они соединились в одно, – думал я, – и есть ли пути к этому?» Так, увлекаемый любопытством к тайнам жизни, я попал куда-то на окраину Петербурга, в квартиру новой, неизвестной мне секты. В душной, плохо убранной комнате за столом сидел старый пьяница и бормотал что-то скверное. Вокруг за столом сидели другие члены общины с большими кроткими блестящими глазами, мужчины и женщины, многие с просветленными лицами. Между ними был и пророк с лицом сатира, посещающий религиозно-философские собрания.
– Я – раб того человека, – сказал он, указывая на пьяницу, – я знаю, что сквернее его, быть может, на свете нет человека, но я отдался ему в рабство и вот теперь узнал бога настоящего, а не звук…
– Как же вы поверили? – спросил я, с отвращением вглядываясь в лицо пьяницы.
– Как я в это чучело поверил? – сказал сатир.
Он рассказал свою биографию. Когда-нибудь и я расскажу о русском купце, бросающем свое положение, семью, все, скитающемся в степях, в лесах в поисках истинного бога.
– Я убедился, что ты более я, – сказал пророк, – и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами.
– Нет, мы должны знать вперед, ради чего мы умрем, а то как же поверить, что воскреснем, – сказал я.
– Воскреснете! – хихикнул сатир. – Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану выварились, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мысль, всякое желание знаем друг у друга. Бросьтесь в чан и получите веру и силу. Трудно только в самом начале.
Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми. Пьяница, – узнал я подробности, – не только пользовался имуществом и заработком своих людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен, и они покорно отдавались не чучелу, а богу, который в нем живет. Так жили эти люди. Я не упускал их из виду более двух лет, и на моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо, – и выбросили чучело, прогнали пьяницу.
Уступая просьбам пророка-сатира, я знакомил его с вождями религиозно-философского движения. Все признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим. Но никто из них не пожелал броситься в чан.
– Шалуны! – сказал сатир и куда-то исчез.
* * *
Я люблю Иванушку с его древним и похороненным теперь православием. С волнением вглядываюсь в попытки светлого иностранца начать у нас возрождение и трепещу, созерцая трагедию чана. Но вот что меня выводит из себя и заставляет сердиться. В последнее время начали всплывать на поверхность столичной говорящей и пишущей «братии» самозванцы из народа. Они, получив способность к членораздельной речи от той же самой интеллигенции, обливают ее помоями и все как бы от имени народа. Сами они только что разорвали связь с народом, не замечают этого, не понимают всей сложности души культурного человека и требуют от него невозможного: забыть свою личность и броситься в чан.
Вот одна из таких книжек, на обложке которой изображен разбитый тонущий корабль. Другой неясный корабль выступает из тумана. Первый корабль – символ интеллигенции, второй – народа. Смотрю на эту обложку и думаю, какой же этот новый народный корабль. Мне вспоминается мое путешествие по Северному Ледовитому океану с поморами на рыбацком судне. Моряки тогда рассказали мне, что во время Парижской выставки один помор-судостроитель решил представить туда русский корабль невиданной формы. Долго думал архангельский помор и наконец решил сделать корабль круглым и самому отправиться вокруг Скандинавского полуострова в Париж. И выехал… Круглый корабль проплыл благополучно горло Белого моря, но в океан не вошел. Последний раз его видели лопари у Святого Носа.
– Хороши невиданные круглые корабли, – просятся у меня злые слова в ответ на обвинения самозванцев из народа, – но только такие корабли тонут.
Назад: Новые места
Дальше: Комментарии

