Книга: Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
Назад: Глава VI. У варягов
Дальше: Глава II. Година Варнавы
У стен града невидимого
(Светлое озеро)
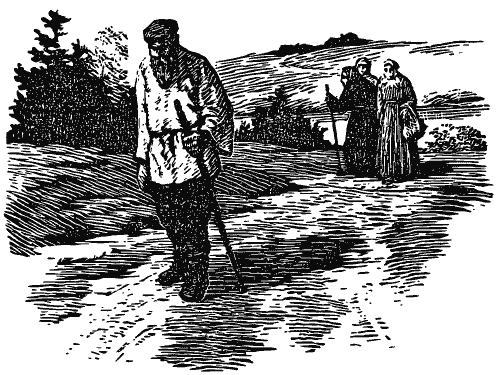
Глава I. Черный сад

Весна. Новая жизнь на истлевших листьях и навозе. Чего же больше? Что откровеннее?
Хорошая грязь, черноземная. Земля оттаяла под снегом. Из каждой проталины валит пар. Земля дышит. Дон пошел.
Я думаю о том неизвестном мне заволжском крае, куда мне предстоит ехать летом. Это решено, я туда еду. Пусть все там изучено, пусть все известно, но я-то почти ничего не знаю. И меня почти никто не знает на свете. Я оторву кусочек большого таинственного мира и расскажу другим людям по-своему.
Последняя причина моего путешествия в страну раскольников и сектантов – слышанные мною диспуты на религиозно-философских собраниях в Петербурге. Я там встретил несколько искренних и взволнованных людей. И во мне что-то отозвалось, и мне захотелось также по-своему оглянуться по сторонам. Что скажут о всем этом наши старые лесные мудрецы? Есть вечные вопросы, которые не очень зависят от образования и внешних различий между людьми. Что останется от всего слышанного мной, если я проверю его в беседе с мудрыми лесными старцами? Я люблю лес, люблю северную природу; пусть она заговорит для меня новым голосом. Июнь – более свободный месяц для крестьян – я решил посвятить своему путешествию, а весну мне нужно было провести на родине, в Орловской губернии, в маленьком имении.
Весна. Июнь далеко. Но как только я въехал в родные места, так и началось это путешествие в невидимый град, – и с этого я начинаю свой рассказ.
Хозяйку имения, куда я еду, мы прозвали «маркизой», потому что у нее серебряная голова и вообще величественный вид. Усадьба, где она живет, старинная барская, тургеневская. Липы, вишневые сады – все сохранилось, но земли чуть-чуть; за это и за доброту маркизы крестьяне пощадили усадьбу во время разгромов и не сожгли.
Родная земля… Я хотел бы поцеловать ее… Но у нас в бедной равнине не принято выступать с такими чувствами: полынь и татарник по обеим сторонам дороги, тощий кустарник. Другое дело радостно оглядеться кругом, вширь, вдаль.
В весеннем мареве дрожат маркизины далекие липы, разъединяются, соединяются, поднимаются в воздух. Равнина бескрайная. Журавли летят.
Ближе деревья. Белая ограда – как прежде, каменные столбы – как прежде, большой двор, колодец с кругом, серый деревянный дом, зеленая крыша, галки на трубах, кривые сучья лип – все, как прежде.
Балкон забит. Через двойные рамы видна серебряная голова, угадываются знакомые глаза поверх очков. Ждет.
– Все по-старому?
– Все, все по-старому.
Но будто темнее в комнате, будто липы ближе подступили к окнам старого дома.
– Что-то темно…
– Старею. Сад зарастает.
В гостиной, в столовой – везде ночные тени от сада. Липы ближе.
Проходят первые дни.
Весна запоздала. Жаворонки померзли. Соловьи запели в голом саду. Этого старожилы не запомнят. Маркиза брюзжит. Обыкновенно она не любит говорить о природе, да и некогда: хлопоты, хлопоты без конца. Но если там, в саду, выйдет какая-нибудь заминка, то сейчас же расклеится. Слыханное ли дело, чтобы соловьи пели в голом саду? Но спросить не с кого, нельзя рассердиться, разбраниться, отвести свою душу. И маркиза брюзжит.
А соловьи поют. Деревья черные, как мертвые. На зеленом ковре и на голых кривых ветках далеко видны серые, хуже воробьев, птички с булькающим горлышком. Когда поет соловей в одетых деревьях, то трепещет зеленое сердце сада и откликаются соловьи всех времен, потому что все сады и все соловьи одинаковы. В зеленом саду соловью все помогает. Но тут, на голых ветках, он один, поет сам по себе. Подойдешь почти к самому – не слышит.
Откуда это пришло? В саду маркизы, мне кажется, соловьи поют о том, что все люди прекрасны, невинны, но кто-то один за всех совершил тяжкий грех.
Дни идут. Сад одевается. Фиалки, черемуха, зеленая пыль в воздухе и висячие мостики от дерева к дереву. Но не могу я забыть соловья в голом саду, и все кажется, что в саду маркизы скрыто не простое и не зеленое сердце.
Я не могу отвязаться от мысли, что соловей поет о грехопадении. Тоска. Тесно.
Весна не ждет, проходит. Хоть что-нибудь удержать для себя!
У меня нет Росинанта. Все маркизины лошади, с клочьями шерсти, худые, двоят землю под картофель. Иду пешком. Просторно. Далеко впереди блестит крест. Плавает коршун.
Простор и ширь. Не нужно только смотреть себе под ноги, потому что тогда все пропадает. Тут что ни шаг, то стенка сухой полыни, отделяющей одну жизнь от другой. Вся эта земля изрезана на мелкие полоски, тут борьба за сажень. Людей не видно, оттого что они собрались в большие села. Тут теснее, чем у маркизы. Но я не смотрю себе под ноги.
Людей поскорее!
И вот на зеленом лугу показались бородатые люди. Лежат на овечьих шкурах, пасут табун лошадей. Луг еще не выгорел от солнца, покрыт пестрыми цветами. Люди на нем – будто боги у Гомера.
Славные ленивые боги! Иду к ним с раскрытой душой. И луг, и старое жнивье, и нечесаные бороды, и десятки устремленных на меня глаз, и насторожившийся табун – все с детства знакомо. Лучше всех перепелиный охотник.
Много вечерних и утренних зорь мы провели с ним в тихом ожидании крика птиц у края полей возле сети. Дома он бог, окруженный дикими птицами, которых сам к себе приучает: перепелами, куропатками, соловьями. В полях он бог, внимающий всему одинаково: и травам, и птицам, и погоде. Везде он со своими пустяками, везде со своими рассказами о леших – и везде он бог.
Белый дед в шляпе колпаком, мудрец, ходок, с большою кривою палкой, впереди всей толпы перед балконом маркизы – все такой же. Архип, Семен, Илья, Иван – для всех одинаковые, но для меня очень разные: как же, один Архип, а другой не Архип, а Семен с неширокой бородой, не лопатой, а клином, третий и вовсе не такой, он Илья; для всех одинаковые мужики, а для меня веселые, угрюмые, строгие и легкомысленные, разные, всякие.
Мне расстилают овечью шкуру. Товарищи детства узнают, вспоминают, как вместе грабили яблоки в саду маркизы, вместе погоняли лошадей на молотилке, карасей удили.
Через мозолистую стену годов открывается окно в страну обетованную. Бегают там, кружатся светлые боги зеленые.
Но там же были и черные боги. За оградой, на кладбище, есть церковь, и в ней их много. Мы раз хотели пробраться туда и ударить в набат. Стали подниматься по ступенькам на колокольню. А на лестнице была тяжелая железная дверь. Что там за ней? Открыли мы… Темно… Какие-то ризы, иконы. Взяли одну – и на свет. Просто черная доска. Стали протирать пыль. И вдруг показались глаза… Да какие…
По могилам за ограду, скорей, скорее в сад… Остановились было, а тут, должно быть, еж под яблоней фыркнул. Бежим опять, а за нами-то икона черная, безликая, с глазами.
Кружатся весенние клубы света, рассыпаются искрами. Скатываются по склонам зеленые шары вниз, к потоку. Как след остаются от них по лугу большие, как солнце, цветы. А на краю горизонта, за старым прошлогодним жнивьем, глядит сюда черный безликий бог, с глазами.
– Ну, как же вы теперь живете?
– Плохо…
Жалобы, жалобы, жалобы…
– А раньше, помните?
– Как же.
– Раньше по-божьему жили, – говорит за всех белый дед, ходок.
– Так почему же теперь-то? Кто виноват? Кто согрешил?
– Господа обидели!
– Правительство.
– Японец навалился!
– Врешь, – сказал белый дед. – Врешь, бога забыли.
Вдруг перепелиный охотник вскочил и стал быстро говорить. Он никогда раньше не говорил ни о чем, кроме птиц. А теперь говорит, что больше терпеть уж нельзя:
– Во-о где! – показал он на шею. – Нельзя, потому что ребятишки.
– Терпи! – говорит дед.
– Нельзя, ребятишки!
Мне показалось, будто бессловесный добрый зверь вдруг по-человечески два-три слова провыл. И всем, должно быть, так показалось. Помолчали.
– Кроволитие будет! – шепотом сказал кто-то.
– И такое кроволитие, такое кроволитие, какого свет не видел.
Тут к нам сбежались чумазые, лохматые дети… «Да неужели же и мы такие были? – приходит мне в голову. – Не может быть». Хочется думать, что мы были красивые, свободные, не такие. Теперь не так, как тогда.
– Ну, так кто же вывел человека из рая?
– Змея вывела, – ответили чумазые дети.
– Не змея, а диавол во образе змия, – поправил их белый дед.
Земля готова, хорошая, черная. Картошку сажать!
Маркиза надевает валенки, полушубок на козьем меху, закутывается дырявым вязаным платком, спускается в подвал. Там бабы режут пополам картошку для посадки. Маркиза сама наблюдает за работой, тоже чистит картошку вместе с бабами целые дни. У нее с этими бабами много общего, хватает разговоров с раннего утра и до позднего вечера.
Я люблю иногда спуститься в эту гостиную в подвале, прислушаться к говору. Мне тогда кажется, что это куры собрались возле картофельных куч. Маркиза тоже огромная курица. Квохчут и квохчут.
Раз прихожу, и вот раскудахтались:
– Матрену подковали!
– Как подковали?
– Лошадь чужая, сердитая повадилась бегать на «улицу» народ «пужать». Илья говорит кузнецу: «Лошадь ли то бегает? Не обернулся ли кто?» – «Очень просто, что обернулся», – сказал кузнец, поймал вечером лошадь и подковал. А вскорости Матрена в больницу пришла: выньте, просит, из ноги щепку. Вынули, а ин не щепка, а конский гвоздь. Вот и узнали, кто лошадью на улицу бегает.
Дня два говорили про Матрену, потом стали толковать о «попах»: квох, квох, квох. Попы! Новые попы оказались в деревне: икон не почитают, мощам не поклоняются, в церковь не ходят.
– О, боже мой, боже мой!
– Бродили где-то крещеные и веру потеряли. Стали книгу читать. Он их и завел.
– Кто?
– Шутяка. Он заведет!
Теперь в церковь не ходят. Попу отказали. Божию матушку не приняли.
– Где они живут, кто они такие, я к ним пойду.
– Не ходи, не ходи, – закудахтали все, – они тебя в свою веру перезовут.
Но я иду в Алексеевку. Я хочу видеть сектантов. Здесь никогда не было сектантов, на этой моей родной земле. Говорят, они здешние: простые мужики, ходили на заработки и вернулись сектантами. Какие они?
В Алексеевке перед избою сектантов толпятся бабы, слушают пение перед открытым окном. Болтают:
– Возле их избы что-й-то жутко.
– Из себя какие страшные стали.
– И отчего-й-то в их избе голова кружится.
– А поют что…
Поют знакомое из детства, холодное: «О ты, в пространстве бесконечном». Да это же бог. Державинский бог! «Я царь, я раб, я червь». Ода Державина, распеваемая с религиозным благоговением нашими мужиками. Что это значит? Вхожу.
Это не те, знакомые мне мужики. Это не обыкновенная изба с земляным полом и соломой, с курами, с телком и поросенком. Тут чисто, светло. Занавески, белые стены. Много всего такого. Но чего-то главного нет. Чего это? Да, икон. И это самое главное. Оттого, что нет икон, все не так.
В деревянной иконе таилась какая-то чудодейственная сила влияния на мир мертвых вещей. Сектанты наши же мужики, но в них теперь будто вставлены железные прутья. В глазах неустанно мелькают крылышки мельницы, перерабатывающей слово божье. И тут же возле сидит обыкновенный козлоногий мужик, думает: не поддавайся, брат, он заведет.
– Так вот вы как живете!
– Живем по слову божию, как Христос учил, как апостолы.
Вместо иконы в углу лежит на столе Библия и еще раскрытая книга «Гусли», откуда и поют сектанты державинскую оду.
– Садитесь.
Входит лавочник с красным кривым носом.
– Пришел, – говорит, – полюбопытствовать. Бога потеряли и народ смущают, а ответа им настоящего дать никто не может.
– Мы веруем в бога, мы христиане.
– Какая ваша вера. Детей не крестите, икон не почитаете, мощей не признаете. А наша-то вера самая правильная, по нашей вере святые угодники спасались. Эх вы…
– Никто, кроме бога, не может узнать, кто святой, кто грешный, – отвечает один сектант.
– Нельзя от себя, – поправляет другой, – почитайте из Библии.
Наш стол вроде кафедры. Проповедник в шитой рубашке читает текст за текстом.
– Да, да… вот еще…
– А ты от себя, – сердится лавочник.
– Прочтите им, отчего нельзя от себя.
И опять тексты. Старая черная икона сошла со стола, превратилась в Библию и заговорила, и заговорила. Непрерывно мелькают чаетенькие крылышки мельницы в глазах сектанта, и сыплется, сыплется слово божье…
– Будет! довольно! – кричит лавочник. – Вы же не креститесь…
– Христос крестился в тридцать лет.
– А как же до нас крестились? Мы от священника, священник от архиерея. А наверху помазанник.
– Отдай богово – богови, кесарево – кесареви.
– Помазанник. Слышь! – и вышел как победитель.
Помолчали.
Мужик, обыкновенный серый, спросил сектантов:
– Да ведь бог же изобрел человека?
– Бог, – ответили ему.
– Бог, – опять сказал мужик, – а как-то чудно: помрем.
– Ваша радость на земле. Помрете, как животные.
– Ка-а-к животные! – согласился мужик. Опять помолчали.
– А что, Егор Иванович, – снова спросил лавочник, – пожалуй, там ничего нету?..
– Господь сказал: позову только избранных, а тех в геенну огненную.
«Да это же не Христос, – думаю я. – Христос милостивый, ясный без книг…» Я рассказываю сектантам о том Христе, про которого, помню, давно, давно слышал в детстве под стулом. Лампада горела. Женщина в черном платье стала рассказывать: в эту ночь светлый мальчик родится и звезда загорится и поведет к нему людей. Рассказываю по-своему, что знаю.
– Как смело! – говорят жены сектантов.
– Христос не карает, а спасает.
– Вот поди ты! – изумляются женщины. – Одна и та же книга, а как разно ее понимают.
«Что это такое? – думаю я, выходя от сектантов. – Мужики обыкновенные не могут жить на своей земле, им мало, они протестуют. Этим довольно. На том же клочке живут хорошо. У тех жизнь на земле, ребятишки. У этих бессмертие и какой-то займ у неба для земли и смирение». Мой разум на их стороне. Сердцем я с козлоногими. Вспоминаю их, бородатых, на зеленом лугу. Вспоминаю сектанта с Библией и повторяю в памяти бабьи слова: Библия – страшная книга, кто станет читать ее, проклянет небо и землю.
Возвращаюсь в сад маркизы. Светлые березки встречают меня. Не простые… Будто видел их где-то в другой стране. И соловей поет издалека. Знакомо и забыто… Черные птицы вылетают из дупл. Спотыкаюсь о корень огромного дерева. Одно мгновение – вспомню и назову что-то.
Вечереет. Вокруг старых лип внизу вырастают темные Цветы. Из-под слоя полуистлевших листьев показывается черная спина.
Соловей поет, что люди невинны.
Назад: Глава VI. У варягов
Дальше: Глава II. Година Варнавы

