Охота за счастьем
Рассказ из своей жизни
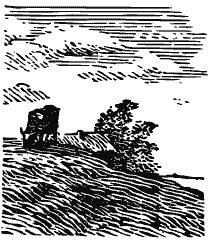
Есть охотники-промышленники, для которых охота является средством существования, есть браконьеры, есть охотники-спортсмены, есть любители бродить с ружьем в свободное время, так называемые поэты в душе, и множество других типов этого рода общения с природой. Охотники, зараженные этой страстью так, что она держит их до самой смерти, бывают только из особенных людей, ими надо родиться и непременно быть посвященными этому занятию в детстве. Может быть, и бывают какие-нибудь исключения, но едва ли много, я лично таких исключений не знал. Все охотники с биографией, художники, натуралисты, путешественники типа Пржевальского, охоту свою начинали с детства, и если разобрать хорошенько, то занятия этих ученых и художников через посредство охоты были переживанием детства.
Давно с неустанным вниманием вглядываюсь я в материалы, доставляемые собственным опытом, и только мало-помалу появляются у меня некоторые намеки на мысли об этом инстинкте дикаря, продолжающем обитать в душе цивилизованного человека. Одно для меня ясно, что охота неразрывно связана с детством, что старый охотник – это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой. Крошкой я помню себя с луком в руке, подстерегающим в кустах часами самых маленьких птиц, подкрапивников. Я их убивал, не жалея, а когда видел кем-нибудь другим раненную птицу или помятого ястребом галчонка, то непременно подбирал и отхаживал. И теперь, часто размышляя об этой двойственности, я иногда думаю, что иные наши высокие чувства тоже питаются кровью.
После лука у меня был самострел, потом рогатка с резинкой, из которой я одной дробинкой почти без промаха бил воробьев. Первое огнестрельное оружие, конечно, я сделал сам из простого оловянного пистолетика. Настоящее ружье взял я в руки, будучи учеником первого класса Елецкой гимназии. Мне достал ружье один из трех моих товарищей, с которыми я пробовал убежать по реке Сосне на лодке в какую-то мне тогда не очень ясную страну Азию. Я думаю, что этот побег определен был в меньшей степени режимом деляновской гимназии, чем особой моей склонностью к путешествиям, и что если бы жизнь моя сложилась более правильно в юности, то я был бы непременно ученым путешественником.
Мы странствовали несколько дней, много стреляли. Изловил нас знаменитый тогда в Ельце истребитель конокрадов – становой пристав Крупкин, вероятно, очень хороший человек. Настигнув нас, становой угостил водкой, сам поохотился с нами, похвалил нашу стрельбу и, между прочим, доказал, что вернуться нам все-таки необходимо: Азии мы до зимы все равно не достигнем. Нас встретили насмешками: «Поехали в Азию, приехали в гимназию». В такой острой форме уже в детстве стал передо мной вопрос об отношении сказки к жизни. Это перешло потом в бунтарство, метавшее меня из одного учебного заведения в другое, из страны в страну. И вот куда, – в природу детства, а не в готические окна надо смотреть исследователям истоков романтизма.
В конце концов я попал в Германию. Из-за всякого рода бунтов я оставался, в сущности, полуобразованным человеком и, болезненно чувствуя это, набросился в Германии на разного рода науки. Но эта жажда посредством науки сделаться хорошим человеком сама по себе отдаляет от правильных занятий и обрекает на вечное искание. Душевная смута не дала мне возможности стать ученым, но все-таки я понял, что школа ученого состоит в осторожном обращении с фактами, и когда я это усвоил, то меня перестала мучить моя необразованность, я стал «человеком с высшим образованием» и даже получил соответствующий диплом с недурными отметками.
Вернувшись в Россию, я встретился с запрещением въезда в столицу и устроился на службу в земстве как агроном. В то время ученому агроному в земстве было очень трудно определиться, и все дело сводилось к устройству кредитных товариществ, к пропаганде травосеяния и торговле в земском складе разного рода сельскохозяйственными орудиями и семенами. На этом деле я мог пробыть всего только год и, однажды случайно встретившись с профессором Прянишниковым, стал готовиться в сельскохозяйственном институте под его руководством к исследовательской работе на опытной станции. В это время я начал писать в разных агрономических журналах и даже составлять книги, из которых «Картофель», как наиболее полное руководство к культуре этого растения, долго считался ценной книгой и лет на двадцать пережил мои занятия агрономией. На опытной станции, куда я определился из лаборатории Прянишникова, я прослужил менее года, тут я окончательно убедился, что прикладная наука меня не удовлетворит никогда.
Во время службы на опытной станции я вынес для себя ценную страсть прислушиваться к народной речи, я дивился ее выразительной силе. В это время в литературных кругах, перемоловших уже первое декадентство, начинало процветать особое эстетическое народничество, искавшее опоры в мистике. Но не старое народничество, не новое славянофильство, не эстетическая мистика и «мистический анархизм» были основанием моих литературных занятий. Я начал заниматься изучением языка просто потому, что невыносимо скучно было заниматься агрономией, – это первое, а второе – потому, что, будучи типичным заумным русским интеллигентом, в конце концов я должен был как-нибудь материализоваться в жизни. В известном возрасте вопрос о материализации своей личности становится ребром, иначе жить невозможно.
Я пропускаю здесь множество интимных фактов своего бедственного метания из стороны в сторону, своего несчастия, потому что пока не смею оголяться и беру пример с умирающих животных, которые, заболев, уходят в недоступные дебри и там прячут от глаза свой скелет. Несчастие – переходный момент, оно кончается или смертью, или роль его – мера жизни в глубину, этап в творчестве счастья.
Средств существования у меня не было, и на руках была уже семья. Покинув службу, я не стал себе приискивать другую. Предполагая заняться переводами или агрономической литературой, я поселился в предместьях Петербурга, за Малой Охтой, в конце Киновийского проспекта, на котором росли березы, окруженные капустниками. Тут я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу. Но я не был и тем литератором, который не сознает или не стыдится своей бездарности: пишет, пишет и потом выпирает наверх. Самолюбие мое было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию. Разбитый в своих надеждах написать сложную психологическую вещь, я выдумал себе опыт описания просто каких-нибудь интересных фактов: через это, я думал, моя страсть к бумагомаранию получит оправдание, и я, научившись этому, пойду и дальше в глубину. Так я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта. Мне мешало сделаться быстрым литератором вероятней всего впечатление того колоссального скромного, незаметного труда научных работников, благоговейным свидетелем которого я был в лабораториях германского университета.
К моему счастью, в тех же капустниках Киновийского проспекта начинал свою карьеру бывший провинциальный фельдшер, теперь известный этнограф, Н. Е. Ончуков. Посвященный мною в мои детские мечты о какой-то Азии, он стал уверять меня, что Выгозеро, Архангельской губернии, вполне соответствует моей мечте и что мне непременно надо поехать туда. Ончуков познакомил меня с академиком Шахматовым, который кое-чему научил меня, достал мне открытый лист от Академии наук, и с тех пор звание этнографа сопровождает меня через всю жизнь хотя я наукой этой не занимался и не очень даже уверен, что это наука.
Я отправился на Север для записей былин по примеру Ончукова, нисколько еще не думая об охоте. Но в Повенце, в земской управе, меня убедили купить себе берданку, потому что в Петровский пост я себе у крестьян не достану мяса, а дичи так много, что я без труда добуду себе ружьем сколько угодно.
Где теперь это ружье, ставшее источником моего счастья? При первом же выстреле мне вдруг явились те дни настоящего счастья, какое испытал я при побеге в Азию. В глазах у меня осталась вспышка зеленого света лесов при этом первом выстреле в поднявшегося из лесной заросли глухаря. Я убил его и навсегда стал свободным человеком, что-то вдруг понял.
Сейчас я, охотник, выучивший не одну собаку, с глубоким презрением посмотрел бы на охотника с берданкой, заряжающего патроны без мерки, вытуривающего дичь своими ногами и воображающего себя причастным к охоте. Но в архангельских лесах смотреть на меня было некому, а дичи было так много, что даже из дробовой берданки, стреляющей на двадцать шагов, я всегда добывал себе дичь на обед. Я охотился и много работал днем и светлою ночью. Совершенно один я проникал к лесным жителям с сомнительной репутацией и удивляюсь, как все обошлось благополучно. Один раз вступил в состязание с колдуном, кто кого перепьет, и, когда тот свалился, вытащил у него из-за сапога заговор, списал его и повалился рядом с ним на березовой листве, заготовляемой на Севере, как сено, на корм скоту. Из-за кустов на светлых лесных озерах, называемых по-карельски ламбинами, иногда я видел семью лебедей, таких прекрасных, что не решался в них стрелять, и потом переносил это в сказку о лебеди, умолявшей не стрелять ее, и так через себя самого догадывался о таинственном значении сказки.
Теперь я думаю, что каждый художник непременно является наивным реалистом и верит, что мир именно такой и есть, каким он его воспринимает. Но все-таки эти карельские камни, славянские песни о соловьях, которых здесь никто не слыхал, и моя собственная, единственная в своем роде, неповторимая короткая жизнь; ведь только вспышкой моей живой жизни освещались эти финские скалы и славянские былины!
Сколько лежит огромных томов путешествий, в которых девяносто девять страниц посвящается описанию фактов и одна только страница своего личного отношения к фактам; теперь все девяносто девять страниц устарели, и их невозможно читать, а одна своя страница осталась, и через сто лет мы берем ее в хрестоматию.
И сколько книг о путешествиях не имеет теперь никакой цены только потому, что авторы выдавали свою сказку за действительность и тем унижали собой жизнь и себя самих жизнью.
Этот вопрос о действительности и легенде мне был поставлен еще в детском моем путешествии в фантастическую Азию, которая обернулась в гимназию. Заставленный жизнью признать гимназию, в глубине души я берег свою Азию и, наверно, потому и метался из стороны в сторону, чтобы в конце концов доказать реальность своей Азии.
Вторую книгу моих северных странствований, «Колобок», мне до некоторой степени удалось построить на этом узнавании себя в обыкновенных фактах жизни, отчего сами факты становились выпуклыми, но вначале я совсем не владел пером, и только название моей первой книги сохранило в себе мои истинные переживания при этой встрече с природой после стольких лет засмысленной жизни. Я назвал первую книгу: «В краю непуганых птиц».
Вернувшись на Охту, я спросил у знакомых, кто лучше всех писал этнографические очерки. Мне назвали Маркова. Я посмотрел начало и так же начал, а потом пошло совершенно по-своему, и, кажется, чуть ли не в месяц я написал свою книгу листов в двенадцать.
Да, не нужно никогда бояться образца. Если есть что-нибудь свое, то оно победит непременно, а если нет ничего своего, то с хорошего образца все-таки при усердии выйдет хорошая деланная вещь. А между тем этот предрассудок боязни чужого многих новичков очень смущает.
На этой книге я понял причину своих первых неудач в литературе. Они были потому, что я не мог быть самим собой. Теперь я понял себя, что по природе я не литератор, а живописец, ведь я мало смею выдумать, я работаю по натуре, и если дерево стоит направо, а я напишу налево, то рисунок мне обыкновенно не удастся. Но я вижу все живописно и, не приученный к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по природе живописцем, а еще верней музыкантом, я стал пользоваться для выражения себя силой другого искусства, и это вторая причина, почему я до сих пор иду на тележном ходу. Что же делать-то? при усердии и так хорошо. А может быть, и все художники работают мастерством чужого искусства, пользуясь силой родного? может быть, и само искусство начинается взамен утраченного родства?
Издатель спросил меня:
– Ваше основное занятие живопись?
Вероятно, он основал свой вопрос на множестве моих живых фотографий, но после и другие писали, что книга построена на зрительных впечатлениях. Издателю Девриену очень понравились и мои фотографии, и по-своему, наверно, и описание природы неведомого ему края, такого близкого к Петербургу и не менее таинственного, чем отдаленная Новая Гвинея и Центральная Африка. Швейцарец спросил меня еще:
– А нельзя ли там где-нибудь купить дачу?
– Комаров очень много, – ответил я.
Он опечалился. Мне показалось, что он из-за этого может разочароваться и в книге. Я поспешил успокоить старика будущностью края, когда болота будут осушены и уничтожатся комары.
– Место, – сказал я, – можно купить и теперь, а дачу построить, когда осушат болота.
Он опять обрадовался, а я, осмелев, попросил его прослушать одну главу в моем чтении. Тогда он вышел в другую комнату, привел с собой детей, вероятно, внуков и внучек, усадил их и велел слушать. После того как я прочел главу, старик, показав сам пример, велел детям аплодировать. Книга решительно понравилась издателю, и он тут же в первый разговор дал за нее мне шестьсот рублей и сдал в печать для роскошного издания.
Я устроил свою первую книгу, не имея никаких связей, не зная в Петербурге ни одного литератора, даже корреспондента. Мне дали за книгу медаль в Географическом обществе, и в «Русских ведомостях» я стал постоянным сотрудником. Я схватил свое счастье, как птицу на лету, одним метким выстрелом. Но мало того, что я схватил, мне кажется, я тут же и посолил свое счастье, чтобы оно не испортилось, как это сплошь и рядом бывает у многих удачно начинающих литераторов.
Конечно, я понимал, что не труд по собиранию этнографических фактов определил значение книги, а скрытая в ней игривая затея. Вероятно, ранее в жизни я был подавлен несродной моей природе формой труда и потому получил представление, что оплачиваемая основа его есть то ослиное терпение, с каким я писал книгу о картофеле. А когда издатель за мою просто игру дал мне вдруг шестьсот рублей (помню: все золотыми), я принял это, как величайшее, неслыханное для меня счастье: значит, я могу жить играя, и впредь труд мой будет игрой. Только надо смелей и смелей играть, заметая за собой все следы пота и слез.
Смешно говорить о деньгах, получаемых за литературную придумку, если спекулянт, обращающий придумку в торговое дело, за одну такую придумку, как мое название «В краю непуганых птиц», получает деньги, какие я не могу заработать всю жизнь, но мне казалось, мои деньги особенные, это прекрасные деньги. Выдумав себе чрезвычайно дешевый способ путешествий, я и на малые деньги устроил такие экспедиции и охоты, какие доступны только миллионщикам. Я везде побывал: и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в горах, в лесах, в океанах, пустынях, добрался и до той Азии, куда хотел убежать в детстве, убил там между Каркаралинском и Балхашем трудного зверя архара и оставил там о себе легенду, как о каком-то Черном Арабе.
Мои писания имели успех прежде всего в высших литературных кругах. Ремизов с Ивановым-Разумником взялись о мне говорить, – первый в своем многочисленном петербургском литературно-художественном обществе, второй написал большую статью. Я перезнакомился со всем литературно-художественным Петербургом, и это очень влияло на повышение гонорара. Кажется, раз, было это в квартире Замятина, кто-то сказал мне, что я плохо хозяйствую, что, например, в «Биржевых ведомостях» мне дали бы по полтиннику за строчку. Я сомневался. Говоривший взял телефон.
– Идите сейчас туда, редактор вас ждет, только непременно скажите, что по полтиннику.
Я отправился немедленно и обещался через полчаса вернуться. С невероятным трудом решился я сказать редактору: «по полтиннику».
– Я хотел вам предложить сорок копеек, – сказал он.
– Нет, – уперся я, – по полтиннику.
Ему пришлось согласиться.
Я до того обрадовался, что влетел в квартиру этажом ниже Замятина и крикнул из коридора:
– Ура! дают по полтиннику!
Сам я этот эпизод совершенно забыл, и рассказал мне о нем недавно Замятин. Вероятно, было много такого. Дела мои шли в гору. В «Шиповнике» стали платить почти тысячу рублей за лист, как вдруг все мое мастерство оказалось ненужным занятием, и мысль сосредоточилась на куске черного хлеба.
Новое испытание моей жизненной силе не было той картиной личной неудачи, несчастия, о котором я отказываюсь говорить вслух. Это испытание было не личное, а общее, и рассказывать о нем нетрудно. Незадолго перед революцией я сделал одну ошибку, которая поставила меня в трудное и довольно глупое положение. Умерла моя мать, и мне досталось после нее по разделе с братьями тридцать десятин земли. На свои литературные сбережения я выдумал выстроить там себе дом, и как раз на том месте, где я маленьким воровал у арендатора яблоки. Это забавное дело я предпринял, уже имея в виду революцию, но мне казалось, что тридцать десятин пустяки: я не помещик. Я ошибался, потому что в глазах крестьян моя земля была частью целого не деленного, в их глазах, имения.
Конечно, я не о затратах своих жалею, а что сам поставил себя в такое положение, когда все показывается с самой дурной стороны. Невыносимо было хозяйствовать в таких условиях, и не хватало находчивости бросить вовремя. Впрочем, из уважения к моей покойной матери долго не решались меня беспокоить. Потом начались обыски и унизительные наши укрывательства хлеба. Однажды было приказано сдать охотничье оружие. Это меня доконало: я связывал с обладанием ружьем все мое счастье. Ружье мое было прекрасное, и я уже был тогда настоящим воспитанным охотником. Я решил ружья своего не отдавать и лучше уж утопить его в пруду, чем видеть в чужих руках. Так и постановили с женой, вечером она стала выполнять это мрачное дело. Не знаю для чего, но мы все-таки завернули ружье в клеенку, обвязали веревками. Потом жена взяла этот гроб, унесла и через час вернулась с пустыми руками. Все было кончено: мое счастье утонуло.
На другой день после этого большого горя пришли в нашу деревню какие-то нездешние люди и стали требовать у крестьян моего удаления. На этом собрании один приятель за меня заступился и сказал так: «Этому человеку, быть может, нам придется ставить памятник подобно Пушкину». – «А вот, – ответили ему, – за то и надо его выгнать, чтобы не пришлось потом ставить памятника».
Мне представили выдворительную.
На прощанье одна деревенская портниха, сочинявшая стихи и прозванная Королевою, прочла мне свои стихи:
Село дитятею хранило
Поэта будущего в свет, –
Теперь же им оно гордится,
Сердечный шлет ему привет.
Вслед за Королевой пришло множество людей. Сдавая имущество, я заметил, как одна служившая у нас хорошая старуха в вишняке тащила с плачем бычью шкуру. Она была глуховата и не замечала, что сухая шкура шумит и ее выдает. Она плакала, потому что ей было жалко нас. Она все-таки шкуру тащила, потому что все равно другие утащат.
Я перебрался в город, странствуя время от времени по большаку в деревню за хлебом. В моем доме устроился волисполком, а в большом родительском был театр, и там всем заведовал Архип, с которым мы в детстве учились в сельской школе, и жена его Дуняша, служившая у нас еще с малых лет. Архип с Дуняшей поселились в спальне моей матери. Тут у них стало как в избе: и хомут, и мешки с семенами, и лопаты. Им было неудобно тут жить. Дуняша вечно ворчала на Архипа и проклинала дом. Меня они по-своему, по-крестьянски, жалели и, когда я приходил за хлебом, угощали меня квасным тестом с ягодами. Каждый раз, посещая родное гнездо, замечал я, что деревья старого парка снизу все оголялись и оголялись, пока, наконец, не стали похожи на пальмы. Раз в холодную ночь я и сам не утерпел и затопил себе печку нижними сучьями родимой яблоньки. В зале, где был театр и танцевали, сор не выметался, и от подсолнухов стало мягко ходить. Балкон стал съезжать вбок, стекла на окнах бились. Старый дом отказался служить раньше, чем кончилось увлечение театром и танцами. Мой новый дом отчего-то сгорел.
Раз, помнится, шел я из деревни поздней осенью с двумя громадными ковригами хлеба, с четвертью молока и мешком картошки. Какой-то счастливец вдали гонял зайца, лай гончей мне был слышен до самого города, и все время мне казалось, что этот страшный охотник гоняет меня, как зайца, из города в деревню и опять в город…
Предел этой жалкой жизни поставлен был нашествием Мамонтова. Полководец опустошил город Елец своими казаками и киргизами, как в старые времена он не раз был опустошаем татарами. Сколько надежд у обывателей связывалось с ожиданием Мамонтова, и как быстро, в первый же час вступления казаков в город, надежды эти рухнули.
В этот день было порядочное избиение казаками евреев. Вместе с евреями погибло столько же русских брюнетов, и я спасся одним веселым чудом, которое создает иногда душа даже труса в последний момент расставания с жизнью.
Нашествие Мамонтова было пределом моего так называемого несчастия. Тут была поставлена последняя точка испытания в глубину, и я опять стал выбираться к свету и воле. Однажды мне доставили из деревни одну вещь, завернутую в клеенку и обвязанную веревкой. Я не позволил себе узнать эту клеенку и веревку. Дрожащей рукой стал я развязывать и так встретился опять с моим прекрасным ружьем. Тогда раскрылась тайна моей жены: ей было не по душе мое решение утопить вещь, без которой она не могла себе и представить мое существование. Она отправилась к одному верному мужичку и упросила его спрятать ружье, а мне сказала, что утопила. В этот час снова загорелась моя детская Азия и созрел план путешествия из разоренного края на родину моей жены, в Смоленскую губернию, в благословенные лесные места. Мне представилось, что если я там буду учить деревенских ребят, то, может быть, это будет так же интересно, как и писательство. Я решил сделаться народным учителем и начал готовиться к сложному путешествию в край, угрожаемый поляками. Известно, какая езда была тогда по железным дорогам. Одно время мы думали продать все, что у нас осталось, купить лошадь с телегой и двигаться, как цыгане. Но скоро план этот рухнул. Мы пристроились к вагону-лавке, погрузились, уверенные, что лавка предохранит нас от заградительных отрядов. В самый последний момент из родной деревни пришла прощаться Королева и поднесла мне полотенце с вышитым на нем стихотворением:
Ты к нам ехал, мы не знали,
Словно месяц в небе плыл,
Прощай, гений наш прекрасный,
Прощай, Пришвин Михаил.
Хотя дела мои пошли на поправку с того момента, как я получил ружье, но далеко еще было до охоты. Во время этого путешествия у меня в бороде показался первый седой пучок. Я придумывал тысячи хитростей, чтобы охранять ружье, но однажды меня застали врасплох.
Мандат не предохранил меня. Хищный начальник отряда соблазнился моим ружьем, взял его и понес, давая этим понять, что он возьмет мое ружье, но за это не будет осматривать другие вещи. Он ошибся в расчете. И взревел. Без шапки, со слипшимися от вагонной жары волосами, я бросился за ним на платформу, стал честить его родительскими словами, собирая толпу. Я мог бы и не так ругаться, я мог бы дать и в шею этому хищнику, и мне ничего бы не было, потому что я был уже за пределом бед, и счастье повернулось в мою сторону. Из толпы вышел небольшой черненький человечек, чистый, в хорошем пальто, и строго, решительно сказал начальнику:
– Возвратите ружье этому товарищу.
Тот опешил.
– А вы кто такой?
– Я маголиф, – сказал черненький.
И стал доставать документ из кармана.
Я понял, что слово маголиф означало представительство от какого-то важного учреждения, передаваемое сокращенно.
Начальник, зная свою неправоту, не стал читать документа и ружье мне возвратил, не сказав ни одного слова.
Маголиф поклонился мне, пожал руку: он был хроникером одной газеты и не раз меня в ней встречал.
– Но как же, – спросил я, – вы стали маголифом, и что, собственно, значит это: ма-го-лиф?
– Ничего не значит. – отвечал молодой человек, – это моя фамилия.
– А документ?
– И в документе ничего не сказано особенного, только что я состою агентом телеграфного агентства РОСТА.
Конечно, у всех были свои приемы самозащиты. Мой прием грубой прямоты и крепкого ругательства был тоже не плох в провинции, но, приближаясь к столице, я стал подумывать, что с этим далеко не уедешь. И, конечно, этот эпизод с маголифом дал мне возможность избрать слово фольклор для безопасного путешествия в Смоленскую губернию. В Москве я выпросил у Луначарского мандат на собирание фольклора и на тюке, в котором были зашиты все запрещенные вещи, написал красным карандашом: фольклор, продукт не нормированный. Слово «фольклор» действовало так же решительно, как «маголиф», и только благодаря ему я довез благополучно и ружье и другие вещи. Еще в Москве мне сослужил великую службу мой старый товарищ и друг по гимназии, с которым в юности мы были в одном подпольном кружке, Н. А. Семашко. Вероятно, он думал, что я пришел к нему устраивать какое-то свое большое дело, и он был очень рад меня видеть и готов был предоставить мне все, что мог; мог он, конечно, многое. Но я попросил его только достать мне пороху, немного пороху…
– Можно?
Чуть подумав, он сказал:
– Можно.
И стал писать куда-то.
– Сколько же пороху? – спросил наркомздрав.
У меня было на языке два фунта, но вдруг стало три, потом четыре.
– Немного, – сказал я, – если фунтов пять?
– Напишем шесть, – ответил Семашко.
Дорого, конечно, не то, что он написал, а что не стал поднимать вопроса о пустяках, которыми я занимаюсь в такое серьезное время: значит, Семашко по старой дружбе меня понимал.
В ГАУ, где мне пришлось доставать порох по записке Семашко, встретился мне на важном посту один знакомый охотник и к шести фунтам черного пороху добавил еще от себя два фунта бездымного. Он же научил меня, как можно достать дроби: дроби нигде нет, надо забраться в какую-нибудь большую музейную усадьбу со старинными висячими лампами и высыпать из них балластную дробь. Я сделал, как мне было указано, и так добыл дроби еще больше, чем пороха. И вот такое-то великое богатство я без всяких осложнений довез до Смоленской губернии под маркой фольклора. Впрочем, и довольно интеллигентные люди на пути, когда я объяснял, что фольклор – продукт не нормированный, спрашивали меня с любопытством, – что это такое, а когда я объяснял, что фольклор означает народные песни и сказки, дивились моей выдумке.
В деревне Следово, Дорогобужского уезда, на родине моей жены, нас встретили недружелюбно. Там, в лесном краю, земля доставалась великим трудом. Крестьяне боялись, что жена моя сначала поселится просто, вотрется, а потом, как местная уроженка, потребует надела на всю семью. А потому квартиры себе найти мы нигде не могли. Но по летнему времени квартира нам была и не очень нужна. Мы поселились в одном лесном сенном сарае, и тут, у ручья, я начал свою охоту и обыкновенные, сродные мне наблюдения.
Какое счастье доставили тут первые застреленные мной птицы! Издали увидали мои ребята, бросились встречать, выхватили уток, тетеревей, понесли к матери. Подумаешь, какое противное занятие щипать птиц, но жена моя щипала сияющая и говорила:
– Ну, не думала, никак не думала, что опять придется щипать.
В ручье был светлый омут, глубокий, и в солнечных лучах там плавали красноперые рыбы. Сынишка мой их выхватывал на личинки. Деревья шумели музыкально верхушками. Даже угрюмый куст можжевельника был доверху обвит повиликой и диким горошком. Да, это величайшее счастье, когда исчезает обман собственности, и на это место становится весь мир, как родной и прекрасный…
Я сделал большой список родни моей жены, разбросанной на огромном пространстве этого уезда и соседнего. И в то время, когда на Смоленскую губернию опрокинулась другая голодная губерния, когда каждый кусок хлеба, каждый глоток молока были на счету, я с пустым карманом, имея этот список, отправлялся в свои путешествия. Затвердив имя какой-нибудь троюродной тетки жены, которую и видела-то она один раз в своей жизни девочкой, являлся я к ней, объявлял родство и не только насыщался, а и прихватывал с собой и приносил в свой сенной сарай вместе с птицами сало и пироги. Через это родство я понял происхождение в русском народе того чарующего искренностью и простотой деревенского разговора и обращения, понял и те гримасы деревенского быта, когда родовая сила встречается с силой закона, понял русский анархизм, все понял во время этих скитаний.
На сене каким-то образом получается, что, как ни будь утомлен, в течение двух часов совершенно высыпаешься, а остальные часы проходят в полусне, когда малейший звук в лесу долетает до слуха и понимается в особенном значении: кажется, что звериную жизнь так же, как народную, читаешь через родство.
Однажды моя собачонка Флейта в такой час спустилась вниз, вышла из сарая и принялась тявкать. Я взял ружье и тоже по сену сполз вниз. Никогда не виданное зрелище открылось мне в эту ночь: вся наша большая поляна, окруженная лесом, сверкала огнями, и огни эти были от светляков. Даже собака была поражена этим редким зрелищем и вздумала на этот невиданный свет тявкать.
Дождь очень забавен в сенной пуне: жарит во всю мочь по драночной крыше, а сено все сухое. А когда начались холодные дожди, мы стали зарываться в сено, и там было очень тепло. И даже когда морозы начались, то, зарываясь в сено все глубже и глубже, мы долго им сопротивлялись. Я слышал от крестьян, что даже в лютый мороз, если совсем глубоко уйти в сено, можно переночевать. Но этого я не испытал. Однажды после холодной ночи я вместо охоты отправился в ОНО и в пять минут получил назначение учителем (шкрабом) в одну школу, расположенную еще верст на десять дальше от города, чем Следово.
Даровитых людей вообще очень мало, и то же самое в учительской среде очень мало опытных старых хороших учителей, но те, кто начинает, первый год, много два, – по моим наблюдениям, почти все талантливы. И пусть у них не хватает опыта, увлечение учителя передается ученикам, и это, кажется, не менее дорого, чем дело опытного учителя. Если бы все учителя могли остаться такими, как они начинали! Я был хаотичен, но талантлив, как начинающий. Ребятам от меня хорошо перепадало, отцы уважали за мужской пол, за возраст, за бороду. Теперь я, убив зайца или тетерева, захожу не к родне, а к родителям какого-нибудь моего ученика. Я захожу будто бы только отдохнуть, а завожу речь о положении учителя, что за целый месяц учебы получаешь восьмушку махорки, две коробки спичек и шесть фунтов овса и что вот я настрелял дичи, сколько мяса несу, а нет сала и хлеба. После этого меня обыкновенно кормили, давали с собой сала и хлеба. Так установился черед, вроде как у пастухов. Иногда в кармане пальто я находил бутылку самогонки и менял ее в следующей деревне на хлеб. Случалось, конечно, и сам выпивал, но больше не с горя, а с радости: дичь есть, сало есть, хлеб есть – почему же не выпить? Не могу тоже забыть счастливого дня, когда один крестьянин, увидав меня осенью в калошах на босу ногу, идущим добывать себе пищу в болото, подарил мне совершенно новые, купленные им для сына, сапоги. Пусть он узнает, что я это помню: имя его Ефим Барановский. Мы с ним потом на его годовом празднике распили не одну бутылочку.
Одно время в течение нескольких месяцев по письму Семашко мне выдавали академический паек. И тоже было раз – на Батишевской опытной станции дознались, что это я написал книжку о картофеле. Станция меня поддерживала до самого конца всей моей робинзонады.
Под конец мне в самом деле стало, как Робинзону, когда он развел на своем острове много коз: все есть, а сам выходит на берег моря и думает, как бы переплыть это море.
За все это время я в совершенстве научился высекать огонь из кремня осколком подпилка. Кусочек трута я клал на угли, раздувал их, приставлял тончайшую лучинку: дунешь с силой, и она вспыхивает; только ночью, когда захочется покурить, часто попадаешь подпилком по пальцам, и оттого они у меня всегда были сильно сбиты. И вот однажды явился некий человек с ситцами, зажигалками, бензином, все это он продавал. Друзья купили мне зажигалку, и я до крайности был обрадован. В это же время я написал небольшой деревенский очерк и отправил его на случай одному знакомому журналисту. Через очень короткое время я получил за очерк великие миллионы и купил на них – страшно сказать – пятнадцать пудов муки!
Тогда я собрал свои пожитки, отправился в Москву и стал опять начинать свое дело, почти такой же неведомый, как двадцать лет тому назад, когда вернулся из поездки в Архангельскую губернию. А. К. Воронений, напечатавший в «Красной нови» мою «Кащееву цепь», сыграл в моей жизни совершенно такую же роль, как старый Девриен, взявший мою первую книгу «В краю непуганых птиц». Так вскоре мне удалось счастье свое снова схватить, а сравнительная с прежним положением бедность меня не страшит. Я стал много смелее. Вот пример: раньше я был почти богатым человеком, но позволял себе иметь только одну собаку и одно ружье. Теперь же у меня при бедности почему-то четыре собаки и три прекрасных ружья.
Все это я рассказал, чтобы рассеять относительно охоты предрассудок, будто это просто забава. Для меня охота была средством возвращаться к себе самому, временами кормиться ею и воспитывать своих детей бодрыми в радостными. В заключение привожу слова Льва Толстого о счастье:
«Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете? и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то покорно благодарю, и вам того желаю».
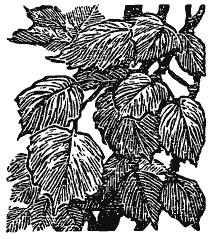
Назад: Мой очерк*
Дальше: Журавлиная родина*

