Книга: Том 6. Осударева дорога. Корабельная чаща
Назад: Часть четвертая Мануйло из Журавлей
Дальше: Часть шестая Красные гривы
Часть пятая
Утиная вечерка
Глава четырнадцатая
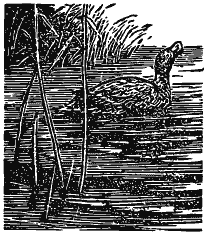
Бывает, в бору у какой-нибудь золотисто-рыжей сосны из белого соснового тела выпадет сучок. Пройдет год или два, и эту глубокую дырочку оглядит зарянка, маленькая птичка точно такого же цвета, как золотисто-рыжая кора у сосны. Эта птичка натаскает в пустой сучок перышков, сенца, пуха, прутиков, устроит себе теплое гнездышко в пустом сучке, потом выпрыгнет на веточки и запоет.
И так начинает птичка весну.
Через какое-то время, а той прямо тут вслед за птичкой приходит охотник и останавливается у этого самого дерева в ожидании вечерней зари.
Вот где-то, с какой-то высоты на холме, певчий дрозд первый увидал признаки вечерней зари и просвистел свой сигнал. На этот сигнал отозвалась зарянка и вылетела из пустого сучка, и, прыгая с сучка на сучок выше и выше, оттуда сверху тоже увидала зарю, и на сигнал певчего дрозда ответила своим сигналом.
Охотник, конечно, слышал сигнал дрозда и видел, как по сигналу вылетела зарянка. Он даже заметил, что зарянка, маленькая птичка, открыла свой клювик, но что она пикнула – он не слыхал: голос маленькой птички не дошел до земли.
Птицы уже начали славить зарю, а человеку внизу зари не было видно.
Но пришло время, над всем лесом встала заря, и охотник увидал: высоко на сучке птичка свой клювик то откроет, то закроет.
Это зарянка поет, зарянка славит зарю, но песни ее человеку не слышно.
Охотник все так понимает, по-своему, что зарянка славит зарю, а отчего ему ее песню не слышно – это оттого, что зарянка поет, чтобы славить зарю, а не чтобы самой славиться перед людьми.
И вот мы считаем, что как только человек подумал об этом, чтобы ему тоже так хорошо было, чтобы ему славить зарю, а не чтобы зарей самому славиться, так и начинается весна самого человека.
Все наши настоящие любители-охотники, от самого маленького и простого человека до самого большого, только тем и дышат, чтобы прославить весну, а не самому весною прославиться.
И сколько таких хороших людей есть на свете и никто из них сам не знает о себе, и так все привыкнут к нему, что никто и не догадывается о нем, что он хорош, что он для того только и существует на свете, чтобы славить зарю и начинать собой такую хорошую весну человека.
Вот тоже и у нас в Вологде на самом берегу реки жил такой плотник Федор Силыч. Как все плотники, он работал всегда молча, но если станешь ему рассказывать о чем-нибудь, то слушает охотно, не говорит даже ни да и ни нет, а только улыбается и, насколько ему можно оторваться от топора или рубанка, поглядывает понимающим глазом. Самому себе всегда кажется, будто разговор с ним идет ему впрок, и оттого так скоро между ним и тобой вырастает целая большая пахучая гора стружек.
А когда отойдешь от него, то всегда думаешь: а не пойти ли самому в плотники, не заделаться ли самому столяром?
Когда Силыч сильно стал стареть и вертеть бревнами стало ему невмоготу, он перешел на столярные работы, и на этом деле он и свил себе такое же гнездышко незаметное, как свивает зарянка в пустом сучку Силычу на своем деле удалось послужить хорошо, и всякий вологодский охотник поминает его добром.
Бывало, Силыч работает, а дорога уже подопревает, рыжая по белому, и в душе охотника начинает мутить, и тянет куда-то. Вот и скажешь:
– Силыч! А дорога-то подопревает…
Он улыбнется, поглядит то на дорогу, то на тебя.
– Ты знаешь, Силыч! – скажешь ему, – охотничья душа начинается от разлуки, что-то – мы с тобой потеряли в лесах и в болотах, к чему-то так теперь тянет.
Он улыбается.
Каждую весну мы так начинаем, и наконец лет уже тридцать, а может быть, даже и сорок Силыч, услыхав о разлуке, бросил обычную работу и начал делать что-то другое и стал на долгое время каким-то другим человеком и рассказы всякие слушал рассеянно.
Так родился наш замечательный вологодский ялик из мысли этого скромного человека о разлуке и твердом своем решении соединить разлученного городского человека с природой.
Не знаю, конечно, свет велик, и может быть, где-нибудь делают охотничьи ялики лучше нашего, но нам ялики Силыча всем так пришлись по душе, что кажется, будто лучше яликов Силыча не было и нет ничего лучше на свете.
Сколько людей было, что вовсе ружья никогда в руках не держали, – а как поглядит на ялик Силыча, так закажет себе, а как проедется, так ружьишко достанет и начнет, из своего собственного ялика, как птичка из пустого сучка славить зарю…
Эта знаменитая лодка делается из двойной фанеры, и оттого она такая лёгкая, что одному легко можно ее перетащить с одной речки в другую. На ней есть и палуба, чтобы в непогоду забраться, закрыть за собой отверстие, и в бурю, и дождь, и холод быть, как у себя дома.
Мало того! захочется подышать свежим воздухом, или в ветер и дождь чаю сварить, или жирную утку зажарить на примусе, то отверстие прикрывается особой маленькой палаткой, А по бортам ялика частые гнезда, в них вставляются ветки, и ялик обращается в плавучий шалаш.
Умеючи обращаясь с веслом, можно на близкий выстрел, подплывать к уткам, гусям, лебедям. А если ветер походный, то есть гнездо для мачты, можно парус поставить и на легком ялике птицей мчаться по ветру.
Несет ветер вперед на воду – воде нет конца, мчись водой хоть в Северную Двину, хоть в Белое море, хоть в Ледовитый океан…
Прощайте, домашние люди, я мчусь в океан!
Несет ветер домой, тоже как хорошо!
Здравствуйте, милые люди мои и мой любимый труд!
Удивляются и смеются люди со стороны на взрослых людей, даже и на стариков, что они все свое свободное время проводят на яликах, смеются и не понимают того, что это новый человек возвращает себе древнюю силу природы.
Так вот оно и вышло, что от разговоров о разлуке человека с природой наш Силыч перешел к делу и за долгую жизнь свою создал целый флот охотников на вологодских яликах..
Где теперь эти охотники? Один где-нибудь в ночное время на постройке плотины для перехода своей части на ту сторону задержал собственным телом прорыв ледяной струи, другой, может быть, телом своим закрыл пулемет, третьему посчастливилось: сидит у огня и пишет жене, чтобы берегла в сарае его ялик, и хорошо, если она у шофера достанет отработанного масла и на всякий случай промажет им весь ялик.
Все здоровью охотники теперь на войне, весь флот Силыча теперь у жен под замком, и остались охотники теперь одни только те, кому нельзя на войну: люди они хорошие, как и все, только негодны оказались для войны и оттого их зовут негодниками.
Из негодников первые охотники, спорить об этом никто не станет, это, конечно, братки, два одинаковых брата – Петр и Павел. До того братки друг на друга похожи, что узнать верно, кто у них Петр и кто Павел, можно только, когда они рядом. Но хорошо, что никогда и нельзя увидеть их отдельно. От рождения Петр был совершенно глухой, а Павел слепой, но зато глухой Петр имел такое острое зрение, что видел, говорят все, вдвое дальше среднего человека, а слепой Павел слышал вдвое против среднего человека.
Вот почему всегда так бывало, что когда слепой Павел издали услышит такое, чего средний человек еще слышать не может, то, почуяв движение брата, глухой Петр повертывает туда голову и видит такое, что для среднего человека еще совершенно невидимо.
А еще у братков то замечательно и всем тоже известно в Вологде, что они могут говорить только правду и ни разу никого в жизни своей не обманывали.
Иные слабые люди у нас до того изверились в правде, что в Вологде всюду в привычку вошло отвечать на всякий обман тем, что правды вовсе и нет на свете, что правда только у Петра да у Павла.
А есть и такие, по-нашему – совсем негодные, до того изверились, что не удивляются даже и на Петра и на Павла и говорят, будто оттого у них и правда, что слепой и глухой не умеют между собой сговориться, чтобы обманывать.
Братки служили на одной должности повара на железной дороге, и вологодский буфет далеко славился по всей Северной дороге их пирожками, жареной дичью и гарнирами. Когда поезд подкатывал, то люди, даже и сытые, выходили попробовать знаменитых пирожков и всегда при этом дивились на двух граждан, соединенных поневоле в одного повара.
Дивились, что два обиженных природой человека, соединенные в одного, работали, пожалуй что, лучше, чем два несоединенных нормальных. И некоторые высказывали:
– Вот бы всем так!
Но тут же с горечью вспоминали, что Павел был слепой, а Петр глухой, всем же хотелось непременно и видеть и слышать.
Покушав пирожков, с этим примером все уезжали, но мало кто знал о братках самое удивительное, о чем знали только мы, кровные вологодские охотники. Братки у нас б городе были самые замечательные охотники, и глухарей они всегда приносили много больше охотников с полноценным зрением и слухом.
Все было в том, что глухарь поет очень тихо и успех зависит много от того, кто раньше других глухаря заслышит. Раньше всех, конечно, слышал глухаря в лесу слепой Павел и, заслышав песню, хватал братка за руку и скакал с ним к глухарям.
И вторая причина успеха в этой охоте была оттого, кто раньше во мраке рассвета разглядит среди ветвей птицу. На это был мастером глухой Петр: завидев глухаря, когда еще никто не мог видеть, Петр останавливал. Павла и глядел то на глухаря, то на брата. По уговору слепой Павел трогал Петра за левое плечо, когда глухарь начинал песню, и Петр под песню стрелял.
Так вот все со смехом в Вологде говорили, что правда только у Петра да у Павла; а на службе у братков выходили славные пирожки, и на охоте птиц у них всегда больше всех. Осенью поздней, когда утки жирные и захочется кому-нибудь покушать, то с этим желанием безошибочно можно бывает пристать только к ялику братков: они всегда накормят, когда уткой, когда гусем, а случится – даже и лебедем.
Все эти охотники, и сам Силыч, и братки, и еще, хоть и мало оставалось из-за войны, привыкли каждый год, когда Мануйло отправлялся на щуке, тоже к этому дню начинать свой отпуск и садиться в ялики.
Стар стал к этой весне Силыч, до того стар, что никак и не чаял на своем десятом десятке и эту весну, как всегда, встречать на воде. Даже и утке-то его подсадной Маруське пошел восемнадцатый год. Про утку не думал, что доживет. И кто бы ни поглядел и на охотника и на утку, никто бы не поверил, что оба они встретят еще одну весну на воде.
Но закричала Маруська, почуяв весну, и Силыч, услыхав утку, перемог свои ревматизмы, собрался и поплыл вслед за Мануйлой.
А за Силычем собрались в ту же ночь и братки.
Нельзя пересказать о всех вологодских негодниках, но нельзя никак забыть Журавля.
Мы знали, еще когда он жил в своем маленьком глинобитном домике на-болотах в присухонской низине, в свое время, по молодости, он поверил в такую мечту, чтобы жить только охотой.
Дичи так много бывает на присухонской низине, что он захотел устроиться прямо на болоте в комарах и даже сманил на эту особенную жизнь одну вологодскую девушку.
Скоро жена испугалась этой жизни в болотах и убежала обратно в Вологду. Что ее испугало?
Разве мало рыбы в Сухоне, и в Леже, и в Вологде? Мало ли уток выводится, и гусей пролетает, и лебедей? А боровая дичь когда весной подымает свой голос, так и кажется, будто весь горизонт кругом заговорил!
Нет, конечно, голодной на присухонской низине не могла быть жена Журавля. Ошибка его расчета была в том, что охота его была не в том только, чтобы убить, – это было самое последнее. Его любительская охота была в чем-то совсем непитательном, как тоже и девушка городская искала общества, а муж угощал её тетеревами и утками.
Вот она от него и ушла.
После ухода жены охотник еще долго жил в мазанке, и все мы его знали.
Бывало, прилетят на присухонскую низину в великом множестве журавли, погамят весной, пошумят, покричат и разбиваются на пары, и этими парами скрываются в болотных зарослях. Каждой весной появляется на пойме один какой-нибудь одинокий журавль, он не прячется, а ходит по лугам с утра до ночи и не трубит, как трубят все журавли, а свистит.
– Чего он свистит? – спрашивают люди прохожие местных.
– Наверно, – отвечают, – пары не может себе подобрать!
И указывают на мазанку одинокого охотника на пойме.
И так говорят:
– Вот тоже был человек, жил – распевал, а как жена его оставила, он теперь тоже свистит…
Если же время придет такое суровое, что спрячется в зарослях даже и тот одинокий журавль, то разговор бывает иной:
– Кто, – спрашивают, – живет на болоте в таком маленьком мазаном домике?
– Одинокий человек, – отвечают, – по прозванию Журавль.
– А почему он «Журавль»?
На этот вопрос местные люди охотно рассказывают о том одиноком журавле, что не трубит, когда все трубят о победе весны, а только свистит.
Все, однако, кончилось счастливо тем, что умерла старушка – теща Журавля, и жена возвратила мужа с болота к себе в Вологду на свою жилплощадь. Все и кончилось тем, что Журавль сделался шорником и завел себе охотничий ялик.
Другой охотник, по прозвищу Длинный чулок, тоже когда-то мечтал заниматься охотой, как делом, но поглядел на судьбу Журавля и купил себе во время нэпа чулочную машину.
Случилось однажды, загорелась в Вологде деревянная слободка, и все бросились бежать из своих домиков и спасать вещи. Тоже и чулочник бросился со всеми со своей машиной, и за ним кишкой через всю улицу тянулся неразрезанный чулок.
Тут-то все и увидели, и многие поняли это в первый раз, что чулок в своем происхождении бывает един и делается как бы на ногу всего единого человека. Это всех так удивило, что чулочника с тех пор стали звать «Длинный чулок». Вскоре, однако, он свою машину забросил и вернулся к любимой охоте, но прозвище за ним так чулком и тянулось.
Вот и этот Длинный чулок был охотник неплохой и тем же охотничьим чутьем почуял утиный пролет и выехал на своем ялике. Еще несколько охотников с броней было с лесной биржи, несколько новых инвалидов Отечественной войны…
Раньше всех отчалил Мануйло, но, конечно, его щука не могла без помощи весел двигаться так же скоро, как легкие ялики. Вот отчего среди ночи Силыч первый нагнал щуку. Вода немного отсвечивала даже и ночью, и Силыч даже в темноте узнал в огромной фигуре у руля Мануйлу.
– Здорово, пинжак, – сказал он, – ты куда это плавишь щуку?
Мануйло дремал у руля и не сразу узнал Силыча, да к тому же они давно не встречались, и Мануйло думал, старик уже давно, на том свете живет. Когда же он взглянул, опамятовался, узнал, то в глубоком изумлении воскликнул:
– Живые помочи! ведь это ты, Силыч!
И заставил Силыча вылезти к нему на щуку.
С трудом, из-за проклятой, спины, выкарабкался Силыч на щуку, а ялик его Мануйло переставил с воды на щуку, как коробочку из-под спичек.
– Ай да дед! – сказал весело Мануйло старинному охотнику. – Всё живешь – не сдаешь. Сколько же у тебя, Силыч, из рубля вышло копеек?
И как рыбак рыбака, так и охотник сразу понял охотника:
– До рубля, – ответил он, – осталось мне семь копеечек.
И это означало, что Силычу теперь было девяносто три года.
– А сколько старухе твоей? – спросил Мануйло, поглядев на его утку.
– Маруське, – ответил Силыч, – пошел восемнадцатый год.
Другие охотники, перегоняя щуку, узнавали Силыча, и сами, конечно, просились на щуку.
– Живые помочи! – повторял Мануйло, помогая тому и другому выбраться на щуку.
Так еще до рассвета собрались славно все вместе с Мануйлой на щуке наши лучшие охотники: старый Силыч, братки, Журавль и Длинный чулок.
Всех их Мануйло предупредил, что он плавит детей, и они сейчас тут спят у него. Стараясь не шуметь, не смеяться, не будить детей, охотники поджались, замолкли и на заре все прикорнули.
Мы знаем, как хорошо им всем было: сами в молодости немало поплавали.
Глава пятнадцатая
Река Вологда впадает в реку Сухону, а с другой стороны, почти напротив, впадает в Сухону река Лежа. Неподалеку на присухонской низине есть никогда не затопляемый весенней водой холм Выгор, и с него все три наши реки – как на ладони.
Выгор – место весенних утиных охот.
Этой весной все эти реки прошли на очень низком горизонте, оттого захватили на молевой сплав только ближайшие к воде хлысты. Теперь редкая желтая моль из этих хлыстов плыла по Сухоне в сторону Северной Двины, изредка потукивая в бока буксирных маленьких пароходов.
Всю зиму люди работали, окатывая срубленный и ошкуренный лес к берегам рек. Но только самая малая часть этого круглого леса была захвачена первой весенней водой. В лесах еще полным-полно снегу, и та сплавная весна, настоящая весна воды для бассейна Северной Двины еще не пришла.
Но скорей всего дело было так близко к половодью, что охотники, чуя, как животные по запаху болот, приближение последнего часа зимы, при встрече делились этой радостью и говорили друг другу:
– Часом все кончится!
Напряжение этого часа в душе охотника бывает так велико, что им на сторону и смотреть нечего, они чувствуют по себе приближение этого великого начала весны – воды.
Рассказывая, мы вот тоже вспоминаем, как было раз в молодости, в одиночной камере политического заключенного: нам с соседом по камерам в тюрьме так запахло болотом. Какой это был чудесный запах!
И потом явственно в закрытых глазах показалось болото с кочками, обтаявшими на солнце. Такие видения бывают в одиночном заключении. Тоненьким зеркальцем была окружена в этом видении каждая кочка, и тяжелая кряква, переваливаясь с боку на бок, несмело переходила с кочки на кочку по неверному льду.
Не знаю никаких на свете приманок жизни чудеснее видения такого болота в тюрьме!
И вдруг товарищ, тоже страстный охотник, заключенный в соседней камере, выстукивает в стенку слова:
«Зима теперь часом кончится!»
И оказалось, что и ему тоже запахло собой весеннее болото, и он тоже вспомнил свою крякву на тоненьком льду между кочками.
Много не настучишься в тюрьме – надзиратель заглянет в дырочку и заругается, только и было сказано, что – часом все кончится.
– Мы были уверены, что это так из тюрьмы хорошо показалось болото и является прелестью, чтобы нас мучить в тюрьме, и после, как выпустят, все пройдет непременно, как сон.
И вот нет! из шалаша глядеть на болото оказывается еще лучше, и так оно пошло на всю жизнь.
Сколько раз, тоже из шалаша, мы своими глазами видели, что кряква иногда ошибается: бывает, и оскользнется и провалится, и так это было чудесно посмеяться вместе, и какие это милые люди, охотники, что могут в шалаше посмеяться над кряквой!
Как раз вот так и было в болотах на присухонской низине, когда Мануйло вывел свою щуку в реку Сухону. Кочки были окружены тонким зеркалом льда. А потом, когда солнце расправилось со льдом, вдруг, в какой-то час это сделалось: на каждой кочке сидела раздумчивая птица с большими черными глазами и длинным носом.
Чудесная картина! Кажется, это не просто известные птицы, а само болото очнулось, и так по-своему думает. Так понемногу и тебя втягивает болото в раздумье. И в болоте, кажется тогда, вовсе и нет времени, и время как-то уходит из-под души, и счет исчез.
Не сразу хватишься, одумаешься, придешь в себя и начнешь разбирать все по-своему.
Тут и большие кулики сидят, самые большие – кроншнепы, к лесам поближе сидят вдвое меньше кроншнепов вальдшнепы, вдвое меньше этих сидят дупеля, вдвое мельче дупелей – божий баран.
А еще меньше барана или бекаса, совсем каплюшка с воробья – гаршнеп: сам, правда, не больше воробья, а нос длинный, и в ночных раздумчивых глазах общая вековечная и напрасная попытка всех болот что-то вспомнить.
Вот она, эта попытка что-то вспомнить, повторяется бесконечно и переходит от кочки к кочке, от птицы до птицы:
– На веках это было, на веках это было, на веках это было…
Отчего-то становится грустно и даже жалко их всех, и в ответ на их слова о том, что на веках все это было, с досадой скажешь:
– Все было и было, да скажите хоть одно слово о том, что оно было-то?
И вдруг все откроется: все эти птицы и кочки болотные, как были, так и остались в былом, а я с малолетства оторвался от них и стремительно мчусь к небывалому.
Они весной летели вперед и прилетели на места гнездований, где они были. Я же человек, и у меня впереди – небывалое!
Дело Мануйлы было самосплавом довести щуку по течению до того места, где сходятся все три реки: Сухона, Лежа и Вологда, и тут у лесной биржи на Леже дожидаться буксирного парохода и отправить с ним щуку вверх по Сухоне на известный завод «Сокол» на Кубенском озере.
Для того и сплачивается лес щукой, чтобы он легче шел против течения.
Счастливо вышло, что буксир как раз тут и был на Леже и поджидал щуку. Мануйло тут же и сдал ее и, свободный, вместе с охотниками и ребятами вышел на Выгор.
Между охотниками с детьми теперь выходило, как и у нас в былое время в больших семьях в гостях: поглядят на тебя старшие одну минуту и забудут тебя, и ты живешь себе у чужих сразу как дома.
Особенно же хорошо было детям с Мануйлой. Познакомился он с ними, наговорил им всего от себя, и стало, как будто он что-то посеял и посеянное оставил с заветом: «Сами растите и радуйтесь!»
Время уж близилось к вечерней охоте, все большие и малые охотники бросились устраивать себе шалаши.
Присухонская низина, можно сказать, так и создавалась для встречи охотников с утками и для редкостных теперь уже в других местах дупелиных токов, тех самых, когда охотники, поняв места тока, днем ставят на нем зажженный фонарик. В темноте дупеля, собираясь на ток, почему-то теснятся к фонарику, и охотники стреляют по огоньку.
В особенности пришелся к сухонской долине незатопляемый холм Выгор. В ольховых зарослях тут есть, и елочки, чтобы взять с них лапнику на шалаши, есть гибкая ива, черемуха. Все с годами, конечно, сильно пощипано, зато на самой низине остается множество жердей от стогов сена, да тоже в тех же одоньях немало бывает и сена для спокойного спанья в шалаше.
За много лет у каждого охотника, конечно, определилось свое любимое место на Выгоре, и Силыч, пожалуй, не меньше как лет уже сорок ставил на одном и том же месте свой утиный шалаш.
Ни одного лишнего шага, ни одного случайного движения руки, и оттого у старого человека Хватает силенки, чтобы и в эту весну устроить себе все ладно и добыть своего весеннего селезня, как и в молодости.
Каких только болей нет в старых костях: и нытье, и ломота, и всякие внезапные схватки, пронзительные прострелы. Но долгая жизнь против всего этого находит защиту. И никак, не боли боится Силыч, а такого боится, что приходит без всякой боли.
– Бывает, вечером, когда наступит желанная минута и на светлой воде, как на озаренном чистом глазу самой земли, проплывает, сияя всеми красками в своем брачном наряде, селезень, Силыч тихонько выставляет сквозь дырочку в шалаше на этого селезня ствол своей «Крынки»…
Что это за «Крынка»?
А это редкостное ружье, в давнишние времена переделанное в охотничье из военного кремневого ружья крымской кампании. Таких ружей осталось теперь очень мало, но у кого оно есть, тот всех уверяет, что никакое ружье на свете, не может так сильно и громко ударить, как «Крынка».
В нашей округе такое ружье сохранилось только одно, звук его всем известен, и когда вечерней зарей раздается такой выстрел, все в своих шалашах обрадуются и скажут:
– Это Силыч ляпнул из «Крынки»!
Вот сейчас мы скажем о самом большом горе Силыча. Бывает, Силыч и пороху подсыпал на полку, и просунул длинное дуло в щелку шалаша, и вон он, селезень, разноцветный, выплывает на озаренную воду. Остается только нажать на гашетку. И вдруг вся цветущая жизнь исчезает, все обращается в глазах в кромешную тьму.
Вот этого и боится одного Силыч, и это бедствие неотвратимое называется куриной слепотой.
Не всякий раз, однако, это бывает, и не всегда беда приходится к тому мгновению, когда целишься.
Нельзя, однако, сказать, чтобы и на куриную слепоту в широкой душе Силыча не находилось бы утешительной защиты: куриная слепота приходит на короткое время, откроются глаза – приплывет другой селезень. А что тот селезень жив остался и даже весело потоптал его Маруську, то ведь, как раздумаешь, и то не беда.
Маруське тоже ведь надо отдохнуть от вечного обмана в пользу хозяина. Да и стара уже становится, ей теперь уже пошел восемнадцатый год, ей тоже надо оставить Силычу наследницу свою от дикого селезня.
Помаленьку, не торопясь, Силыч натаскал себе жердей, лапнику, сена и устроил шалаш. После того он достал себе хороший долгий кол, с одного конца затесал его, чтобы легко воткнуть в дно, а к другому прибил гвоздем привезенный из дому деревянный кружок. С этим маленьким круглым столиком, прибитым к длинному столбу, старик в высоких сапогах прошел по разливу на расстояние близкого выстрела, тут вбил он кол в дно так, что круглый столик пришелся как раз к самому зеркалу воды.
Все время, пока Силыч возился с устройством деревянного круга на воде для своей круговой утки, возле шалаша на ялике из открытой корзины за ним неотрывно следила Маруська своим маленьким круглым агатовым глазом. За семнадцать лет жизни с Силычем она отлично научилась понимать черед всех его действий на охоте, И теперь она ждала завершающий все позыв старика, приглашение занять сухое место на круглом столике.
Закончив работу, Силыч позвал ее тем голосом, как шваркает селезень, и Маруська безо всякого промедления стала на крыло и села на столик.
Никогда в обычное время Силыч не подрезает крылья своей подсадной утке и не связывает их, даже и корзину ее не накрывает: она у него совершенно свободна.
Единственно только теперь самой ранней весной, когда вся дикая утка с юга тронулась на север на места гнездований, Силыч опасается, не умахнула бы от него его Маруська, осторожно и вежливо вытягивает из-под нее утиную ее ногу и обносит ее круглым ремешком, нагавкой, к этой нагавке привязывает бечеву и конец бечевки привязывает к колу под водой. Утка, если захочет, может плавать кругом на длину бечевы, может отдыхать на кругу, а улететь ей не дает привязанная к ноге бечевка.
Тоже так и братки Павел и Петр устроились на своем месте в одном шалаше. Зрячий Петр глядел в дырочку на подсадную утку, а слепой Павел слушал, и когда что-нибудь слышал, то быстро и тихонько толкал Петра под локоток.
Вот какой слух был у Павла, что полет и шварканье селезня он слышал раньше подсадной утки!
Получив толчок под локоть, Петр приготовлялся и глядел на утку в ожидании, когда у нее начнет открываться клюв для крика. После того он ждал в воздухе приближение селезня.
Если же селезень, услыхав позывные утки, где-нибудь невидимо для Петра садился на воду, Павел всей ладонью трогал Петра по спине, и это значило, что он услыхал всплеск воды, когда селезень где-нибудь неподалеку садился.
Мало того! Слепой слышал самое подплывание селезня, слышал, как утка почесывается, если селезня почему-то долго все нет.
Вот почему и выходила охота двух человек, соединенных в одном, много лучше, чем охота двух даже отличных охотников, но разделенных друг от друга отдельными маленькими желаниями. Вот отчего Петр и Павел всегда были правдивы: у них было все вместе, у них не было отдельных желаний.
Точно так же, как все, устроив на круг свою подсадную утку, сидел тоже и Журавль. Шалаш его был совсем недалеко от того места, где когда-то стояла его мазанка, где он пытался свою охоту за утками, дупелями, тетеревами устроить как дело жизни. Что только он ни перенес от жены, кто только ни посмеялся над ним за эту попытку жить не тем, что установлено испокон веку для человека, а тем, чего только себе самому хочется!
Плохо было, главное, что ничему он, по правде, в этом опыте не научился. Дичи и рыбы для жизни было довольно. Уменья достать пищу на воде и в лесу ему хватало. Так почему же все-таки получилось, что жить одной любовью к своему делу нельзя?
Почему нельзя хорошему охотнику в богатейших дичью местах жить с любимой женой?
Этот вопрос оставался Журавлю нерешенным и оттого, что благородный охотник не хотел всю беду свалить на жену.
Нерешенный вопрос всего дела жизни создавал в душе Журавля, как у всякого человека, особую встревоженность на охоте, и это, как у всякого утиного охотника, передавалось и утке.
Такая нервная утка кричит не только селезню, но даже и всякой вороне: была бы тень – на воде и слышался бы в воздухе свист и шелест крыла. Летят же на вечерке, конечно, больше вороны и галки, чем селезни, и оттого и утка без перерыву кричит, и от каждой вороны охотнику приходится вздрагивать.
Зато у чулочника утка была такая спокойная, что хоть сюда в шалаш чулочную машину поставь. Закричит – и смело хватайся за ружье: подплывает селезень, замолчит – садись, и хоть машину сюда: и вяжи и вяжи длинный чулок.
Но это, конечно, только к слову пришлось, а на деле чулочник все на свете сейчас забыл, и ничего ему больше на свете не надо, как только бы на небе или на воде где-нибудь тихонько бы шваркнул селезень и на шварканье взметнулась бы утка и на всю округу по-своему заахала:
– Ах! Ах! Ах!
Глава шестнадцатая
Многим непонятно, как это можно любить природу и всей душой сосредотачиваться на убийстве животных. Для многих совсем непереносимо, как это охотники-любители, поэты в душе, могут на поющую во мраке ночи птицу в брачном наряде наводить ружье и потом друг перед другом хвалиться тем, чтет он больше всех убил и даже набил.
Со стороны, и правда, это совсем невозможно понять, но по себе мы должны разобраться и в природе охотника-поэта. Мы так понимаем, что каждый страстный охотник является обладателем огромного и многим вовсе неведомого чувства природы. Прямо же тут, близко за околицей, для него начинается волшебный мир. Душа его, как у пьяного, куда-то летит в переменах, ему, как пьяному, хочется за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Как и пьяный, он ищет друга, чтобы ему все сказать. Ему нужен трофей – доказать, что мир чудес существует и начинается совсем близко, прямо же тут, за околицей.
Настоящий поэт свое видение чудесного мира, его истинную правду утверждает стройным хором звуков. В этот хор вступают друзья поэта, и правда поэта между людьми утверждается: за околицей мир чудес существует. А сколько раз, бывало, в какую-нибудь деревеньку приходит дикий поэт, охотник, с глухарем в руках, и вся деревня собирается вокруг охотника, вся деревня удивляется, и тут между ребятами утверждается новая правда: за околицей начинается действительно мир чудес.
Так было на веках, с этого началось: само же страстное чувство природы требует поймать бегущего зверя, метким выстрелом остановить летящую птицу. И после самому своей собственной рукой поднять, подержать…
На этом для самого дикого поэта страсть кончается и остается еще тоже очень большое наслаждение: показать свой трофей близкому человеку, убедить его, удивить: такой чудесный мир у нас так близко, прямо же тут, за околицей.
– Друг мой! – говорит он, – пойдем со мной, я тебе все покажу, вот бери мое ружье.
На эти слова другой кто-нибудь и ответит:
– Милый друг! мне ружья не надо, я без ружья верю тебе: мир чудес существует, и прямо тут же, у нас за околицей, чудеса начинаются.
Так, может быть, с древних времен что-нибудь одно ладно складывалось с другим, в природе и в жизни человеками сама собой из этого выходила народная сказочка или песенка свадебная или похоронная. И вот кто-нибудь когда-нибудь понял поэзию как закон природы.
– А что, если, – сказал он, – я и сам так ладно сложу, как оно складывается?
Так он попробовал, сложил и запел. И так создался на свете настоящий поэт. Было тоже так и с Мануйлой. Он с малолетства был промысловым охотником, для него поймать зверя или остановить полет Птицы было постоянным занятием, но с охотниками-любителями он сходился, как он думал сам, из-за дружбы, и они держались его из-за его понимания всего, что делается к природе. Ему нужно было только след увидеть, чтобы без всяких собак выставить зверя на охотника. Самое же главное, что после всего Мануйло рассказывал, и слова его лучше, чем все трофеи охотников, всех убеждали в том, что мир чудес начинается прямо тут же у нас, за околицей.
Так у Мануйлы складывалось, что для охоты ему уже не надо было ни ружья, ни подсадной утки и собаки, да, пожалуй, и совсем без охотничьих угодий он мог бы оставаться с одной «правдой» охоты в душе, как он сам называл свои сказки.
И в этот раз он совсем не рассчитывал на утиную охоту и нарочно поставил свой шалаш на самом верху Выгора, чтобы отсюда лучше видеть движение птиц на вечерке, а так же поберечься тут на высоте от внезапной весенней воды: до сих пор еще никогда весенняя вода не затопляла Выгор доверху.
Как часто мы говорим между собой: «Ну, скажите по правде». Или тоже и так: «По правде говоря…» И так часто мы говорим, ссылаясь на правду, что со стороны можно подумать, будто вообще-то мы друг от друга всегда что-то скрываем. И так чувствует себя и ведет себя каждый.
Но Мануйло так понимал, что в природе все, что там есть, на правде стоит, и он, рассказывая, как бы черпает воду глубоким ведром и вытаскивает ее со дна из глубины на свет.
Как хороши эти еще не сказанные слова о всяком животном, какое только полюбится, о каждом цветке, дереве, птице, если только в них поместил частицу себя самого. Тогда какая-то утка, или береза, или этот Выгор на присухонской низине оживают по-человечески во всем единстве природы.
С высоты своего шалаша Мануйло спокойно мог наблюдать всех охотников и всех пролетающих птиц. Постепенно входя в тишину, он озарился, и начались для него чудеса.
Летела парочка: впереди серая утка кряква, за ней селезень в своем чудесном брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И только бы обеим парам встретиться и разлететься: одной паре в хвою сторону, другой – в другую, вдруг ястреб кинулся на утку из второй пары, и все смешалось.
Сердце оторвалось у охотника без ружья, но, к счастью, ястреб в этот раз промахнулся.
Тронутая когтями ястреба испуганная утка бросилась прямо вниз и на пойме скрылась в кустах.
Ястреб, ошеломленный неудачей, и какой – из четырех уток он не взял ни одной! – ястреб медленно подплыл под синюю тучу.
Селезень из разбитой пары, придя в себя, стал искать свою утицу и сделал небольшой круг. Нигде пары его не было, и только далеко впереди первая пара продолжала свой путь.
И вдруг одинокий селезень стал на длинное крыло и, вытянув и так-то длинную шею, стрелой пустился догонять ту пару.
Тут завороженный зарею Мануйло не выдержал.
– Ты понимаешь, Митраша – сказал он, – зачем он так пустился?
– Не понимаю, – ответил Митраша.
А вот я тебе скажу: он подумал, что какой-то другой селезень подхватил его утку, и теперь они вместе от него удирают. Вот он теперь и помчался.
Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать.
– Это она зовет своего потерянного селезня? – = спросил Митраша.
– Может быть, своего, – ответил Мануйло, – а может быть, и другого – у них время скорое, потужила и будет.
Вдруг показался на желтой заре новый одинокий дикий селезень и услыхал два разных голоса: звала его и та дикая утка, потерявшая своего селезня, и подсадная утка охотника Журавля.
Между двумя утками, дикой и подсадной, завязалась борьба голосами. Утка Журавля разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила, Селезень выбрал дикую и потоптал.
– Летят, летят, – сказал Мануйло.
– Где, где? – шепнул Митраша.
И сам увидал.
Совершив огромный круг, возвращалась первая пара, и за ней мчался тот селезень первый, потерявший из-за ястреба свою пару. Он, видимо, как это и у людей постоянно бывает, мчался за воображаемой уткой, принимая ее за свою, украденную чужим селезнем.
Его же настоящая утка, довольная, очищала сейчас на плесе перышки, смазывала их жиром, и молчала, молчала…
Зато подсадная утка охотника Журавля, теперь одна, без соперниц, взялась достигать дикого селезня.
И он услышал ее и оставил воображаемую утку.
– А ты говорил, – сказал Митраша, – он мчался за своей. Как же так?
– Очень просто, – ответил Мануйло, – у них время скорое: по-ихнему, время прошло, и догонишь ли еще ту, да и хватит ли силы отбить, а тут вон орет, разрывается.
Селезень так стремительно бросился к подсадной утке, что Журавль не успел выстрелить, и он потоптал. После того счастливый селезень стал делать свои обычный селезневый благодарственный круг. Журавль мог бы спокойно целиться, но ему вспомнилась его горячая молодость, когда он так полюбил свою девушку, что хотел присвоить себе всю природу и утвердил среди поймы свою мазанку. Весь мир на этой пойме ему явился, как возлюбленная.
Так, вспомнив себя, охотник не стал стрелять дикого селезня, и он улетел.
– Почему же он его не стрелял? – спросил Митраша.
Мануйло ответил:
– Это бывает.
Митраша почти рассердился.
– Как так – бывает?
– Очень просто, – ответил спокойно Мануйло, – налаялся охотник за день и уснул.
Глава семнадцатая
Еще светила лимонно-желтая заря, еще можно было хорошему стрелку схватить тень пролетающей крупной птицы, но маленьких ночных птиц уже не было видно, и слышались только их голоса. Ученые люди, конечно, знают и понимают все голоса на болоте. Но простые охотники всего за всю жизнь свою не узнают, и для каждого, самого даже хорошего, остаются такие голоса, что в темноте слышишь каждую весну и знаешь голос хорошо, а какой он сам, кто прокричал, не знаешь и не можешь сказать.
Вот когда пришло время к вечеру и маленькую птицу стало не видно, Митраша услыхал этот голос. Знакомый голос неизвестного существа, может быть, даже и не птицы, похож был на то, как если бы маленький конек-горбунок, летая по твердому воздуху, без перерыву стучал звонко и часто своими крошечными копытцами.
В свое время Митраша спрашивал отца своего, но тот тогда вслушался и стал дожидаться, когда оно повторится, а оно не повторилось тогда, и вот теперь явственно слышалось: конек скакал и стучал копытцами.
Услыхав теперь, Митраша толкнул Мануйлу и тихонько спросил:
– Это кто?
Как и отец тогда, Мануйло повернул лицо в ту сторону и стал дожидаться. Скоро конек опять застучал, и Митраша опять тронул Мануйлу и сказал тихонько:
– Вот!
Опять Мануйло молча проводил таинственный звук, и опять неведомая птица сделала круг и вернулась.
– Вот слышишь теперь? – опять тронул Митраша.
– Слышу! – ответил Мануйло.
Митраша это «слышу» так понял, будто Мануйло прямо так-таки и сказал:
– Слышать-то, мальчик, слышу, да не знаю, нужно ли нам это знать, мало ли на свете есть такого, что лучше нам о нем с тобой и вовсе не знать.
Вечерело все больше и больше. То и дело проносились спаренные утки. А подсадные до того насиделись дома за зиму в ожидании весны, что орали даже и спаренным селезням. Холостые же селезни, как только появлялись, так, услыхав голос той или другой подсадной, сразу поддавались обману и попадали в руки охотника.
Но один селезень не поддавался обману, скорей всего, понял такой обман еще прошлой весной. Каждую весну везде бывает непременно один такой селезень – мучитель охотников – и почему-то называется у них «профессором».
Уже совсем стемнело, и едва-едва только на фоне воды можно было навести мушку. У всех охотников, кроме Силыча, было довольно настреляно, но бедному старику в этот раз все не везло: то, было раз, кремень старинного ружья подвел, то сам поскользнулся и пошумел, то, как водится, нечистый помешал…
Все утки орали и орали, стараясь завлечь «профессора», но старый опытный «профессор» кружился и не обращал на голоса никакого внимания.
Все утки кричали в одно:
– Ах-ах-ах!
Но Маруська вдруг почему-то крикнула по-своему:
– Ха-ха-ха!
Такой голос понравился «профессору», он опустил вниз шею-стрелу, скосил-согнул крылья и, упав на воду, так шукнул, что даже и Силыч услыхал и приготовился.
А уж как Маруська-то надрывалась! Нам даже со стороны казалось, что вроде как бы ястреб налетел: все утки вдруг, услыхав, наверно, эти необыкновенные позывные Маруськи, на мгновенье примолкли, и слышалось одно Маруськино:
– Ха-ха-ха!
Какие-то разные прутики, в темноте и не поймешь, закрывали «профессора» от Силыча, и старик уже начинал думать, не подшумел ли уж он «профессора», или, может быть, «профессор» и сам разгадал предательство Маруськи, затаился и так будет ждать, а там полная темнота наступит, не разглядишь даже и на воде.
Заря совсем, совсем доцветала.
И вдруг тут совсем рядом послышалось со стороны «профессора»:
– Шварк!
От последней зари зеркальце стало желтеньким и на желтом прямо весь и выкатил черный, как вырезанный, «профессор».
Силычу было, как будто он все свои старые годы, со всеми болезнями, битком забил пыжами в свою огромную «Крынку» и нажал гашетку – и старые годы разом все вылетели.
Тогда в тишине вечерней зари не только мы тут, все охотники на присухонской низине, но и там поняли, далеко на лесной бирже, на реке Леже, и каждый сказал:
– Вот это так, это Силыч ляпнул из «Крынки»!
Так пришло счастье, и по нашим охотничьим правилам в таком случае непременно надо сплюнуть на левое плечо. Так мы к этому привыкли, что некоторые даже перенесли на погоду: что как только заиграет небывало прекрасный денек, так не очень-то показывать радость, а лучше удержаться, а что лишнее накипело в душе, взять тут же и сплюнуть через левое плечо.
А сколько накипело всего лишнего от радости у Силыча! Вот он скорей всего тут и не сплюнул…
Когда рассеялся дым, Силыч ясно видел еще, что селезень-«профессор» плоским темным пятном неподвижно лежал на лимонно-желтой воде между двумя черными кочками. Вовсе не чувствуя лет своих, резвым юношей выскочил он из шалаша, вошел в воду и тут-то вдруг мгновенно, как самая темная ночь, охватила его всего куриная слепота.
Тут надо сказать, что не всякая слепота одинакова, Бывает, слепой, как и все слепые, наружу ничего не видит, а сам в себе с закрытыми глазами видит чудесные картины, написанные то огненными, то водяными знаками. А вот эта куриная слепота, как она бывала у Силыча, ничего и там внутри человеку не оставляла. Да и не мудрено, что темнота у Силыча застелила не только селезня между черными кочками, но и весь его внутренний мир.
Ведь эта темнота застала его, охотника, на том самом месте, когда все долгие ожидания весны, все бесчисленные порывы, устремления, попытки сошлись в единый момент исполнения всех желаний: прекрасное мгновенье остановилось.
Мало того! это действительно было так, что болезни свои Силыч забил в стволы, и они все вылетели. Теперь ему, как всякому охотнику, оставалось только взять то самое, чего он добивался…
Удивительно в охоте это мгновенье, когда охотнику остается только пойти и взять убитую дичь. Пожалуй, можно даже сказать, что взять и подержать немного в руке убитую дичь и взглянуть на нее глубоким глазом, перед тем, как опустить ее в сумку, есть самый важный, самый глубокий момент охоты. Опустив дичь в сумку, охотник вроде как бы с чем-то простился, расстался…
Некоторые охотники даже любят поскорей кому-нибудь свою дичь подарить, другие хвалятся, что они, как охотничьи собаки, дичь свою не едят.
Взять свою дичь, пожалуй, действительно самый важный момент, и это видно особенно, когда почему-нибудь нельзя бывает взять убитую дичь: в темноте подстрел убежит, нырнет и затаится под листом утка, с горы свалится козел в недоступную глубину. Да, это хуже всего, когда убитую дичь взять нельзя.
Так это и случилось с Силычем. Конечно, внезапная слепота не остановила его движения к убитому селезню: ведь он же увидел его, и, казалось, идет теперь прямо в том направлении. Но только он ошибался, он шел не туда, а вода становилась ему все глубже и глубже.
Хорошо еще было, что Мануйло с горы все видел и понял сразу куриную слепоту: старик шел водой в одну сторону, а селезень оставался в другой.
Мануйло бросился бежать с горы и остановил старика в то время, когда вода начала уже заливать к нему в сапоги. Он вывел его на берег, а Митраша принес и отдал ему селезня.
Хорошо, что это бывало уже не раз и ничуть не расстроило Силыча: пусть темнота, но селезня он держит в своих руках! И еще он знал хорошо, – через какой-нибудь час прямо сном уйдет его слепота и он успеет даже в эту ночь попасть на глухариный ток.
Устраиваясь в шалаше на сон грядущий, он сказал:
– Доплетусь как-нибудь и на Красные Гривы.
И, поблагодарив Мануйлу, уснул.
Назад: Часть четвертая Мануйло из Журавлей
Дальше: Часть шестая Красные гривы

