Часть I
Глава I
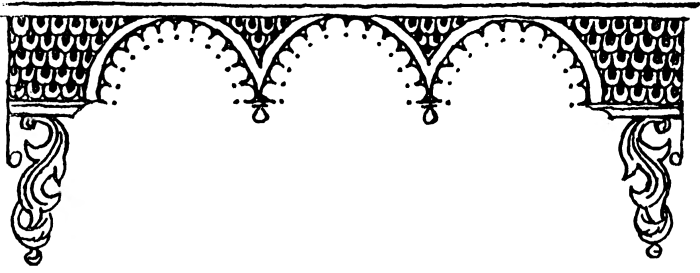
Вечерний сумрак опустился на стены Акрополя. Конон и Гиппарх вышли из храма и очутились на обширной площади, всего какие-то полчаса тому назад еще залитой светом, полной жизни, а теперь опустевшей. Они спустились по лестнице Пропилеев и вышли на широкую дорогу, шедшую между могилами и надгробными памятниками. Далеко впереди, у входа в город, виднелись еще кое-где огни факелов. Скоро они исчезли. Стих и последний шум. И только резкий крик запоздалых птиц, пролетавших высоко в воздухе, слышался порой.
Конон был тот самый молодой триерарх, которому удача на войне создала вдруг блестящую репутацию.
Две недели тому назад, стоя на якоре возле Сигеи с пятнадцатью триерами, составлявшими авангард флота Алкивиада, он получил известие от своих легких разведывательных судов, что под Сестосом идет жестокая битва. Флот, выставленный Лакедомонией и Сиракузами, пытался прижать к берегу афинские галеры, находившиеся под командой Тразилла. Армия перса Фарнабаза покрывала весь берег моря. Запертые в бухте суда афинян не смогли бы долго сопротивляться натиску всего дорийского флота и погибли бы под ударами варваров… Вдруг на горизонте показались паруса. Суда приближались. Сражающиеся — одни с ужасом, а другие с радостью, увидели развевавшиеся на верхушках мачт пурпурные флаги грозной ионийской лиги. Подгоняемый ветром, вспомогательный флот, убрав весла, приближался на всех парусах, и уже можно было различить тонкий след пены, вскипающий у бортов. Напрасно Миндарос выслал навстречу ему самые крепкие и самые тяжелые лакедомонийские корабли. Они не смогли выдержать ужасного удара. Полузатопленные, пробитые таранами, печально качались они на волнах, покрытых обломками. Моряки Тразилла с новыми силами бросались на неприятеля; последние лучи солнца освещают показавшиеся на горизонте остальные корабли Алкивиада, которые тоже спешат принять участие в битве. Остатки флота Миндароса, позорно бегут…
Конон, по приказанию стратега, тотчас же отправился в Афины сообщить счастливую весть об одержанной победе. Население Афин, созванное пританами, заставило его взойти на Пникс, чтобы оттуда сделать сообщение народному собранию. Молодой триерарх не обнаружил никакого смущения, в первый раз всходя на трибуну, с высоты которой столько знаменитых мужей бросало уже свои страстные призывы.
Согласно обычаю, он сложил на жертвенник свое оружие: щит из полированной стали, обитый золотыми гвоздиками, с изображением страшной Медузы; кожаную перевязь вместе с тяжелым мечом, шлем с красным султаном из конских волос; наконец, копье из ясеня с тройным рядом украшений из меди на древке. Он откинул за плечи пурпурные складки плаща. Оставшись только в вышитой тунике, поверх которой была надета доходившая до талии легкая кираса из шерстяной ткани, украшенной серебряными блестками, и стоя на трибуне с обнаженными ногами, обнаженными руками и непокрытой головой, он так живо напоминал собою бога войны Ареса, что аплодисменты раздались раньше, чем он заговорил. Он рассказал о битве и сделал это просто, без излишних прикрас Зевгиты приветствовали его восторженными криками, а всадники, к классу которых он принадлежал, стряхнув свою обычную леность, поднялись, чтобы оказать ему честь. Увлеченная порывом, толпа народа устремилась к трибуне. Конон видел тянувшиеся к нему снизу руки и открытые рты, громко кричавшие что-то, но что именно, разобрать было нельзя. Видя, что ему уже не заставить слушать себя, он схватил копье и угрожающе потряс им; затем обернулся лицом к востоку и опустился на колено, взывая к богине, статуя которой смотрела на него с высоты Акрополя. Громкие крики слились в один протяжный рев, и этот рев, прогремев по холму, пронесся через город и покатился по равнине к морю. Старикам казалось, что вернулись славные дни, наступившие после Саламина и Микале. Те, что не были очевидцами великой войны, снова приобрели надежду. Все видели в молодом воине того, кому суждено отомстить за сиракузский позор.
В тот день, желая уклониться от оваций, когда он был в Парфеноне в числе зрителей при конце Дионисий, Конон вынужден был искать убежище в храме Победы. Его сопровождал скульптор Гиппарх, его товарищ с юношеских лет. Теперь оба друга с наступлением ночи направлялись к Афинам.
— Лаиса была очень красива сегодня, — сказал Конон. — Она должно быть так же богата., как красива: содержать столько носильщиков…
— Она и в самом деле богата, — отвечал Гиппарх. — Ее присутствие на празднествах удивляет меня. Она бывает на них так редко. Во-первых, потому, что выходит только после десяти часов: ее белая кожа боится яркого солнца. Потом культ богов привлекает ее меньше, чем общество тех умных и талантливых людей, которым она открывает свой дом.
— Ты бываешь у нее?
— Нет. Один раз она приглашала меня к себе посмотреть древнюю статую, привезенную с Крита. Я тогда только что женился: Ренайя, по-видимому, была недовольна; мне самому не хотелось идти к ней и я остался дома.
— Это правда: ты один из тех редких афинян, которые любят тишину гинекея и отказываются от развлечений вне дома. Я знаю даже, что Каллиас, наш старинный товарищ, считает тебя за одержимого священным недугом.
— Пусть он считает меня кем хочет, — отвечал Гиппарх с раздражением, — но пусть оставит меня в покое, а, главное, пусть не жалеет меня. Мне не принесло бы счастья, если бы я, подобно ему, занимался составлением новых румян для поблекших щек стареющих вдовушек. Я живу моей женой, моим сыном и моими статуями. Любовь к ним наполняет всю мою жизнь. Я сам хотел такой жизни и лучшего ничего не желаю, уверяю тебя, потому что мне такая именно и нравится — тихая, трудовая жизнь, полная семейных радостей…
— Впрочем, — прибавил он после короткой паузы, — хотя я и редко участвую в народных собраниях я, так же, как и многие другие, интересуюсь делами нашего города! Эта война, которая началась чуть ли еще не тогда, когда мы только появились на свет, и которая, может быть, продлится еще двадцать пять лет, медленно разоряет нашу родину, которую я нахожу такой прекрасной и которую мне так хотелось бы видеть благоденствующей. Несмотря на одержанную тобой победу, я предвижу дурное будущее. Мне кажется, что боги сильно колеблются с некоторых пор. Будущее ненадежно…
— Мы укрепим его, — сказал Конон, наткнувшись вдруг на пьяного матроса, растянувшегося посреди дороги.
— Познай самого себя! — воскликнул Гиппарх, смеясь.
— Вот один из твоих «героев»; он выпил слишком много меду. Я оттащу его в сторону: может быть, не все колесницы проехали…
Они были на середине холма. Пылавшие во время празднества вокруг храма факелы догорали в высоких подставках, освещенные слабым светом лиственницы отбрасывали длинные дрожащие тени, тянувшиеся до самой дороги.
Скульптор подхватил матроса под руки и уже собирался оттащить его в сторону, как вдруг где-то совсем рядом раздались громкие пронзительные крики.
— Это повздорили такие же пьяницы, — сказал он, выпрямляясь.
— Нет, — возразил Конон, внимательно прислушиваясь, — нет, это зовут на помощь. Это женский голос, — прибавил он, обнажая свой короткий меч и бросаясь через могилы в ту сторону, откуда слышались крики.
Вынужденные обходить огромные надгробные монументы и наталкиваясь в темноте на разбросанные всюду маленькие памятники-колонки, друзья медленно продвигались вперед. Наконец, они увидели несколько мужчин, в темных одеждах, возле распростертой на земле женщины во всем белом. В руках у них были сорванные с нее золотые украшения.
— Что вы делаете? — крикнул Конон громовым голосом.
Двое грабителей вскочили и убежали. Но двое других, вооруженные палками с железными наконечниками, приблизились с угрожающим видом, готовые наказать за непрошеное вмешательство.
Меч триерарха был молниеносен. Один из противников, вскрикнув, упал, другой — отскочил назад, бросил свою палку и скрылся в темноте.
— Я их проучил, как следует, — сказал Конон, вытирая о траву лезвие.
— Значит, это были не призраки, — воскликнул Гиппарх.
Он быстро отдернул край пеплума, который грабители накинули на голову своей жертвы; и увидел лицо такое же бледное и холодное, как мрамор на памятниках соседних могил.
— Да, это женщина… Клянусь Зевсом, это дочь Леуциппы! Я знаю ее, я делал недавно для ее отца статую Артемиды.
— Как она сюда попала? — спросил Конон.
Он наклонился и прикоснулся рукой к лицу молодой девушки.
— Мне кажется, она умерла.
— Нет, она в обмороке. Посмотри, свежий воздух приводит ее в себя. Отнесем ее к отцу.
Афинянка сделала легкое движение: она, по всей вероятности, слышала эти слова, медленно открыв глаза, она сказала слабым голосом, которому тщетно старалась придать твердость:
— Я Эринна, дочь Леуциппы. Мне не нужно никакой помощи; я пойду одна.
Она сделала попытку приподняться, но у нее не хватило сил и она снова опустилась на землю.
Серп нарождавшегося месяца, выскользнув из-под серебристого облачка, осветил мягким светом место, где произошло нападение. Это был пустынный уголок на скале Акрополя, приходившийся как раз напротив Ареопага . В пожелтевшей траве лежало несколько надгробных плит. Видневшиеся тут и там повалившиеся колонны и обломки мрамора служили доказательством, что в эти места редко заходили посещать могилы умерших.
Конон наклонился над молодой девушкой, завернул ее, несмотря на слабое сопротивление в большое белое покрывало, которое казалось саваном, и, подняв без всякого усилия, посадил, прислонив спиной к одному из мраморных памятников, у подножья которого Гиппарх уже разостлал свой плащ.
— Благодарю, — сказала она.
Видя, что мужчины смотрят на нее с беспокойством, она прибавила слабым голосом:
— Простите меня… я так испугалась и так измучена…
— Девушка, — сказал Гиппарх, — твоя голова склоняется помимо твоей воли, и ты еще бледна. Ты уверена, что не ранена?
Она отрицательно покачала головой.
— Тебе больше нечего бояться, — продолжал скульптор. — Мы свободные граждане Афин, и мы не оставим тебя. Один из нас отправится за твоим отцом, другой останется здесь. А если хочешь, мы отнесем тебя домой…
— Нет, — отвечала она покраснев. — Я смогу идти сама.
Но силы опять изменили ей, — длинные ресницы слабо затрепетали и прелестная головка снова склонилась на плечо.
— Надо же, наконец, на что-нибудь решиться, — сказал Гиппарх, — останься с ней и, если она опять потеряет сознание, смочи ей виски водой. Я побегу к Леуциппу и постараюсь, как можно скорее, вернуться обратно вместе с рабами.
Неподалеку от этого места, среди розовых лавров, струился по каменистому ложу маленький ручеек, впадавший в Кефис. Конон спустился к ручью и, наполнив свой шлем чистой водой, смочил лицо афинянки. Она открыла глаза и, взглянув на стоявшего перед нею молодого воина, сказала немного дрожащим голосом:
— Что со мной случилось? Зачем я попала сюда?
— Ничего, почти ничего, успокойся. Ты, вероятно, заблудилась, и на тебя напали грабители. Случай, пославший нас, дал нам возможность защитить тебя.
— Ты говоришь случай? Вернее, Афина, моя покровительница Афина…
Она умолкла и замерла, сложив перед собой руки. По всей вероятности, она молилась и благодарила своих домашних богов. Ее тонкий белый силуэт ясно обрисовывался на темном мраморе памятника, Конон невольно залюбовался ее целомудренной и чудной грацией. Через минуту девушка заговорила опять:
— Я припоминаю… Афина — моя покровительница, пожелала, чтобы я могла вспомнить ужасные минуты нынешнего дня. Это она вверила меня тебе… Я пошла в храм вместе с матерью и с кормилицей. Но там была такая давка, что мы скоро потерялись. По дороге в храм нам встретились некоторые из моих подруг. Моя мать, наверное, подумала, что я отправилась обратно домой с какой-нибудь из них… Я долго сидела на ступенях пропилеев: не знаю, почему-то проходившие мимо меня люди смотрели на меня как-то странно. Когда я решилась покинуть Акрополь, уже наступала ночь. Я пошла по боковой тропинке, потому что на дороге было много пьяных. Когда я проходила через оливковую рощу, мне показалось, что меня преследуют. Я побежала. Вдруг люди, одетые в темное, как рабы, напали на меня. Они схватили меня и грубо бросили на землю. Я вскрикнула. Ты и твой друг услыхали меня и спасли…
Она посмотрела вокруг…
— Где же твой друг? Мне кажется, что я его встречала прежде…
— Он ушел сообщить твоему отцу о том, что случилось.
— Мой отец, наверное, сам захочет пойти сюда; но он старик, не надо допускать, чтобы он утомлялся.
Молодая девушка сделала движение, желая приподняться, но Конон опустил руку на ее плечо и, суровым, несколько повелительным тоном, которым разговаривали греки того времени с женщинами, сказал:
— Сиди, я не хочу, чтобы ты вставала…
И прибавил мягче:
— У тебя больше мужества, чем сил. Ты уже два раза была в обмороке…
Она молча собрала свои длинные волосы и поправила золотой обруч, аграф на котором был сломан.
— Я потеряла все мои украшения… Лизиса рассердится.
— Лизиса не рассердится, — ответил, улыбаясь, Конон. — Гиппарх нашел твои драгоценности. Кто эта Лизиса, о которой ты говоришь? Твоя мать?
— Нет, это моя кормилица; я всего только год тому назад покинула ее комнату: у меня теперь своя отдельная комната… Но она любит меня так же, как мать.
— Все, кто тебя знает, должны любить тебя так же, как она.
— Почему? — спросила молодая девушка, оживляясь.
— Я и сам не знаю почему, — сказал он, немного смущенно. — Подождем прихода Лизисы и твоего отца… Хотя у тебя такой же певучий голос, как у бессмертной богини, и слушая его, я испытываю удовольствие, думаю, что тебе не следует больше говорить. Послушайся меня, отдохни, я постерегу твой сон… Мне кажется, ты озябла. Ночью с гор дует ветер, а ты легко одета. Я прикрою тебя плащом?
— А ты? Ты забываешь о себе.
— О! я, я воин: я не боюсь холода.
— И вообще ничего, — сказала она тихо.
— Ничего, — повторил Конон, невольно улыбаясь, услышав эту похвалу. Он отстегнул свой плащ и накрыл им молодую девушку, которая не сопротивлялась, так как ей и в самом деле было холодно.
— Теперь надо спать, не надо больше разговаривать.;. Все женщины немного болтливы, — прибавил он поучительно.
— Однако, — застенчиво сказала Эринна, — что же я отвечу моей матери, когда она спросит у меня твое имя, чтобы произносить его в наших вечерних молитвах.
— Не все ли равно? По всей вероятности, нам не суждено больше видеться.
В голосе молодого человека звучало сожаление: Эринна заметила это и задумчиво ответила:
— Это зависит от тебя. Моя мать все-таки спросит у меня твое имя. Я сама буду горячее молиться богам, если буду знать имя человека, лицо которого запечатлеется в моей памяти.
— Меня зовут Конон, Алкмеонид, сын Лизистрата. Я афинский триерарх. Боги должны любить молитвы девушек. Я буду сражаться с большим мужеством, если ты хоть изредка будешь молиться за меня богам… Скажи, кроме того, своей матери, — прибавил он после короткого молчания, — скажи своей матери…
— Что? — спросила молодая девушка, почувствовав, как забилось сердце.
— …своей матери или Лизис… или лучше нет… не говори никому ничего… Знай, что если случай снова пошлет тебе смертельную опасность, я буду защищать тебя как Геракл… Я готов вступить в борьбу даже с богами… Я говорю это для тебя одной, Эринна, и я не знаю, какая сила заставляет меня говорить тебе это.
— Я сохраню это для себя одной, — отвечала она, и ему показалось, что он видит, как под легким покрывалом вспыхнуло ее молодое лицо.
Она тихо продолжала:
— Потому что я никак не могу заставить себя чувствовать после произошедшего испуг и тревогу. Я, наоборот, чувствую, что никогда не была ни так спокойна, ни…
Конон опустился на колени и взял ее руку.
— Ни?.. — спросил он.
— Ни так спокойно, ни так счастливо, — прошептала она.
Она прислонилась головой к мраморной плите, закрыла глаза и замолчала.
Он смотрел на нее, испытывая очарование, которое исходило от молодой девушки, и к которой он за минуту перед тем прикасался совершенно равнодушно. С лицом, обрамленным золотистыми волосами, закутанная в свои прозрачные покрывала, которым полумрак придавал гармонию и таинственность, девушка могла бы служить моделью для одной из тех статуй Артемиды, что Лизипп и Фидий так любили изображать на ложе из сухих трав и смятого папоротника.
Он хотел заговорить, но не находил в себе достаточно мужества, чтобы выразить все то, чем была полна его душа в эту минуту. Может быть, в нем смутно зарождалось желание, чтобы это златоволосое дитя, посланное неожиданно судьбой стало спутницей его жизни. Робея так, как он никогда не робел перед непоколебимой фалангой спартанцев, он не знал, что молчание передает глубину душевного волнения красноречивее всяких слов.
— Эринна… — всего лишь смог воскликнуть он, и голос его осекся.
Она невольно опустила глаза, встретившись с ним взглядом, и в первый раз в жизни почувствовала какое-то странное смущение в душе.
Вдали показался свет. Слышалось бряцание оружия, голоса, шум шагов.
Колеблющиеся огни факелов бросали на равнину отблески, густой дым, поднимаясь вверх, закрывал звезды.
Впереди толпы слуг шли Леуциппа с Гиппархом. Несмотря на усталость от быстрой ходьбы, старик, опираясь на палку из слоновой кости, поклонился Конону со всем величием истинного афинянина.
— Привет Конону, сыну Лизистрата. Твоя доблесть мне известна из рассказа о твоих подвигах против врагов Афин. Да будут благословенны бессмертные за то, что твоей славной руке я обязан сегодня спасением жизни моей дорогой дочери.
— Леуциппа, твои похвалы приятны мне. Твоя дочь уже поблагодарила меня за это улыбкой. Посмотри, жизнь вернулась к ней, но она боится твоего гнева.
— Моего гнева, — воскликнул старец, раскрывая объятия, в которые со слезами бросилась смущенная Эринна. — Она хорошо знает, что ей нечего бояться моего гнева. Неблагоразумная! Зачем ты так отдалилась от твоей матери? Почему не осталась ты под защитой плаща богини Афины, благосклонной к робким девушкам? Твоя мать побежала без покрывала к Искомаку, Диоклиду и к другим. Их дочери уже вернулись к своим домашним алтарям; ни одна из них не видала тебя. Наши рабы обыскивают всю дорогу в Фалеру; я послал стражу к городским воротам. Твой брат вооружился и тщетно вопрошает безмолвное эхо Пникса, Ликея и Ареопага. А я, твой старый отец, я совершил поздние возлияния богам. Я видел мою дочь, надежду и опору моей старости, беззащитной, предоставленной насмешкам и оскорблениям бесстыдной толпы. Селена услышала мою мольбу. Благодаря ей, благодаря вам, афиняне, благородное мужество которых она возбудила, мне не придется посыпать главу пеплом моего печального очага!
Он сделал знак. Две черные рабыни подошли к Эринне, распустили ее волосы и, умастив их сирийскими благовониями, принесенными в золотых сосудах тонкой работы, собрали на макушке, окружив полотняными повязками. Затем они накинули на нее длинный темный плащ, вышитый шелком, и повели к носилкам, кожаные занавески которых чуть заметно колыхались от легкого ночного ветерка.
Четыре либийца, с обнаженными торсами, подняли носилки на свои могучие плечи. Рабы взмахивали факелами, с которых падала горячая ароматная смола, рассыпаясь тысячами искр. Леуциппа, все еще опираясь на свою палку из слоновой кости, встал между Кононом и Гиппархом, и шествие, соразмеряя свой шаг с мерным шагом носильщиков, медленно направилось к городу. Скоро факелы, колеблемые ветром, осветили красноватые фасады первых домов. Сандалии носильщиков застучали по плитам, и спустя некоторое время носилки остановились.
Носсиса стояла на пороге, окруженная женщинами. В знак траура она сняла свою анадему, скинула покрывало, и ее распущенные волосы ниспадали на плечи. Эринна, выскочив из носилок, бросилась в объятия матери. И они, обнимаясь, не в силах сдержать слезы, удалились в гинекей.
Леуциппа сказал:
— Послезавтра мне предстоит принять моих друзей: оратора Лизиаса, Аристомена, художника Критиаса, врача Эвтикла и других. Конон и ты, Гиппарх, согласны вы оказать честь моему очагу и быть среди них?
— Леуциппа, — отвечал Конон, — твое великодушие превосходит нашу услугу. Мы будем рады занять место за твоим столом. Мы будем пить за победу Афин.
— Да услышат тебя боги, — сказал старец, склонившись, высвобождая правую руку из-под плаща, и приветствуя их широким жестом. Затем он в сопровождении слуг, медленно поднялся по ступеням; на пороге обернулся и снова послал прощальный привет. Бронзовые двери затворились, гремя засовами и цепями. Еще с минуту слышны были удаляющиеся в портик медленные шаги рабов.
Конон молча стоял перед запертою дверью. Гиппарх взял его за руку.
— Лаиса была очень хороша сегодня, — проговорил он вполголоса.
— Ах, оставь!.. — воскликнул Конон, — я не больше тебя желаю быть ее возлюбленным. Поговори со мной лучше о дочери Леуциппы, раз ты ее знаешь. Я провожу тебя. Дорога покажется мне короткой, если ты будешь говорить о ней.
— Все воины сделаны из застывшей лавы, — проговорил скульптор. — Это прекрасный материал для беседы на тему о могуществе хрупких стрел Эроса: вечная история Геркулеса с прялкой у белых ног Омфалы. Успокойся, с тобой этого не случится, потому что, по крайней мере, сегодня слепое дитя сняло свою повязку.
Эринна самая красивая и самая восхитительная из всех молодых девушек, которые вышивают в нынешнем году покрывало для Афины.
— Почему ты сказал восхитительная? Кто ею восхищается? Разве она не всегда бывает под покрывалом? Значит, она иногда выходит одна?
— Очень редко, конечно; один раз во всяком случае это было, хотя и случайно, потому что сегодня вечером ты объяснялся с ней без свидетелей.
— Ты ошибаешься; я ничего не мог ей сказать.
— Так это становится серьезным, — сказал Гиппарх. — Когда человек, такой молодой, как ты, такой смелый и такой образованный, не находит слов, чтобы выразить свои чувства, это значит, что сердце его сильно затронуто.
— Может быть, ты прав. Я чувствую в себе что-то новое.
Он замолчал и довольно долго они шли молча.
Две короткие тени быстро бежали впереди них. С безоблачного неба, такого прозрачного, что оно казалось кристальным, Селена, благосклонно улыбаясь, посылала свои бледные лучи на землю. Песок скрипел под ногами. Временами поднимался легкий ветерок, заставлявший развеваться плащи.
— Итак, — насмешливо сказал Гиппарх, — тебе легче заставить слушаться своих воинов, чем мысли.
— Это правда, — отвечал Конон, — но теперь и мысли у меня в порядке. Ты обратил внимание, как красива эта молодая девушка? Она высокого роста, у нее стройная фигура. У нее золотистые волосы, но я уверен, что глаза у нее черные… Если бы эти злодеи убили ее, это было бы большое несчастье… идти одной вечером во время дионисий… Только такие девушки и могут поступать так неблагоразумно… Я легко мог бы донести ее до дому. Я совсем не чувствовал ее, когда держал ее на руках… Ее сердце билось бы дольше возле моего; она была так хороша с закинутой назад головой и беспомощно повисшими обнаженными руками. Но она была так бледна, что мне стало страшно… И я опять положил ее на землю, потому что мне казалось, что она умирает!
— Это хорошо, — отвечал Гиппарх, любивший резонерствовать. — Любовь это лестница, и первая ступень ее — восторженность… Послушай, раз это так интересует тебя, приходи завтра ко мне. Моя жена всего на несколько месяцев старше дочери Леуциппы. Я знаю, что прежде они были подругами и часто бывали одна у другой. Кажется, даже Эринна и пела эпиталаму на нашей свадьбе. Ренайя редко выходит из дому с тех пор, как у нас родился сын, но она с удовольствием расскажет тебе все, что знает, и научит, что нужно делать.
— Я непременно приду! — с радостью согласился Конон.
— В таком случае приходи к полднику: ты скорее все поймешь, если перед тобой будет стоять чаша иониского вина. Не провожай меня дальше.
— Так до завтра?
— До завтра, — отвечал Гиппарх, — в четвертом часу…
Конон медленно направился к священным воротам. Ночная стража, завернувшись в плащи, спала на подъемном мосту.
На перекрестках горели еще в бронзовых урнах сосновые шишки. Скоро пламя уменьшилось, потом погасло… и предрассветные сумерки распростерли свое покрывало над городом.
Глава II
Уже давно начался день. Солнечный луч, проникая в окна, играл на полу.
Эринна проснулась, улыбающаяся и свежая, потому что счастливые мысли убаюкали ее накануне. Опершись локтем на полотняное изголовье, она играла шарфом, который был на ней накануне, бахрома его ниспадала до белой козьей шкуры, разостланной на полу. Она смотрела на окружавшие знакомые предметы, не останавливаясь ни на одном из них.
Две противоположные стены комнаты были крытые красиво драпировавшимися занавесями того неопределенного зеленого цвета, недавно вошедшего в моду, который мало-помалу заменил в частных домах героический пурпурный цвет. Между этими занавесями высокие пилястры выделялись своими темными гранями на гладкой штукатурке стен. Стены были расписаны: между светлой листвой лазурно-голубые лотосы и темно-голубые ирисы.
Среди комнаты, на возвышении, стояла кровать с высокими ножками из черного дерева, украшенная инкрустацией из слоновой кости. В головах был большой светильник из бронзы, изображающий дерево, обвитое серебряным вьюном. На дереве, на концах ветвей, висело три чаши тонкой чеканной работы. В них плавали в душистом масле амиантовые фитили. Эринна зажигала их вечерами, когда ей удавалось унести потихоньку из библиотеки один из тех манускриптов, в которых воспевалась любовь героев и богов. Она знала, что в отдаленные времена, когда на земле совершалось много чудесного, боги, ускользнув с Олимпа, любили забывать в объятиях смертных однообразие своих небесных удовольствий.
Стоявший в ногах ткацкий станок имел вид редко употребляемого предмета: рабочие часы проходили в общей комнате. Напротив кровати массивная колонна поддерживала мраморный бассейн, вокруг которого на треножниках покоились широкие амфоры. Среди комнаты стоял столик, искривленные ножки которого заканчивались козьими копытцами химер. На нем лежали всякого рода украшения: колье из восточных жемчугов молочного оттенка; браслеты, сделанные в виде змей, перегрызающих свое тонкое тело; золотые булавки в виде стрекоз, которыми изящные женщины того времени закалывали свои волосы.
Вдоль стен находились громадные сундуки, наполненные шелковыми материями, вышитыми туниками, лентами и тысячью тех пустяков, за которыми финикияне ездили в далекие страны, расположенные за песчаными пустынями. Они привозили их на афинские набережные вместе с разноцветными птицами в клетках из золотистого бамбука, ящичками из розового дерева или сандала, драгоценными эссенциями и сладкими, вкусными плодами.
В самом темном углу комнаты стояла на мраморной консоли золоченая статуэтка Афины, перед которой обыкновенно горела лампадка, висевшая на тонкой цепочке. Но в это утро маленькое красное пламя не трепетало в ней. С некоторых пор Эринна как будто меньше заботилась о своей богине, а накануне вечером так и совсем забыла о ней. А между тем она принадлежала к старинному роду этеобутадов, с незапамятных времен заботившихся о поддержании культа богини-покровительницы. Больше она никогда не позволит себе такой забывчивости, потому что Афина строго следит за тем, чтобы ей воздавались почести, и никогда не зажигает факел гименея для тех, кто не сжигает перед ее изображением на священном треножнике пропитанные сирийскими благовониями травы. Она любила богиню и почитала ее со всей своей наивной горячностью. Сколько раз в то время, как ее подруги просто стояли на коленях, она лежала у ее ног с распущенными волосами, касавшимися камня, на котором дымилась кровь жертвы! Какой при этом она испытывала священный трепет, проливая слезы, причины которых она сама не знала!
…Она задумалась, продолжая теребить шарф.
Почему после последних празднеств, она просыпается ночью вся в поту и чувствует облегчение, если пройдется босыми ногами по холодному, как лед, мраморному полу? Почему она так умиляется, глядя на воркующих голубей, цепляющихся своими розовыми коготками за край окошка? Почему она полюбила мечтать одна под большими деревьями на дворе, устремив свои светлые глаза в голубое небо?
Вдруг она решилась, откинула далеко от себя волны покрывал и соскользнула со своей высокой постели. Она надела изящные крепиды, привязывавшиеся лентами к лодыжкам, опоясалась вокруг бедер мягким шелковым шарфом, умыла в мраморном бассейне лицо и руки и, открыв дверь, выходившую во внутренний двор гинекея, позвала:
— Лизиса, Лизиса, поди сюда, я встала.
— Давно уж пора, — проворчала старая кормилица, выходя из комнаты, где работали пряхи… Ах! если бы твоя мать Носсиса была воспитана так, как ты, у нее не было бы теперь лучшего дома в Афинах.
— О, какая ты сегодня сердитая, Лизистрата! Причеши меня и не ворчи. Что у тебя под плащом?
— Ты сейчас увидишь, что у меня. Тут есть кое-что для тебя.
Она вошла в комнату, заперла дверь на задвижку и опустила портьеру.
— Вот, — сказала она, — вот, что у меня: цветы. Точно их мало у нас!
И она бросила на постель целую охапку белых роз, наколотых на кончики листьев серебряной пальмовой ветви, а затем поставила изящную корзиночку, наполненную фиолетовыми фигами.
— Розы! — воскликнула Эринна, — какая ты злая! Зачем ты их бросаешь? Они могут осыпаться. Фиги тоже могут помяться, — сказала она, краснея, — они совсем спелые. Скажи, откуда все это? Кто их тебе дал? Кто их принес?
— Их принес молодой раб, и он не сказал ни своего имени, ни имени своих господ. Это не предвещает ничего хорошего, милая моя деточка.
— Почему? — спросила Эринна, снова покраснев. — Я думаю, что это подарок от моей подруги Глауци: у ее отца такой прекрасный сад.
— Разумеется, — отвечала кормилица, полушутя, полусердито, — это так похоже на нее — присылать тебе цветы и плоды, тем более, что она уже неделю тому назад уехала в Элевзис.
— Это правда, я совсем забыла об этом.
— И потом, зачем ты смеешься надо мной? Ты сама хорошо знаешь, от кого это, а если даже и не знаешь, то догадываешься.
— Может быть, — отвечала Эринна, бросаясь на шею кормилице и покрывая ее морщинистые щеки поцелуями.
— Ну, да, ты славная, ты очень любишь свою старую Лизису, хотя это совсем не ее ты обнимаешь так крепко теперь. Успокойся. У тебя волосы совсем спутаются. Садись, я причешу тебя.
Эринна послушно села на низенькую табуретку и доверчиво отдала в руки кормилицы свои длинные волосы, которые доставали до земли и колыхались, как живые, в золотистом сиянии солнца. В открытое окно виднелся платан, четко вырисовываясь на синем, как сапфир, небе своими кружевными зелеными листьями. Ручные голуби с соседних храмов быстро пролетали мимо окна, сверкая в воздухе своими белыми крыльями. Молодая девушка перебирала руками лежавшие на коленях цветы и с улыбкой рассматривала отражение своего очаровательного личика в серебряном зеркале. Искусные и ловкие пальцы Лизистраты расчесывали золотыми гребнями волнистые волосы. Она приподняла шелковистую белокурую массу, заколола ее на макушке массивными булавками и, чтобы укрепить грациозное сооружение, окружила его повязкой изумрудного цвета. На лбу колыхалось несколько маленьких локончиков, которые, благодаря тому, что были короче других, не могли быть подобраны, и от них на молодое и свежее личико падала легкая тень.
— Вот и готово, — сказала Лизистрата, — красивее тебя нет ни одной девушки в целых Афинах.
— Ты говоришь так, — сказала сияющая Эринна, — только потому, что во всех Афинах никто не сумеет сделать прическу лучше старой Лизисы.
Молодая девушка встала и, с трудом держа в руках охапку душистых цветов, медленно прошлась по комнате. Прозрачная рубашка волновалась на ее молодом теле, как белое облако, когда оно, заволакивая бледный лик Селены, дает возможность видеть весь ее светящийся контур. Она переступала, подпрыгивая с ноги на ногу в такт импровизированного танца, и длинная одежда с разрезом на боку распахивалась при каждом шаге.
— Я легка, как птица, — сказала она, — мне хочется петь.
— Пой, — отвечала кормилица, — все еще как будто недовольным тоном, — пой, девочка: ты еще успеешь наплакаться…
В эту минуту кто-то постучал снаружи. Лизистрата открыла дверь и приняла из рук служанки восковую дощечку, которую сейчас же передала своей молодой госпоже.
— Вот удивительно! Ренайя зовет меня сегодня к себе в гости.
— Ренайя? — проворчала кормилица, — Ренайя, это твоя бывшая подруга, жена того скульптора, который приходил вчера сказать, что нашел тебя? Она приглашает тебя к себе, и тебя это удивляет. Однако, как спешит его друг, этот воин! Ты можешь идти туда одна. Я не пойду с тобой, даже если Носсиса мне прикажет.
— Кормилица, — сказала молодая девушка со слезами в голосе, — ты теперь стала еще злее, чем была. Кто же пойдет со мною, если ты откажешься? Ты отлично знаешь, что я не смею еще говорить об этом матери. Может быть, она запретит. Может быть, она пожелает идти со мной и тогда… тогда…
— Что же тогда?
— Тогда это мне не доставило бы такого удовольствия, — тихо прибавила молодая девушка.
— Ну, хорошо, я пойду с тобой, — сказала Лизистрата дрожащим голосом.
— О чем ты плачешь, Лизиса, о чем ты плачешь? — спросила она, отнимая руки, которыми кормилица закрывала себе глаза.
— Я плачу, потому что я чувствую, что ты покинешь свою бедную Лизису, старость которой освещала твоя улыбка. Боги до сих пор хранили меня от этого несчастья.
— Не плачь, кормилица. Если ты будешь плакать, то мне не будет весело. Во-первых, я еще не пробовала фиг. Затем, если я буду когда-нибудь жить под другой кровлей, я не покину тебя: я возьму тебя с собой.
— Носсиса не согласится на это, — сказала кормилица, вытирая глаза.
— Мать согласится на все, что я захочу. Мне не будет доставать чего-то для счастья, если я не буду слышать твоего старого ворчливого голоса. Не плачь же, ну, не плачь, Лизиса. Если я уйду отсюда, то мы уйдем вместе.
— Пусть будет так, как угодно богам. Посмотри, девочка, ты была так взволнованна вчера, что забыла зажечь лампадку; если ты будешь забывать молиться богине, она не позволит тебе выйти замуж. Надень шерстяной пеплос: сегодня свежее утро. Молодая девушка должна прежде всего приветствовать своего отца; я видела, как он прошел в библиотеку.
— А мои цветы, — сказала Эринна, — мои прекрасные розы?
— Я позабочусь об них; поди, девочка, тебе давно пора идти, если ты хочешь оказать почтение отцу раньше, чем он выйдет из дому.
— А мои фиги? Дай мне фиги. О, я решила попробовать их. Я решила это еще вчера вечером, но я очень счастлива, потому что я не знала, что это будет так скоро.
Она выбрала из корзинки ту фигу, которая казалась ей более свежей и душистой, откусила от нее и снова положила на другие. Затем она подошла к статуэтке богини, благоговейно зажгла лампадку и три раза прикоснулась лбом к статуэтке.
— Я готова, — сказала она.
Она надела вышитую тунику, складки которой падали до земли, опоясала талию длинным шелковым шнурком, который, перекрещиваясь на левой стороне, завязывался затем на правом боку свободным узлом с развевающимися концами. Так носили этот пояс девушки.
Она накинула сверху тонкий шерстяной плащ, бросила в зеркало быстрый взгляд и вышла легкой и грациозной поступью.
Глава III
Дом Гиппарха одиноко стоял недалеко от городской стены между Керамикой и садами Академии . Крытое красной черепицей одноэтажное здание широко раскинулось в тени платанов и высоких смоковниц. Маленький ручеек, часто пересыхавший во время летней жары, тихо струился под зарослями ирисов и камышей. Дикий шиповник цвел по его берегам, а осенью покрывался красными мягкими ягодами, которые клевали птицы.
Главный вход в дом был как раз напротив аллеи из кипарисов, темные стволы которых переплетались на все лады под густым сводом зелени. Как во всех загородных постройках того времени, подход к дому заграждался тройной изгородью. Во-первых, желтые и черные алоэ, простирая во все стороны свои твердые и колючие листья, затрудняли доступ к нему животным и людям. Затем следовала живая изгородь из молочая с розовыми цветами, приторный и ядовитый запах которого не допускал змей. Наконец, вечнозеленые лавры и мирты образовывали за молочайником непроницаемую завесу.
Конон пришел раньше назначенного времени. Безмолвный дом еще был тих среди дневной жары.
Он толкнул дверь и вошел.
Звяканье цепи, ударившейся о дверь, привлекло внимание почти голого ребенка, игравшего с большой собакой в золотистом песке на одной из аллей. Ребенок с минуту смотрел с удивлением, а затем вскочил и бросился бежать домой, крича испуганным голосом: Мама! Мама!
На крики ребенка и лай собаки из дому вышла молодая женщина и остановилась на пороге. Она была одета с изящной простотой. Широкополая соломенная шляпа защищала ее от солнца. Ее туника, слегка приподнятая с правого боку, помогала легкости ее походки.
— Ренайя? — вопросительно произнес Конон.
— Ренайя, — отвечала она, счастливая, что может оказать радушный прием другу своего мужа.
Своими тонкими пальчиками она взяла молодого воина за руку и повела к стоявшей неподалеку каменной скамье, которую виноградные листья наполовину закрывали своими пурпурными фестонами.
— Сядем здесь, — предложила она, и, обращаясь к ребенку, прибавила: — Гиппарх в мастерской. Сходи за ним.
— Ренайя, неужели это твой ребенок?
Она отвечала звучным голосом, в котором слышалась улыбка:
— Это мой брат. Наша мать умерла при родах. Ему шесть, а мне девятнадцать. Но он называет меня мамой, потому что никогда не расставался со мной, и я одна забочусь о нем. Моему сыну, ребенку Гиппарха, всего три месяца. Он сейчас спит. Я принесу его показать тебе.
— Гиппарх говорил…
— Да, — перебила Ренайя, — я знаю о вашем вчерашнем приключении. Поэтому я написала сегодня утром Эринне, что жду ее к полднику.
— Как ты добра и как ты хорошо угадала мое желание.
— Я прежде всего женщина, — отвечала она, устремляя на Конона блестевшие радостью глаза. — Потом я и сама прошла через это. Эринна будет так же счастлива, как бывала и я, когда Гиппарх приходил к моему отцу. Разве ты ее никогда раньше не видел?
— Никогда! Я не знал об ее существовании; она не знала о моем, а между тем мне кажется, что я всегда знал ее.
— Она во всяком случае знала твое имя, которое все в Афинах повторяют уже целую неделю.
— Это могло быть в том случае, если бы она принимала участие в политических разговорах на агаре … но в гинекеях совсем не говорят ни о битвах, ни о тех, кто в них участвует.
— Как ты можешь так думать? Нет ни одной семьи, которой не затронула бы эта ужасная война. Нет ни одной молодой девушки, у которой не было бы на триерах брата или жениха. О чем же говорить молодым девушкам, как не о тех, кто им так близок? Не целый же день сидят они за прялкой. Мы вовсе не такие глупые маленькие зверьки, как вы думаете. Я уверена, что на последнем собрании в храме все молодые девушки говорили о тебе…
— Ты смеешься надо мной, Ренайя, — перебил ее Конон, — но я не сержусь на тебя за это, потому что волнение делает тебя еще красивее.
Ренайя слегка улыбнулась. Она знала, что она хороша собой, и что мужчины искренно восхищались ею.
— Вот они, настоящие моряки, — сказала она, — мужество Геркулеса и язык Диониса. Но меня не заставить замолчать похвалой, и я все-таки скажу тебе, что не все женщины в Афинах учатся рассуждать на тесмофориях , многие девушки, думая о браке, мечтают также и о счастье.
Она сделалась совсем серьезной, и прелестная складка украшавшая ее губы, сгладилась.
— Счастье, это жизнь, которую Гиппарх сумел создать для меня. Здесь я равная ему, он сам сказал мне это, и тем не менее, я знаю, что он господин… Я признаю его авторитет и никогда не иду против его воли. Во-первых, потому, что он всегда старается быть справедливым, затем потому, что я его люблю всем моим сердцем, но я не любила бы его, если бы вместо того, чтобы быть покровителем и другом, он был бы для меня невыносимым тираном. Тебе это понятно?
Конон ответил утвердительным кивком. Она продолжала:
— В таком случае, подражай ему. Но для того предоставь той, которая будет твоей женой, право иметь больше ума, чем у коноплянки. Если ты намерен, женившись, заключить ее в четырех стенах гинекея, ты будешь иметь в ней только первую из твоих рабынь, сколько бы ты ни покрывал позолотою стены ее тюрьмы. Она будет прекрасной немой птичкой. Она будет матерью твоих детей; а ты будешь искать в другом месте настоящей любви, которая дает и счастье, и утешение.
— Ренайя, — сказал Конон, — я теперь понимаю, почему Гиппарху нет надобности ни трепать свои сандалии под портиками агоры, ни блистать своим остроумием в гостях у какой-нибудь гетеры. Я не принадлежу к числу людей, знающих тебя давно, но мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что твоя душа еще прекраснее, чем твое лицо. Мне остается только последовать твоим советам, но ты говоришь со мной так, как будто Эринна стала уже моей женой. Я знаю, что я люблю ее, но любит ли меня она? С той минуты, как затворилась передо мной дверь ее дома, я не перестаю думать о ней, но кто может сказать мне, что она уже не забыла меня?
— Простодушный воин! Ты умеешь читать только в своем сердце! Ты сам только что говорил мне, что ты видел Эринну вчера в первый раз, а между тем тебе казалось, что ты знаешь ее уже давно. То, что происходит в тебе, происходит точно также и в ней. Вчера случай бросил в твои объятия ее молодое, гибкое тело. И в то время, как ее голова запрокинулась назад, ты чувствовал у своей груди слабые удары этого чужого сердца, которое с той минуты стало тебе дороже твоего собственного. И у тебя явилось желание, чтобы всю жизнь продолжалось это опьянение любовью, которого ты раньше не знал: опьянение от одного лишь прикосновения, бесконечно более чистого, бесконечно более приятного, чем все другие ласки, которые оставляют за собою только разочарование… Девушка, у которой сердце и чувства спали, вдруг почувствовала горячую дрожь твоего объятия… Что же, ты думаешь, она ощутила в тайнике своей молодой души? Может быть, ничего? Ошибаешься. Между вами существует только одна разница: ты знаешь, чего ты желаешь, тогда как она еще не знает этого. Эрос поразил вас одной и той же стрелой. Никто не ускользает от его чар. Эринна будет здесь, как только заходящее солнце позволит ей покинуть, не обращая на себя внимания, родительский дом.
— О, Ренайя, как бы я хотел, чтобы у нее было такое же сердце, как у тебя. Как бы я хотел, чтобы у нее были такие же возвышенные мысли и чтобы она так же пылко высказывала их! И я с верою кладу к ногам бессмертных это желание, которое я не нахожу безрассудным.
— В твоем желании нет ничего безрассудного, Конон, но только послушай, что я хочу сказать тебе еще, — чуть наставительно произнесла Ренайя. — Призывай бессмертных богов, раз ты веришь в их могущество. Но Гиппарх не раз говорил мне, что наше счастье мы создали сами, что это дело нашего разума и нашей воли, а не послано нам богами, созданными нами же самими. Кроме нас самих, это могло совершиться по воле Того Неведомого Бога, о котором он говорит мне иногда во время наших бесед по вечерам, и алтари которого, говорит он, всюду.
— Может быть, ты и права, Ренайя, — отвечал Конон. — Но мне каждый день грозят опасности и на море и в сражениях. Как все моряки, я живу под страхом этих вечных опасностей; они заставляют меня чаще, чем других, обращать взоры к небесам и призывать богов моей родины.
— Мы немного удалились от предмета нашего разговора, — сказала, улыбаясь, Ренайя. — Мы можем прекратить его, потому что совершенно согласны друг с другом, а потом ко мне несут сына, который призывает меня к земному. О Боги! Гиппарх! — вскрикнула она, — как ты его держишь… Осторожнее… Ты его уронишь…
Гиппарх приближался, неуверенной походкой, какой ходят почти все мужчины, когда им случается нести на руках ребенка.
— Посмотри, как он хорош, — сказал он, и, желая дать возможность лучше рассмотреть сына, вытянул руки.
Испуганный ребенок разразился отчаянными криками. Отец пытался его успокоить, но безуспешно и, наконец, смущенный, передал его Ренайе.
— Возьми, — сказал он, — возьми; ты его очень дурно воспитываешь.
— Я его дурно воспитываю! Ты хочешь сделать гимнастом трехмесячного ребенка! Подожди до тех пор, пока он достигнет такого возраста, когда ему можно будет принять участие в упражнениях на стадионе. Мой дорогой малютка боится, чтобы его папаша не уронил его на землю…
И присев на скамейку, она отвела край туники и стала кормить ребенка. Гиппарх смотрел на нее. Чувствуя на себе ласковый взгляд мужа, гордясь тем, что она жена, и радуясь тому, что она мать, молодая женщина улыбалась, отдавшись охватившему ее радостному настроению.
Ребенок заснул. Ренайя завернула его в пеленки и положила в ивовую корзинку, которую прикрыла прозрачным покрывалом. Большая собака подошла к колыбели и, виляя хвостом, улеглась около нее, уткнув морду между лапами. Жаворонки, заливаясь, поднимались к голубому небу.
В это время они услышали, как звякнула цепочка; наружная дверь отворилась. Вдали, в кипарисовой аллее, показалась Эринна, сопровождаемая кормилицей, которая шла за нею мелкими быстрыми шажками.
Ренайя побежала к ней навстречу, взяла ее за руки и обняла.
— Как я рада видеть тебя у себя в доме, — сказала она, — так рада, так рада! Смотри! Это Гиппарх, мой муж, ты теперь его знаешь, это Конон, его друг, который сейчас стал и моим другом и которого ты тоже знаешь немного; там в корзинке спит мой сын, а это мой маленький брат прячется за мое платье. Мы все собрались здесь, чтобы приветствовать тебя. Постой, я сниму с тебя покрывало, чтобы видно было твое лицо и чтобы ты могла сказать нам что-нибудь: раньше ты любила поболтать.
И молодая женщина отстегнула блестящие аграфы, которые поддерживали вокруг волос подруги волны легкой материи.
— Возьми покрывало, Лизистрата. Деметрий, проведи старую Лизису в комнату прях: вели подать ей пирожков и вина. Иди с ним, Лизиса, только возьми его за руку, мальчик бегает быстро, иначе ты отстанешь от него.
Эринна стояла немного смущенная. Она с достоинством знатной особы носила изящный костюм благородных афинянок. Ее волосы, точно покрытые золотистой пылью, окружала шелковая зеленая повязка, которая только поддерживала их, но не стягивала; тонкие брови, немного сурьмы было на ресницах. Вопреки моде того времени, которая заставляла женщин сильно румяниться, ее молодое свежее лицо не нуждалось ни в каких искусственных средствах.
Конон подошел к Эринне и заговорил с нею вполголоса. Черные, бархатные, с искорками глаза молодой девушки сверкали из-под опущенных ресниц. Щеки раскраснелись. Она улыбалась и, когда наклоняла голову, верхняя часть ее лица покрывалась на мгновение легкой тенью, падавшей от густой массы волос. Наконец, когда Конон обратился с вопросом, имеющим решающее значение и в то же время ей приятным, черты ее лица еще больше оживились, глаза стали еще темнее. Она смело подняла их. Кровь бросилась ей в лицо, залила шею и уши.
Она утвердительно кивнула головой, и Конон взял ее за руку.
— Я, признаюсь вам, боялась, — сказала смеясь Ренайя, — что вы никогда не столкуетесь. Ты как думаешь, Гиппарх, можно было этого бояться или нет?
— По-моему, нет, — отвечал скульптор. — А не пора ли нам обедать?
— Идемте обедать. Пойдем со мной, Эринна!
Она взяла за руку свою подругу и повела ее в мастерскую. Дорогой она прижалась к молодой девушке и обняла ее.
Мастерской Гиппарха была очень большая комната, освещавшаяся сделанными в потолке окнами со вставленными в них стеклами, — роскошь редкая в то время, такое не имели даже храмы. Стены комнаты были закрыты прислоненными к ним и висевшими на них гипсовыми или глиняными слепками, а сама комната заставлена статуями, из которых одни были уже окончены, а другие еще только начаты. Стоявшая в одном углу фигура из черного дерева, слоновой кости и бронзы напоминала знаменитую статую Афины, золоченое копье которой касалось кровли Парфенона. Раб закрывал мокрыми простынями стоявшую среди комнаты массу еще бесформенной глины, огороженную ширмами.
— Какой удивительный беспорядок! — вскричала Ренайя. — Впрочем я здесь не хозяйка. Тут нет ни одного ложа, но Гиппарх хотел непременно принять вас здесь. Он уверяет, что все надо смотреть именно на том месте, где оно должно быть: триерарха на корабле, скульптора в мастерской!
Они уселись вокруг немудрено накрытого стола: фиолетовые фиги, показывавшие в многочисленных трещинах свое красное мясо, яйца, молоко, свежий сыр и маленькие золотистые хлебцы в изящных корзинках. Розовые ионийские и более темные самосские и кипрские вина просвечивали в четырехугольных стеклянных сосудах, оправленных в олово.
Так как за обедом не было слуг, Гиппарх сам налил вино в чаши и сказал:
— Когда мы бываем вдвоем с женой, мы не особенно почтительно относимся к бессмертным и не делаем обычных возлияний. Но сегодня, друзья мои, я хочу совершить возлияние за ваше счастье перед этой статуей Афродиты Нимфы.
Он пролил на пол несколько капель золотистого вина и прочитал:
— Я отдаю ваше счастье под покровительство великой богини…
Гиппарх простер руки над головами молодых людей, благословил их жестом жреца и вдохновенно продолжал:
— Это она, силою своего могущества, заставляет ржать диких жеребцов, когда ветер Ливийских пустынь доносит до них топот приближающегося табуна кобылиц.
Это она заставляет мычать быков и гордо сверкать глаза львов.
Это она кладет на чело девушек румянец неведомого желания.
Это она кладет на чело женщин румянец радостных воспоминаний.
Это она соединяет женщину с мужчиной, как гибкий плющ с могущественным стволом дуба.
Это она подчиняет себе животных и властвует над людьми.
Потому что она великая богиня любви.
Потому что она высшая богиня жизни.
И покрывала, скрывающие ее неподдающуюся описанию красоту, скрывают утробу, где зреет будущее.
— Мне нравятся твои слова, Гиппарх, — сказала Эринна. — Ты великий человек: время прославит твое имя, и черты Анадиомены, изваянные из мрамора твоею рукой, будут жить вечно.
— Что нам до того, — тихо сказала Ренайя, — что будут говорить о нас через много веков. Я готова отдать все статуи Гиппарха, даже ту, которую он вылепил с меня, когда я стала уже его женой, но не была еще матерью, — я отдала бы их все за одну улыбку моего ребенка.
Вместе с наступившей прохладой вечер проникал в мастерскую. Это было самое приятное время. Заходящее солнце скрывалось за смоковницы.
Старая кормилица приподняла портьеру.
— Пойдем, дитя мое, — сказала она, — пора домой.
— Это правда, — воскликнула Ренайя. — Ночь наступает. Я пойду за сыном.
Ее ребенок все еще спал в своей корзинке, стоявшей на каменной скамье, охраняемый неподвижно лежащей собакой.
Глава IV
В ту эпоху Афины, расположенные у подножья своих знаменитых холмов, опоясывались высокими кирпичными стенами, покрытыми штукатуркой из толченого мрамора. Эти стены, настолько широкие, что по ним свободно можно было разъезжать в колеснице, защищались зубчатыми башнями, сообщавшимися через подземные галереи. Протяженность стен, включая стену, соединявшую город с гаванью, достигала двухсот стадий. Низкие дома без окон, прижатые один к другому, лепились вдоль узких переулков, вымощенных мелким булыжником. Дороги, вымощенные большими камнями, тщательно пригнанными один к другому, вели к воротам, выходившим на равнину. Колесницы проложили в них глубокие колеи, в которых во время дождей стояла вода. По краям этих широких улиц стояли богатые дома, большая часть которых принадлежала метекам , нажившим богатство торговлей, которую презирали настоящие афиняне. Выращенные в кадках лимонные деревья, обрезанные в виде шара, заглушали своим сильным запахом более нежный аромат лавров, жасминов и роз. Кирказоны и виноградные лозы смешивали на портиках свою разнообразную листву. Тимьян, лаванда и желтофиоль росли по склонам. Всюду виднелись прекрасные статуи бесчисленного множества богов и богинь, — все они имели своих жрецов, свой культ и свои храмы. Легкие колонны, поддерживали треножники или бронзовые урны, в которых ночная стража в безлунные ночи зажигала смесь масла и горной смолы. Памятники победителям на соревнованиях, небольшие колонны с бюстами, увенчанными золотыми лавровыми венками, и многочисленные фонтаны, полные свежей и прозрачной воды, у которых стояли жены ремесленников и моряков, окруженные шумной, пестрой толпой рабынь.
Афины уже почти целых двадцать пять лет вели войну с Лакедемонией. Афиняне жили под защитою своих городских стен, которые уже три раза тщетно пытались взять спартанцы. Вся окружающая город местность представляла собой пустыню. Крестьяне оставляли поля невозделанными и бежали в город. Оливковые рощи были вырублены, фиговые деревья уничтожены. Кефись и Иллись печально текли между лишенными зелени берегами. Затем одно очень жаркое лето окончательно сожгло землю. Громадные белоголовые коршуны, сидя неподвижно на мраморных колоннах, некогда служивших украшением могил, высматривали падаль. Но, побежденные на суше, Афины сохраняли свое владычество на море. Разорение и разграбление окрестностей почти нисколько не ослабило их престижа и не уменьшило их богатства. Победоносный флот Алкивиада вошел в гавань. Привезенная им громадная добыча покрывала Агору, а трофеи, привезенные с востока, загромождали портики храмов. Толпы ликующего народа провожали до пропилеев молодого и гордого полководца. Эфебы выпрягли лошадей из его колесницы, а молодые девушки, покинув гинекеи, осыпали с террас розами. Народ возвратил ему имущество, недавно проданное с торгов, и бросил в море свитки, на которых был написан давно уже всеми забытый приговор. Наконец, жрецы сняли проклятия, произнесенные против осквернителя святыни, некогда изгнанного за это преступление… Едва прошел месяц, и тот же самый народ снова обвинил триумфатора в желании восстановить для себя царскую власть… Алкивиад снова бежал на своей триере из своенравной родины, направившись к Андросу.
В тот день в городе было необычайное движение. Граждане поспешно выходили из своих жилищ и бежали к агоре. Дурные вести, привезенные беглецами с Самоса, вызвали в толпе тревогу и гнев. Началась драка, и трое опасно раненных были перенесены стражей в лавку цирюльника.
Конон и Гиппарх, возвращаясь из Керамики, вошли в портик.
У подножия статуи Артемиды Аристомень и Формион с ожесточением надрывали свои глотки.
— Да, — говорил Формион, — лошади, выигравшие на бегах, несомненно принадлежат Диомеду: они были только перекрашены. Человек, совершивший эту гнусность, не достоин командовать армией.
— О ком это ты говоришь, Формион? — спросил Гиппарх, останавливаясь.
Формион поколебался с минуту, но, не увидев среди присутствовавших никого из друзей Алкивиада, — отвечал с притворной смелостью:
— Я говорю об афинском стратеге Алкивиаде, который начальствует над флотом, сегодня он стал победителем, воспользовавшись лошадьми, принадлежащими другому.
— Это действительно важно, — отвечал Гиппарх. — Ты, может быть, простил бы ему одержанную победу, если бы эта победа наполнила твой кошелек, вместо того, чтобы его опустошить.
— Не смейся, — гневно возразил Формион. — Если архонт не карает за такое преступление, если можно обманывать честных игроков, то это уже дело государственной важности.
Толпа одобрительно зашумела. Конон нахмурившись, опустил голову.
— Я понимаю причину твоего дурного расположения, — сказал скульптор, беря его за руку и предлагая уйти.
Друзья прошли через Пецилесь, потом по аллее Треножников и дороге Дромос и подошли к дому Леуциппы.
Это был один из красивейших домов в этой части Афин, считавшейся самой богатой. Широкий портик дома, построенный из пентеликского мрамора, поддерживали четыре мраморных колонны. Росшие возле дома апельсинные деревья наполняли воздух ароматным запахом; сквозь темную листву вечнозеленого мирта виднелись пурпурные цветы гранатов.
Конон и Гиппарх медленно поднялись по широкой лестнице. Перед входом, вымощенным белыми и голубыми плитами, стояли две бронзовые фигуры, украшавшие нос галер. Они изображали морских коней, которые, как уверяли, бороздят моря за скалами разведенными могучей рукой Геркулеса. Леуциппа сам побывал на своих галерах в этих опасных местах. Он видел разбросанные по морю острова, поросшие странными деревьями. Но носы его галер запутались в травах, плававших на поверхности моря; гигантские рыбы преследовали его суда; каждый вечер на горизонте появлялись новые звезды, и волны кровавого цвета катились вокруг кораблей с ужасным ревом. Матросы самовольно повернули галеры и, судорожно работая веслами, поплыли обратно…
Леуциппа, вернувшись домой, приказал снять украшения со своих галер. Он посвятил их Посейдону и сделал хранителями своего дома. И с тех пор все посетители останавливались перед этими неподвижными лошадьми, в которых была какая-то особенная притягательность и которые, казалось, все еще неслись по морю.
Конон долго рассматривал их.
— Видишь, — сказал ему Гиппарх, — как умели древние скульпторы вложить в свои произведения жизнь и правдивость, которые мы утратили. Афина Промахос прекрасна, без сомнения; это бессмертное, чудное произведение. Малейшая складка ее одежды передана удивительно верно. Это действительно статуя богини. Но можно ли сказать, что ее холодное спокойствие, ее суровое равнодушие естественны. Может быть, Фидий, создавая из золота и слоновой кости этот безукоризненный образец хотел показать богиню именно такой, намеренно подчеркивая ее величие от суетной тщеты простых смертных? Во всяком случае, у его Афины нет другой жизни, кроме той, которую ей приписывает вера почитающих ее. А теперь взгляни на этих коней. Они сделаны грубо; но несмотря на это, я вижу пену на их мордах, искры под их копытами. Ноздри их раздуваются, развевается грива. Они движутся…
В эту минуту у входа в галерею появился Леуциппа. Конон подошел к нему и, приветствуя поклоном, сказал:
— Эмблема мира лучше символов войны. Я был бы очень рад заменить на своей триере боевой щит крылатыми конями и, подобно тебе, мирно бороздить сверкающие равнины моря.
— Мечта, достойная твоей молодости и твоего благородства, — отвечал Леуциппа. — Придет время и ты, наверное, осуществишь ее. Что же касается меня, то я хотел бы провести остаток моей жизни, принося жертвы пенатам, беседуя с мудрыми людьми о вечных, бессмертных истинах, окруженный внуками… Но увы, друзья, которые остались у меня, точно так же, как и я, охвачены ужасом. Нам кажется, что демократия ведет к погибели наше отечество. Мы, старики, каждый вечер благодарящие богов за прожитый нами день, хотели бы быть уверенными в том, что найдем неприкосновенный приют в земле, под теми же оливами, что наши отцы… Наша жизнь была свободна: пусть же и грядущий покой никогда не будет рабским.
Они прошли под широкий портик, который ограждал с четырех сторон четырехугольный двор Андронида. Человек десять, одетых в белое, уже были здесь. Только у Конона была легкая хламида с пурпурными отворотами. Леуциппа подошел к тому из гостей, который казался всех старше. Это был человек высокого роста, белая густая борода, тщательно расчесанная, ниспадала ему на грудь.
— Лизиас, — сказал Леуциппа, — вот Конон, триерарх и Гиппарх — скульптор. Их мужество и помощь богов спасли жизнь моей дочери Эринны.
Лизиас поднялся с своего места, расправил складки плаща и с улыбкой сказал:
— Мы уже знаем тебя, Гиппарх, как одного из наших славных детей. Что же касается тебя, Конон, то мы все читали твое имя на почетных таблицах. Я часто бывал у твоего отца; он был человек справедливый, почитавший богов. Черты его лица оживают в твоих чертах.
Конон поклонившись, отвечал:
— Ничто не могло бы растрогать сердце сына больше чем высказанная публично хвала его отцу, особенно было приятно услышать это от тебя, Лизиас, так как твоя дружба делает честь тем, кого ты ею удостаиваешь.
Он приветствовал остальных присутствовавших. Все ответили на его приветствие с тем изящным величием, которое отличало знатных афинян при встречах между собою или со знатными иностранцами.
Молодой раб подошел к Леуциппе.
— Господин, гномон показывает седьмой час.
— Хорошо, Эней, прикажи принести цветы.
Раб слегка ударил молотком по медному диску. В ту же минуту вошли слуги и выстроились перед дверью залы, в которой должно было происходить пиршество. В руках у них были амфоры, полные священной воды, и корзины с венками. Когда гости, направляясь в залу, проходили возле них, они возлагали на голову каждого венок из плюща с вплетенными в него розами, и затем кропили на руки несколько капель душистой воды из амфор.
Зала, в которую последним вошел Леуциппа, была шестиугольной формы. В ней находилось четыре мраморных стола, вокруг каждого из них — по три ложа, похожих на покатую постель, покрытых шкурами пантер, поверх которых лежали подушки для того, чтобы на них можно было облокачиваться. Стоявшие в каждом углу легкие колонны, поддерживали слегка приподнятый купол, отверстие которого закрывал полотняный велум, пропускавший только солнечный свет. Затянутые яркой материей стены были увиты гирляндами из роз и плюща. Шкуры фессалийских львов, разостланные на полу, заглушали шум шагов, а из бронзовой пасти дельфина тонкой струей падала вода в мраморный бассейн, в котором плавали золотистые рыбки…
Леуциппа провел Лизиаса к центральному столу, указал Гиппарху и Конону на два соседних ложа и разместил затем остальных гостей соответственно их возрасту и общественному положению.
Рабы наполнили чаши ионийским вином, и пиршество началось.
Разговор сначала не клеился, но затем мало-помалу стал оживать. Аристофул сообщил подробности того, что произошло утром на ипподроме. Лошади Антисфена должны были выиграть, но на последнем повороте колесо его колесницы налетело на камень, и возница, свалившийся под упавших и запутавшихся в постромках лошадей, получил серьезные ранения. Победительницей была объявлена вторая колесница, но публика отнеслась к этому холодно, потому что на нее поставило мало игроков. Вдруг распространился слух, что лошади победителя, бежавшие под именем Алкивиада, в действительности принадлежат Диомеду. Тогда все пришли в неистовство. Публика заглушила своими криками голос распорядителя игр, не слушая его объяснений, сломала скамьи и балюстрады и стала кидать их на арену. Пришлось возвратить деньги и закрыть ипподром.
Затем Лизиас заговорил о злосчастной войне, которая уже столько лет разрушает торговлю и всю жизнь государства. Лакедемоняне одержали победу, благодаря неосторожности Алкивиада. Оставив часть флота возле Симеса под начальством Антиоха, стратег с другой частью отправился на поиски обратившихся в бегство кораблей Лизандра. Лизандр обманул преследователей и, повернув назад, неожиданно напал на флот Антиоха, который для спасения остальных судов, должен был пожертвовать тремя галерами. Правда, несколько часов спустя, Алкивиад был уже перед гаванью, и Лизандр не посмел выйти из нее; но, несмотря на это, Лакедемоняне все-таки воздвигли на берегу трофей, который Афинские моряки могли видеть с моря. Это было бесспорным знаком поражения, и престиж знаменитого Алкивиада сильно упал на Агоре.
Гиппий, софист, который вопреки своему обыкновению, до сих пор еще ничего не сказал, приподнялся на локте:
— Слух об этом неудачном сражении распространится повсюду и поколеблет и без того уже шаткую верность наших союзников. Эта война гибельна, она превратила Аттику в пустыню. Она поглотила сокровища, собранные в Опистодоме предусмотрительностью наших отцов. Наша военная слава померкла под Сиракузами. Неумелые, ненужные сражения, грозят опасностью самому существованию Афин. Меня очень страшит будущее.
— Не надо страшиться его, — заметил Конон, — его надо создавать.
В эту минуту один из рабов, прислуживавших гостям, поскользнулся и, падая, слегка поранил себе руку.
— Я должен предотвратить это дурное предзнаменование, — сказал Леуциппа.
Он приказал наполнить медом золотую чашу с двумя ручками, употреблявшуюся для возлияний и, стоя перед домашним жертвенником, помещавшимся в углу залы, медленно поднял ее.
— Бессмертная покровительница, дочь Зевса, блистательная Афина, простирающая над моим домом твою спасительную руку помощи. Не ставь нам в вину наше счастье, дочь Зевса, блистательная Афина.
И все гости повторили в один голос:
— Не ставь нам в вину наше счастье, дочь Зевса, блистательная Афина.
— Мне кажется, — сказал Гиппий, когда все заняли свои места, — что я видел как-то в мастерской Гиппарха эту самую статую, которая стоит на жертвеннике.
— Да, — отвечал Леуциппа, — Гиппарх изваял ее для Праксиса, а я купил ее, когда разорившийся Праксис должен был продать с молотка все, что имел.
— Знаете, — продолжал Гиппий, — в мастерской она не казалась мне такой прекрасной, как сейчас. Здесь белизну мрамора оттеняет занавес, а контуры не имеют той резкости, что при дневном свете делает похожими наши статуи на простые силуэты.
— Это верно, — сказал Гиппарх, — бронзовые статуи даже на светлом фоне неба никогда не бывают грубы, потому что отраженный свет, придает рельефность формам, подчеркивает их… Мрамор же, наоборот, требует контраста, приглушенности света, проходящего сквозь листву или темного фона олив.
— Не находишь ли ты, — спросил Леуциппа, — что красота мрамора наиболее великолепна при желтых тонах осени?
— Разумеется. В конце прошлой осени мне посчастливилось наблюдать это явление. В блеске заходящего солнца пылало и небо, и священные дубы Додона. Статуя олимпийца, облитая этим золотым светом, казалось, купалась в море лучей.
— Я знаю эту статую, — сказал Лизиас, — это не особенно изящное произведение неизвестного скульптора.
— Вовсе нет, — возразил Гиппарх. — Аристомень из Митилены был великий художник. Истинный художник тот, кто умеет сочетать свое произведение с окружающими его предметами, создавая его в гармонии с местными условиями, и, если нужно, изменяя соответственно им. В этой стране, где властвуют грозные оракулы Зевса, нужно было создать нечто мощное, величественное, нечто такое, что воплощало бы представление о непоколебимой власти грозного божества, которое не только карает, но и милует.
— Я того же мнения, — сказал Аристофул. — Я нахожу, что эта статуя прекрасно отвечает той идее, какую должен составить себе народ об олимпийце. Когда я проходил мимо Додона, суровое величие этого места поразило меня помимо моей воли. Я был тогда эфебом с длинными волосами. Я думал, что моя молодость никогда не кончится и очень мало боялся бессмертных.
— Мы должны бояться их и в молодости, и в старости, — сказал Лизиас.
— О! — воскликнул врач Эвтикль, — все эти бессмертные начинают надоедать.
Наступило молчание, гости переглянулись, и даже рабы замерли на своих местах.
— Эвтикль, — строго сказал Леуциппа, — ты сказал не то, что думаешь. Или, может быть, на тебя оказало влияние учение Сократа, развратителя молодежи?
Сократ, — возразил врач, — мудрейший из людей. Он почитает ботов, но верит в человеческий разум.
Оставим это, — сухо сказал Леуциппа. — Лучше попросим Гиппарха прояснить нам до конца свою мысль.
— Да, — сказал Лизиас, — тем более, что его доводы не убедили меня, а его теория нисколько меня не прельщает. Я, наоборот, думаю, что прекрасное прекрасно само по себе, что оно вовсе не нуждается в каком бы то ни было приспособлении своей формы к внешним предметам, и что оно ни в каком случае не может быть результатом удачного сочетания окружающей обстановки. Когда я рассматриваю статую, я забываю обо всем остальном, не вижу и не чувствую ничего, кроме нее. Зачем нужно окружать Зевса дубами или грудами скал, чтобы видеть презрение или гнев на лице Олимпийца.
— Ты исключение, Лизиас, — возразил Гиппарх после короткого молчания, — потому что ты можешь отрешиться от всего остального, как ты сам сейчас сказал, ты человек образованный и с хорошим вкусом. Ты видишь красоту в самом ее изображении, в изяществе и чистоте формы. Но это только образ красоты, а не сама красота. Красота заключается не только в этом, но еще и в иллюзии. И этот удивительный сплав воображаемого и сущего создается искусством…
— А между тем, — перебил Лизиас, — это изображение и есть истина и жизнь. Простой человек, который только чувствует, но не анализирует, никогда не скажет, что произведение прекрасно, если в нем нет этой жизни и этой истины.
— Я понимаю тебя. Я хочу сказать, что жизнь и истина далеко еще не все в искусстве. Они являются его краеугольным камнем, но искусство преследует определенную цель и, чтобы хорошенько понять его, надо искать эту цель там, где особенно резко проявляется его значение: в отображении нравственной красоты с помощью красоты физической. Нравственная красота это идеал, физическая красота это только та жизнь и та истина, о которой ты говоришь. Для того, чтобы произведение было прекрасно, оно должно быть живо: нужно, чтобы художник вложил в него то, что он чувствует, свою душу. В нем должна быть правда; нужно, чтобы работа рук не искажала творчества мысли. Но самое главное, чтобы оно не было точным воспроизведением природы.
Это необходимо потому, что красоты внутренней, красоты, созданной воображением и носящей на себе отпечаток благородных побуждений, красоты, внушенной стремлением к идеалу, такой красоты в природе нет. Мы создаем ее сами; ее создают наши скорби, наши радости, наши стремления, присущая нам поэтика. Красота — это образ, созданный нашей мечтой, это то бесконечно далекое, что живет в тайниках нашей бессмертной души, к чему приближаешься, но никогда не достигаешь.
— Вот именно так и я понимаю красоту, — сказал Лизиас, — только… и я нисколько не стыжусь в этом признаться, я не сумел бы этого так хорошо выразить. Но мне все-таки кажется, что истинно художественное произведение, то есть такое, о каком ты только что говорил, не нуждается ни в каких дополнениях. Я смотрю на него, восхищаюсь им, и, как я сейчас говорил, даже с закрытыми глазами, все ее созерцаю его.
— И однако же, — возразил Гиппарх, — художник не может считать свою работу оконченной даже и в том случае, когда ему удается создать нечто на самом деле прекрасное, нечто такое, что всеми признано совершенством. Надо еще найти для него рамку, надо выставить его при соответствующем освещении. Наш Парфенон ничего не представлял бы собою в туманах Эвксина. Ему нужны голубое небо Аттики, зелень кипарисов, тишина наших вечеров и розовый свет нашего прекрасного заходящего солнца, с сожалением покидающего его освещенную кровлю!
— Это верно, — сказал художник Критиас, который до сих пор не произнес еще ни слова, — это верно, особенно в архитектуре и в скульптуре. Но в живописи?
— Живопись, — возразил Гиппарх, — выше скульптуры. В мраморе меньше жизни, чем в картине, написанной красками. Но даже картина, как бы хороша она ни была, в удачно выбранной для нее обстановке кажется еще лучше.
— Вспомним храм Бахуса. Божество, принадлежащее кисти Парразиоса, сияет во всей своей славе. Бронзовые подножия блестят по углам жертвенника. Развешенное на стенах оружие, мраморные и металлические статуи, столы, треножники, золоченые вазы, роскошные ковры создают обстановку, которая еще более усиливает яркость красок. Тело, принесенного в жертву быка еще трепещет. Клубы фимиама вьются вокруг колонн и медленно поднимаются кверху сопровождаемые пением и молитвами. Жрецы, поднимая обнаженные руки, украшенные золотыми браслетами, вторят священному пению гармоничными звуками арф. Я гляжу на божество; вижу, как течет кровь под мертвыми красками, чувствую в них жизнь. Глаза Бахуса сияют, на челе у него лучи, которые погасают, как только храм пустеет… Вот что делает обстановка; она заставляет верить в богов меня, Гиппарха, который, как и Эвтикл, скорее верит в человеческий разум.
— Ты очень хорошо выражаешь то, что мы чувствуем, — сказал Лизиас. — Но то, что ты говоришь, печально для тех, кто владеет картинами знаменитых художников.
— Картинные галереи — это клетки с птицами. Тем не менее, они имеют свой смысл. Они дают заработок художникам и, кроме того, если смотреть на них умея, можно извлечь для себя кое-что полезное.
Он приподнялся на своем ложе и, указывая рукой на большое панно между центральными колоннами, сказал:
— Смотрите на нее и слушайте, что я буду говорить: ночь медленно спускается над уснувшими Афинами. Присядем на краю этих пустынных скал и обратимся к той отдаленной эпохе, когда море билось об эти никому неведомые берега; когда здесь не было слышно человеческого голоса, потому что дети Пирры еще не появлялись на свет. Этот чуть брезжущий свет напоминает мне, что там, во мраке, у меня под ногами, другие, непохожие на меня существа живут своей короткой жизнью и волнуются из-за своих кратковременных страстей. Я закрываю глаза, и этот свет уже свет другого города, свет будущих Афин, зажженный людьми, которые придут в свою очередь вспоминать о прошлом на эти самые скалы…
— Вот что навевает мне бледный свет месяца, как бы задремавшего под этим неподвижным облаком.
И вчера, и сегодня, и завтра, и вечно — все одно и то же. Ведь это имел в виду художник?
— Да, — отвечал Критиас. — Моя кисть скользила по полотну, а душа руководила ею, смутно ощущая и твои видения.
— Я восхищаюсь тобою, Гиппарх, — сказал Конон. — Я не раз переживал, может быть, бессознательно, все, что ты только что сказал. Сколько раз, сидя на носу триеры, я слушал, как поют гребцы унылые песни своей далекой отчизны. Мне казалось, что я вижу, как само время час за часом движется за кормой триеры. Но где же было задумываться над этим простому воину, и я призывал бессмертных богов.
— И ты поступал хорошо, — сказал Леуциппа торжественно. — Это они вручили тебе твой резец, Гиппарх, твою кисть тебе, Критиас, и твой меч тебе. Конон. Это им угодно было, чтобы над Афинами сияло солнце. Это они дали нам радость бытия, детей, подающих надежды, старцев, сохранивших светлый ум. Возблагодарим их за это. Совершим, опустившись на колена, священные возлияния…
В эту минуту в доме вдруг поднялся шум, послышались чьи-то голоса, с улицы донесся топот Множества людей.
В комнату вбежали вооруженные рабы. Эней жестом остановил их и, склонившись пред Леуциппой, сказал:
— Господин, пришли посланные от народа… Я предложил им от твоего имени очистительной воды.
— Хорошо. Впусти их.
Человек десять показались в дверях, встали в глубине залы, кутаясь в скромные суконные плащи.
— Рад видеть вас в моем доме, — сказал Леуциппа; — мы только что кончили обедать и собирались делать установленные возлияния богам. Не хотите ли совершить их вместе с нами.
Посланные от народа изъявили согласие, взяли поданные рабами чаши, наполненные ионийским вином. Леуциппа медленно произнес священные слова и трижды пролил несколько капель вина на уголья, тлевшие на жертвеннике. Затем, обращаясь к делегатам, спросил:
— Граждане, что привело вас ко мне?
— Леуциппа, — сказал один из них, — в твоем доме почитают богов, и за это их благоволение простирается и на твоих друзей. Нам нужно видеть Конона, сына Лизистрата.
— Вот он, — сказал Леуциппа.
Конон удивленно поднялся, все десять низко склонились пред ним, а самый старший обращаясь к нему, торжественно произнес:
— От лица афинского народа.
При этих словах все свободные люди приложили руку к груди, а рабы опустились на колени.
— Конон, народные представители низложили Алкивиада и провозгласили тебя стратегом. Ты должен придти в десятом часу на Агору за получением распоряжений. Ты отправишься сегодня вечером на легкой триере, которая ожидает тебя в Фалере.
После этих слов они поклонились и вышли.
Гости окружили нового стратега. Все горячо поздравляли его.
— Конон, — сказал Гиппарх, — я ненавижу эту братоубийственную войну, которая разлучает меня с тобой. Но я горжусь, что ты возведен в столь высокое звание.
— Ты молод, Конон, — сказал в свою очередь Лизиас, — но ты понимаешь, какое мы теперь переживаем время. Ты знаешь, мы ведем не завоевательную войну, и поэтому, вступая в битву, ты ни в каком случае не должен рисковать судьбой Афин. Воины, которыми ты будешь командовать, наши последние дети…
— Я всегда буду помнить об этом, — сказал Конон.
— Прежде чем покинуть нас, выслушай, что я скажу тебе, сын мой, — сказал Лизиас. — Возраст дает мне право называть тебя так, и я знаю, что твой отец, который смотрит на нас из Элизиума , одобряет меня.
Многие из находящихся здесь заплатили уже вперед за твою будущую победу. Сын Аристофула нашел себе могилу в Сиракузах. Двое моих сыновей спят в Сфактерии, а третий, может быть, завтра же будет сражаться рядом с тобой на палубе священной галеры. Аристомен, который стоит там возле жертвенника, еще несчастнее нас — только что он ездил в Тенедос погребать своих троих сыновей… Мы все говорим тебе: Конон, ты должен победить. Ради нашей родины, ради наших очагов, ради всего, что у нас еще осталось и что мы еще любим, ради священного имени Афин, ради священного города, который некогда спас Грецию и который нынешняя Греция хочет уничтожить, Конон, стань победителем! Привези нам на наших последних кораблях, убранных миртами и лаврами, желанный мир!
Глава V
Когда гости, простившись с Леуциппой, вышли из зала, Конон подошел к хозяину дома.
— Мой непредвиденный отъезд заставляет меня объясниться с тобой, Леуциппа, — сказал он. — Твоя дочь была вчера вечером у Гиппарха, я тоже был там. Утром я послал ей подарки. Следует ли мне теперь принимать избрание меня в стратеги.
— Разумеется, следует.
— Но я должен буду уехать, не повидавшись с твоей дочерью?
— Нет, — отвечал, улыбаясь, Леуциппа, — я уже позвал ее, да вот и она.
Драпировка, закрывавшая одну из дверей, распахнулась, в комнату вошли Эринна и ее мать.
Волосы девушки поддерживались повязкой, в которой блестели золотые булавки. На шее был надет белый жемчуг, в два ряда нашитый на красную ленту, а обнаженные, без всяких украшений руки виднелись из-под широких рукавов туники. Обрамленное волнами золотистых локонов ее прелестное личико производило чарующее впечатление.
— Жена, — сказал Леуциппа, — это тот самый молодой человек, которому мы обязаны спасением жизни нашей дочери. Я хотел предложить ему в благодарность украшение для его домашнего жертвенника, золотую чашу для возлияний богам; но Эринна опередила меня: она отблагодарила своего спасителя и, без нашего ведома, стала со вчерашнего дня его невестой.
Эринна, вся красная от смущения, бросилась в ноги Носсисы.
— Прости меня, я не знаю, какой бог внушил мне поступить так.
— Наивный ребенок, — сказала Носсиса, целуя ее в лоб. — Ни отец, ни я не станем препятствовать твоему счастью.
— Да, — сказал Леуциппа торжественно, — но мы не испросили благословения у богов, и боги уже посылают нам наказание за это. Дочь моя, судьба послала твоему жениху более высокую награду, чем твоя целомудренная любовь. Народ вручил ему судьбу отечества. Конон теперь стратег и с нынешнего дня вступает в командование флотом и войском Афин. Сегодня вечером он отправляется в Самос.
Носсиса почувствовала, как в ее руке задрожали тонкие пальцы дочери. Изменившись в лице, она сказала прерывающимся голосом:
— Итак, Конон, ты покидаешь нас. Успеха тебе в битвах. Не забывай наш дом, и того, что две бедные женщины в ожидании твоего возвращения, здесь будут молить за тебя богов…
— Оставим их, жена, — сказал Леуциппа отеческим тоном. — Оставим их. Останьтесь вместе, дети мои. Конон, этот дом твой. Через два часа я приду за тобой, и мы вместе пойдем в экклезию .
Они долго сидели, не произнося ни слова, погруженные в свои мысли. Горделивая улыбка сияла на открытом лице Конона. Еще ни один афинянин не получал права в таком возрасте носить пурпурный плащ стратега, меч с позолоченной рукояткой и котурны с золотыми шпорами. Он был уверен, что победит Лизандра. Конон изучил тактику, хитрости и уловки этого полководца.
Взглянув на Эринну, он увидел на глазах у молодой девушки слезы. Опустившись перед ней на колени, он взял ее руки в свои и взволнованно сказал:
— С тех пор, как я увидел тебя, я живу, как во сне. Пока я не знал тебя, мне и в голову не приходило, что я буду чувствовать себя таким счастливым, видя улыбку молодой девушки. Я считал вас, похожими на красивых бабочек, у которых в их своенравных головках мелкая, пустая душа. Я думал, что с вами, может быть, и приятно проводить известные часы, когда сердце успокаивается, когда ум позволяет уносить себя на шелковистых крыльях мечты. Но теперь я понимаю, что это вовсе не так… Отныне моя жизнь принадлежит тебе. Никогда, по моей вине слеза печали не омрачит твоих глаз, никогда я не оставлю тебя, каков бы ни был путь, по которому мы пойдем вместе. Эринна, не плачь… Улыбнись, я хочу видеть твою улыбку.
Она подняла голову, грациозным движением обвила его шею своими руками.
— Не забывай, — тихо сказала она, — что мы должны испросить прежде всего благословение богов. Вели принести сюда твои доспехи. Пока ты будешь на собрании, я пойду просить благословения для твоих доспехов в храм богини Афины. Я буду ждать тебя спокойно, потому что буду уверена, что ты вернешься невредимым. Она защитит тебя.
— Хорошо. Я уверен, она услышит твою молитву. Я вернусь… Я вступлю победителем в Акрополь на золоченой триумфальной колеснице и отдам мои венки для украшения твоего венчального платья!
Назад: Э. Фрежак. Гетера Лаиса. Перевод с французского
Дальше: Часть II

