Глава VII
С того дня, когда Алкивиад ударом диска ранил своего товарища, прошло много лет. Мальчик превратился в юношу, стал совершеннолетним, и, по афинскому обычаю, вместе с другими юношами, которые в этот год вступили в совершеннолетие, был представлен в народное собрание и, опоясанный мечом и вооруженный щитом, взошел на Акрополь, чтобы принести там торжественную клятву присяги, которую должны были давать родине новые афинские граждане. Он клялся с честью носить оружие, не оставлять в бою своего соседа, сражаться за святыню и имущество всех, не уменьшать общественного достояния, а где возможно увеличивать его, так же как могущество своей страны, уважать и соблюдать законы, издаваемые народом и не дозволять другим их оскорблять или не повиноваться им.
Но родина, которой юный Алкивиад клялся в верности, пока еще мало нуждалась в его усердии, так как обязанности, которые предписывались только что объявленным совершеннолетними афинским юношам, заключавшиеся в заботах о безопасности своей страны, пока могли считаться скорей удовольствием чем трудом.
Его новая жизнь давала юному сыну Кления достаточно свободного времени, чтобы наслаждаться удовольствиями золотой юности.
Вместе с Алкивиадом вырос и юный Каллиас, называвший своего отца Гиппоникоса, толстяком, и юный Демос, известный своею красотою, сын Пирилампа, который был убежден, что его отец не умеет как следует пользоваться своим богатством.
Алкивиад, Каллиас и Демос были неразлучны. Ксантип и Паралос до сих пор бывавшие его верными помощниками во всех шалостях, должны были довольствоваться подчиненной ролью, так как этим отпрыскам Телезиппы недоставало ума и насмешливости, кроме того, их кошельки были далеко не так полны, как кошельки сыновей двух богатейших людей Афин и как кошелек самого Алкивиада, который, достигнув совершеннолетия, получил в свое распоряжение отцовское наследство.
Алкивиад чувствовал странную склонность к молодому человеку, привезенному Периклом еще мальчиком с самосской войны и воспитывавшем его у себя в доме. Но все старания Алкивиада увлечь этого задумчивого, молчаливого, немного неповоротливого юношу в их веселый круг, были напрасны. Кроме того, юноша этот стал предметом всеобщего внимания, благодаря случившейся с ним странной болезни. В глубокой ночной тишине, когда все спит, он поднимался с постели, с закрытыми глазами выходил в освещенный луною перистиль, затем взбирался на плоскую крышу дома и бродил там с закрытыми глазами, а потом, так же бессознательно, возвращался в свою постель.
Весть о ходящем во сне юноше, живущем в доме Перикла, распространилась по всем Афинам и к нему стали испытывать страх, как к человеку, находящемуся под влиянием демонической силы.
Если, уже мальчиком, Алкивиад привлек на себя всеобщее внимание афинян, то тем более стали говорить о нем, когда он возмужал. Теперь его похождения служили целыми днями предметом разговора для афинян и едва они успевали, качая головой, обсудить какой-нибудь безумный поступок, как Алкивиад выкидывал новую шутку. Он знал, что даже порицавшие его, втайне восхищались им. Казалось, он хочет узнать: может ли он сделать что-нибудь такое, что серьезно возбудило бы против него афинян. Но напрасно, он мог поступать как угодно, и все-таки оставался дорог афинянам.
Гиппоникос продолжал настаивать, что прелестнейшая девушка Греции, его дочь Гиппарета, должна стать супругой красивейшего из эллинских юношей. Поэтому он старался понравиться юному Алкивиаду, часто приглашал его к себе в гости и обращался с ним почти как с сыном. Алкивиад же смеялся над ним больше всех и проделывал с ним множество шуток.
Сама же юная Гиппарета, которой отец всегда указывал на Алкивиада, как на будущего супруга, была уже втайне влюблена в него.
Алкивиад смеялся над скромными девушками, ему больше нравились развязные, умные гетеры, число которых все увеличивалось в Афинах. Особенным расположением юноши пользовалась Теодота, посвятившая его в тайны любви.
Прошло уже десять лет с тех пор, как Алкаменес получил эту красавицу от богатого коринфянина в вознаграждение за сделанную ему статую и теперь Теодота была, может быть, уже далеко не самой цветущей из гетер, но без сомнения пользовалась славой. Она была для Алкивиада центром круга всевозможных развлечений, но только центром, сам же круг простирался далеко.
Диопит довольно потирал руки и говорил:
— Теодота сумеет погубить опасного для нас воспитанника Перикла.
В первое время для Теодоты, Алкивиад ничем не выделялся среди других ее знакомых, но, мало-помалу, в ее душе стали пробуждаться другие чувства. Бедняжка! Насколько завидным казалось счастье быть любимой Алкивиадом, настолько же большим несчастьем было любить его!
Совершеннолетие юного Алкивиада наступило несколько дней спустя после возвращения Перикла и Аспазии из Элиды.
Получив в свое распоряжение отцовское наследство, Алкивиад перестал жить в доме Перикла, тем не менее привычка, склонность и то влияние, которое имела над ним Аспазия, как и над многими другими, часто влекли его к дому, в котором он вырос. Не мешает заметить, что Алкивиад считал своим долгом говорить, все еще по-прежнему прекрасной супруге Перикла те любезности, которым он научился в школе Теодоты, но прекрасная милезианка была слишком благоразумна, чтобы быть ими особенно польщенной и, слишком горда, чтобы настолько увлечься красотою юноши и позволить причислить себя к его победам. Она знала, что ни одна женщина, даже она сама, не сумеет приручить этого сокола. Она принимала любезности Алкивиада, но не с материнской нежностью, а с материнской строгостью, что сердило привыкшего к победам обольстителя. Он втайне был раздражен, однако его восхищение милезианкой нисколько не уменьшалось, а, напротив, увеличивалось. Он чувствовал влечение к Аспазии и навязывал ей роль наперсницы, исполнять которую она не собиралась.
Однажды, в Афинах стало известно о новой проделке Алкивиада, которая обратила на себя большее внимание, чем какая-либо из прежних. Говорили, что он похитил в Мегаре одну девушку, которую держит как пленницу, и что раздражение мегарцев против афинян не знает границ. Многие уже говорили о неблагоприятных общественных последствиях этой шутки.
Когда Алкивиада стали расспрашивать, он не отрицал этого и рассказал все Аспазии.
— На днях, — говорил он, — я решил с моими приятелями, Каллиасом и Демосом, устроить маленькую морскую прогулку. У нас уже давно есть красиво разукрашенная, довольно большая лодка, построенная на общий счет, на которой мы часто рыбачили.
Мы сели в эту лодку, взяв с собою трех молоденьких девушек, которые кроме красоты, славятся еще своими талантами в музыке и пении, двух охотничьих собак и сети. Мы собирались плыть вдоль берега, приставать там и сям, и охотиться.
Мы переплыли через пролив. На море было совершенно тихо. Налево от нас находился Саламин, направо — Мегарский берег. С этого места берега сделались уединеннее и однообразнее, только по временам доносились до нас звуки пастушеской флейты. Мы веселились, ловили рыбу, на берегу нам попалось несколько диких гусей.
Когда мы хотели поднять паруса и продолжать плыть к Мегаре, нам встретилась другая лодка, нисколько не уступавшая нашей по красоте. В этой лодке сидел пожилой человек рядом с очаровательной молодой девушкой. Мне сразу понравилась эта девушка, но встреча была слишком мимолетной, обе лодки быстро разминулись и они вскоре скрылись от наших глаз за выступом скалы. Через некоторое время мы снова вышли на берег в одном приглянувшемся нам месте. Там было несколько кустов, которые наши собаки сейчас же обыскали. Вскоре они выгнали зайца. Мы схватились за сети в надежде загнать его в них и побежали за зайцем, оставив наших приятельниц около лодки. Собаки гнали зайца через поле и по несчастию, одна из них бросившись в середину стада овец, которые паслись тут же, испугала их, раздраженный этим пастух схватил камень и бросил в собаку, смертельно ранив ее. Это был Филакс, самая лучшая из моих охотничьих собак. Увидев происшедшее, мы бросили зайца и с негодованием поспешили к пастуху; но тот собрал своих товарищей и, когда мы подошли, увидели перед собой целую толпу, которая угрожала нам. Мы хотели броситься на них, но из стоявшего поблизости деревенского дома, появился раб, спрашивая от имени своего господина, что все это значит.
Узнав из слов раба, что пастух находится на службе у его господина, мы потребовали встречи с ним. Придя в дом, мы было немало удивлены, узнав в его хозяине того самого человека, который проплыл мимо нас в сопровождении очаровательной девушки.
Мы рассказали о случившемся и объявили, что желаем отомстить пастуху. Хозяин как мегарец и враг афинян, отвечал нам довольно резко. Пастухи, большая часть которых последовала за нами, с громкими криками жаловались на беспорядок, произведенный нами в их стадах. Их вместе с рабами, служившими в доме, было больше и потому мы со стыдом отступили. Как ни раздражало меня все происшедшее, я все-таки успел бросить взгляд на юную красавицу, следившую из сада за ссорой с любопытством и страхом.
Выйдя из дома с товарищами, я сейчас же сообщил им план мести недостойному мегарцу. Очаровательную девушку я посчитал выкупом за причиненный ущерб и решил, спрятавшись недалеко, выждать минуту, когда она будет одна в саду, и похитить ее. Не прошло и двух дней, как мы застали девушку одну, схватили ее, и по старой горной тропинке перенесли на лодку. Под покровом наступивших сумерек мы отчалили от мегарского берега.
— А девушка? — спросила Аспазия.
— Она у нас в руках и оказалась не рабыней, как мы думали, а племянницей проклятого мегарца. Ее зовут Зимайта и я называю ее очаровательнейшей из эллинских девушек.
Мегара. Это слово особенно звучало для Аспазии. Она стала с любопытством расспрашивать о девушке. Алкивиад подробно описал ее, а когда Аспазия пожелала непременно видеть Зимайту, он привел девушку к Аспазии.
Она была так хороша, что даже Аспазия была изумлена. Но девушка была еще необработанным драгоценным камнем.
Богатый мегарец взял ее к себе в дом маленькой девочкой. Он содержал ее лучше, чем содержат рабынь, но все-таки не так как дочь. По-видимому, из-за ее многообещающей красоты, он хотел сделать из нее слепую игрушку для своего развлечения; мегарец нисколько не походил на милетского старца Филимона, воспитавшего Аспазию.
Зимайта ненавидела его и объявила, что она лучше умрет, чем возвратится обратно в дом своего воспитателя. В глазах девушки светилось столько ума, столько красоты было в чертах ее лица, что Аспазия загорелась желанием помочь развитию этого прелестного цветка. Она сказала Алкивиаду:
— Оставь у меня эту девушку, и поверь, через некоторое время ты получишь благоухающий цветок…
Алкивиад был слишком молод и слишком непостоянен, оставить похищенную девушку на некоторое время в доме Аспазии было для него совсем нетрудно.
Так Зимайта осталась у Аспазии. Перикл сначала не соглашался, но у него была удивительно мягкая душа, и настойчивые просьбы Аспазии заставили его наконец уступить. Он, однако, настаивал на том, чтобы девушка пробыла у него в доме только до тех пор, пока будет решено: выдать ее обратно или нет.
В Афинах уже давно начали говорить о так называемой школе Аспазии, и это название теперь казалось более чем когда-либо справедливым: действительно, в доме Аспазии, под непосредственным присмотром милезианки находились две ее племянницы, аркадская девушка, к которой прибавилась еще и девушка из Мегары.
Кроме того, название школы вполне соответствовало сокровенным намерениям Аспазии. Она думала, что то, что не удалось ей со взрослыми женщинами, удастся с этими девушками. Она хотела вырастить не гетер, а подруг и помощниц, которые умом и красотой, подобно ей самой, старались бы добиться влияния. Она не довольствовалась личным успехом, а стремилась к победе женской красоты и женского ума вообще.
Каприз природы отказал Аспазии в радостях материнства и она без жалоб переносила это. Если судьбой ей не дано было воспитать дочь, то эта же судьба дала ей в руки многообещающих девушек, с которыми она могла вдоволь тешить свое воспитательское умение.
Казалось, что музы и хариты сошли с Олимпа в школу Аспазии. Аспазия старалась развивать в своих ученицах красоту тела, души и ума. Все искусства: музыка, танцы и поэзия преподавались ученицам, было исключено только все суровое и мрачное. Радость считалась первым законом жизни.
Прежде всего Аспазия учила своих учениц понимать, как глупо надеяться добиться всего своими прелестями. Она объясняла им, что ум есть корень красоты, который питает и освежает ее. Глупая красота скоро исчезает, говорила она, и жизнь с глупой женщиной невыносима. Красота должна уметь влиять на других, должна внушать благороднейшие поступки и заключается в гармоничном соединении красоты тела и души. Она не должна быть неподвижным светом, а должна походить на солнечный луч, разливающий вокруг себя жизнь.
Никогда не мешает глядеться в зеркало, но не для того, чтобы видеть, как вы хороши, а для того, чтобы стараться уничтожить все некрасивое. Безобразие есть демон, с которым мы должны бороться каждый день, если не желаем быть им постыдно побежденными.
Аспазия сочла необходимым, несмотря на афинские обычаи разрешить им непосредственное общение с мужчинами. Постоянные разговоры с выдающимися людьми, посещавшими дом Перикла, должны были развить ум девушек. Но и женские знакомства также не исключались, когда кто-то из мужчин, посещавший дом Перикла, желал привести прелестную приятельницу, это охотно дозволялось.
К числу тех, кто пользовался этой привилегией, принадлежал юный скульптор и архитектор Каллимах, привезший в Афины из Коринфа молодую сирену по имени Филандра. Он нежно любил девушку и по-видимому решил жениться на ней. Но будучи низкого происхождения и к тому же еще очень молодой, Филандра нуждалась в воспитании, которое сделало бы ее достойной своего друга. Естественно, наиболее подходящим местом, где она могла приобрести это воспитание, был кружок Аспазии. Конечно и Аспазия была очень рада увеличить число своих учениц.
Ничто неблагородное не допускалось в этот круг; взгляд Аспазии умел держать в границах даже порывистого Алкивиада. Аспазия никогда не забывала, что она обязана поддерживать честь дома своего супруга.
Однажды, юный Алкивиад пригласил Аспазию и ее воспитанниц прокатиться по морю в его лодке. Аспазия приняла приглашение юноши с тем условием, что он не возьмет с собою своих веселых товарищей.
Одним летним утром Аспазия в обществе племянниц Дрозы и Празины, Зимайты и Коры вошла в лодку Алкивиада, к ним присоединились и Каллимах с Филандрой и ее приятельницей Пазикомбой, которая также была введена в дом Аспазии.
Они поплыли вдоль берега и скоро достигли красивой Саламинской бухты. Слева от них был веселый зеленый остров, сверкавший в утренней росе, справа берег Аттики.
Ничто не может гармоничнее настроить душу, как удовольствие от путешествия на лодке по морю и нигде нет более голубого моря как в Саламинской бухте. Общество в лодке Алкивиада в самом веселом настроении качалось на волнах. Над ними расстилался голубой небесный эфир, под ними — чудная синева моря; они как будто скользили между ними и не могли сказать что лучше. Они только видели, что птицы спускаются на несколько мгновений из синевы эфира в синеву моря, а рыбы, напротив весело выскакивали из воды. Мимо лодки Алкивиада прошел большой торговый корабль и, так как этот корабль прошел совсем близко от лодки, то его экипаж мог рассмотреть людей, находящихся в лодке Алкивиада. Но так как судно шло гораздо быстрее, то оно скоро оставило лодку позади и веселое общество не обращало более на него внимания, только Каллимах заметил, что это было мегарское судно.
Когда лодка вошла в маленькую бухту, было решено выйти на берег. Это было как раз то место, на котором было высечено в скалах гранитное кресло персидского царя Ксеркса — кресло, с которого великий царь следил за битвой своего флота при Саламине, с полной уверенностью в победе, но вместо этого видел его поражение.
Каллимах и Алкивиад повели Аспазию и молодых девушек к этому гранитному креслу и Алкивиад заставил Аспазию, как достойнейшую, опуститься на него. Аспазия исполнила его желание; Каллимах занял место рядом с нею; девушки, вместе с Алкивиадом расположились вокруг их веселою группой. Чудное спокойствие царствовало вокруг.
С этого возвышения Саламин казался еще красивее чем с моря; между островом и далеким берегом синело неподвижное море; нигде не было слышно ни звука.
— Клянусь всеми морскими нимфами, — сказала Аспазия, — здесь также спокойно и идиллически тихо, как на сицилийском берегу, так и кажется, что где-нибудь недалеко сидит влюбленный циклоп Полифем, глядя на море, в котором отражается образ, выходящей из волн, Галатеи. Дикий циклоп с ревом протягивает к ней руки, но нимфа, смеясь, убегает от него.
По знаку Алкивиада, раб принес кувшин с дорогим вином и вскоре раздался звон кубков, сопровождаемый веселым пением. Чудно звучала веселая песня в морской тишине, повторяемая далеким эхом.
Весело наслаждалось маленькое общество прогулкой, и его безмятежность, казалось, ничто в мире не могло нарушить, а, между тем, за их беззаботной компанией наблюдали враждебные взоры.
Когда мегарское судно прошло мимо лодки Алкивиада, один из его экипажа с волнением сказал своим товарищам:
— Заметили ли вы афинянина, выехавшего кататься в море с юными гетерами — это никто иной как дерзкий похититель, Алкивиад, я его узнал — я часто видел его в Афинах… и в числе девушек была и Зимайта, похищенная Зимайта. Этот подлый Алкивиад безнаказанно наслаждается, так как находится под сильным покровительством. Как вам известно, все старания наших сограждан, требовавших у афинян выдачи девушки, остались напрасны. Но не всегда этим собакам-афинянам смеяться над мегарскими законами, придет время доказать им, что они напрасно презирают наш город. Друзья, мы должны сами восстановить справедливость и случай, как нельзя более, нам благоприятствует: на этой лодке в обществе безбородого похитителя, за исключением нескольких гребцов, только одни женщины, нас же достаточно много чтобы отнять у них Зимайту и увезти ее с собою в Мегару.
Это предложение всем понравилось. В то время, как они советовались, каким образом напасть на лодку, гости Алкивиада появились на берегу маленькой бухты.
Мегарцы заметили это издали.
— Тем лучше, — сказал их предводитель, — мы спрячем наш корабль у берега. Большинство из нас оставит судно и потихоньку проберется на берег. Нам легко будет пробраться к девушке и овладеть ею, так что афиняне не только не помешают нам, но, может быть, даже и не заметят этого. Стоит только выбрать минуту, когда Зимайта отойдет от своих подруг. Они даже не будут знать, куда подевалась девушка.
Мегарцы высадились на берег и наблюдали из засады за беспечным, веселым обществом.
Долго благоприятная для мегарцев минута не наступала, наконец, Зимайта, Дроза и Празина, срывая цветы, ничего не подозревая, приблизились к выступу скалы, за которым скрывалось несколько мегарцев.
Алкивиад с Корой, и Каллимах с Аспазией были довольно далеко от них.
Мегарцы выскочили из засады, чтобы броситься на Зимайту.
Увидев приближавшихся к ней людей Зимайта громко вскрикнула и кинулась бежать. Дроза и Празина также побежали, но Зимайта далеко опередила обеих подруг и уже почти добежала до Алкивиада.
Алкивиад выхватил кинжал, чтобы вместе с гребцами, вооруженными веслами, броситься на похитителей: мегарцы схватили Дрозу и Празину, которые в испуге почти не могли бежать. Не желая вступать в бой, мегарцы кинулись к берегу, сели на свой корабль и ушли в море, прежде чем Алкивиад со своими помощниками успели начать преследование.
Вне себя от гнева, Алкивиад хотел броситься вслед за похитителями, но девушки подняли крик, испугавшись, что он хочет оставить их на берегу, где, может быть, их ожидают новые враги.
Каллимах, гребцы и больше всех Аспазия, убедили его, что преследование бесполезно и что для возвращения похищенных найдутся другие средства.
При виде мегарцев Аспазия побледнела, но бледность скоро сменилась яркой краской гнева, тем не менее она первая пришла в себя и почти с улыбкой торопила Алкивиада возвращаться в Афины.
— Смерть мегарцам! — вскричал Алкивиад, отталкивая лодку от берега, и, бросив о скалу кубок, прибавил:
— Как этот кубок разлетается в куски, так пусть разлетится мегарское упрямство об афинский Акрополь!
Глава VIII
По просьбе супруги, Перикл тотчас же потребовал от мегарцев похищенных девушек.
Мегарцы отвечали, что они сразу же отдадут Дрозу и Празину, как только им будет возвращена похищенная афинским юношей, Зимайта. Но против этого возвращения была сама Зимайта, которая нашла себе могущественную защитницу в Аспазии, так как сделалась ее любимицей.
Афиняне так же ненавидели мегарцев, как мегарцы афинян, и Перикл просил народ принять постановление, по которому мегарцам было запрещено посещение афинских гаваней и рынков, до тех пор пока они не только отдадут девушек, но и удовлетворят афинян и в других делах.
Изгнание с афинского рынка было крайне чувствительно для мегарцев и афиняне полагали, что те недолго будут упрямиться. Но так как можно было опасаться, что мегарцы обратятся к спартанцам, прося их посредничества и кроме того, вступят в сношение с коринфянами и, таким образом, доставят беспокойство афинянам, то враги Перикла и Аспазии воспользовались этим, чтобы восстановить народ против действий Перикла.
Они говорили, что желание чужестранки вернуть своих племянниц и разнузданность ее друзей грозят общественному спокойствию Эллады. Что похищение двух гетер вовсе не повод, чтобы вызывать рознь между греками, а Перикл придает этому слишком большое значение.
Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Перикл и Аспазия возвратились в Афины после путешествия в Элиду и с тех пор, когда жрец Эрехтея, Диопит, заключил договор в Элевсине. И вот последовал их первый выпад.
Диопит воспользовался отсутствием Перикла в Афинах, чтобы провести в народном собрании закон против тех, кто отрицает религию Аттики, и против философов, учение которых противоречит унаследованной от отцов вере в богов.
Речь жреца Эрехтея была так красноречива, так пересыпана угрозами тем, кто своими поступками оскорбляет богов, что ему удалось приобрести на Пниксе большинство голосов для своего закона.
С этого дня домоклов меч повис над головою престарелого Анаксагора. В него были, прежде всего, устремлены стрелы Диопита, но его намерения шли дальше. Его негодование против Перикла каждый день находило себе новую пищу, так как ненавистный ему Калликрат все еще работал на вершине Акрополя, оканчивая роскошные Пропилеи с таким же усердием, как и храм Афины-Паллады.
Калликрат был ненавистен жрецу, ненавистны были и его помощники, ненавистен ему был также и старый мул, который по-прежнему бродил на Акрополе.
Но вот как-то Диопит подозвал к себе мула и бросил ему кусок хлеба: вечером животное нашли околевшим на ступенях Парфенона.
Один из рабочих Калликрата видел издали, что жрец Эрехтея бросил кусок хлеба мулу и все были убеждены, что животное пало жертвой мести Диопита. Некоторые клялись наказать его за это и, собравшись перед храмом Эрехтея, осыпали жреца громкой бранью и, если бы не появился архитектор Мнезикл, то Диопиту плохо бы пришлось от рабочих Калликрата.
Чаша гнева в душе жреца Эрехтея переполнилась; он не мог откладывать долее задуманной мести.
Была мрачная, бурная ночь; тучи, гонимые ветром, то скрывали, то открывали луну, а на холме Ареопага, в храме Эвменид, собрались трое на тайное совещание. Диопит был один из трех и он же привел остальных в этот грот.
Один из собеседников Диопита был олигарх Фукидид, свергнутый Периклом. Он и Диопит первые вошли в грот, затем явился третий, тщательно закутанный.
Олигарх с некоторым любопытством осмотрел этого вошедшего, так как Диопит не назвал его имени. Но когда новопришедший открыл в гроте свое лицо, то олигарх отступил с недовольным видом, и на губах его появилась презрительная улыбка. Он узнал плоское лицо Клеона — ненавистного партии олигархов народного оратора, выступавшего за народное правление.
— С каким человеком ты меня сводишь, — сказал Фунидид с досадой Диопиту.
Клеон, в свою очередь глядел на олигарха с презрением и, обратившись к жрецу Эрехтея, проговорил:
— Нечего сказать, Диопит, ты привел сюда самого подходящего товарища для народного трибуна Клеона.
— Я позвал вас не для того, чтобы возбуждать спор о преимуществах олигархии или народного правления, я позвал вас для того, чтобы выступить против нашего общего врага, — отвечал жрец Эрехтея.
— Я не хочу бороться с врагом, — возразил олигарх, — для пользы человека, который для меня ненавистнее этого врага!
— Неужели я должен погубить противника, — сказал в свою очередь Клеон, — при помощи его врага, который для меня ненавистнее его самого!
Так говорили они в первую минуту встречи, но после хитрому жрецу Эрехтея, удалось сделать так, что недавние враги, выйдя из пещеры, почти дружески пожимали друг другу руки.
Диопит на взгляд постороннего совсем не занимался политикой: он был в прекрасных отношениях и с народным трибуном Клеоном, и с олигархом Фунидидом. Он говорил, что борется только за богов, за их святыни и помогать ему в этой борьбе должны без колебания и народные трибуны, и олигархи. В действительности же оба они были только орудием в руках хитрого жреца, единственной целью которого, была гибель его личных врагов — Анаксагора, Фидия и Аспазии.
Для того, чтобы погубить их, он должен был выдвинуть против них тяжелое обвинение, а для этого он заранее убедил принять упомянутый нами закон. Но чтобы этот закон заработал он должен был обеспечить себе народную поддержку, должен был приобрести голоса большинства — и для этого ему необходимы были помощники и союзники. Поэтому он заводил дружбу и входил в тайные сношения с людьми самых различных партий.
Сначала он решил напасть на Анаксагора, затем нанести решительный удар по Аспазии, который должен был задеть и Перикла. И, наконец, соединить все силы для свержения любимого афинянами Перикла.
Не прошло и месяца после собрания трех заговорщиков на холме Ареопага как большая половина афинского народа была настроена против Аспазии и Анаксагора.
Все были убеждены, что Анаксагор отрицает богов — не было почти никого, кто не припоминал бы его смелых выражений на Агоре, в лицее, в том или ином месте, при тех или иных обстоятельствах и то, на что прежде едва обращали внимание и даже отчасти слушали с одобрением, теперь при изменившемся настроении встречалось враждебно еще и потому, что союзник Диопита, Клеон, возбуждал народ против философа.
Однажды, поздно вечером, по опустелым улицам Афин шел быстрыми шагами человек, озабоченно оглядывавшийся вокруг, очевидно стараясь пройти незамеченным под защитой темноты и направлявшийся к Илиссу.
Он шел один, без рабов, которые обыкновенно несли факелы за ночными путниками.
Он дошел до Илисса и направился к итонийским воротам, за которыми было только несколько невзрачных строений. В дверь одного из этих домов путник постучал. Ему сейчас же открыли и он, тихо сказав несколько слов открывшему рабу, прошел в дом.
Комната была обставлена бедно. На постели лежал Анаксагор, а его поздним, ночным посетителем был Перикл.
С изумлением взглянул старик на друга, которого не видел уже давно, и считал себя забытым.
— Я пришел к тебе, — сказал Перикл, — в ночной час, не для того, чтобы принести радостное известие, но то, что это известие приношу тебе я, должно показаться утешительным предзнаменованием. Я явился не только как посланный, а как советник и помощник.
— Хотя лишь дурное известие привело Перикла к его старому другу, тем не менее я рад его видеть. Говори прямо и без предисловия то, что хочешь сказать.
— Тщеславный и, как я знаю, втайне настраиваемый жрецом Эрехтея Клеон подал сегодня архонту обвинение против тебя в отрицании богов.
— В отрицании богов, — спокойно повторил Анаксагор. — Постойте, насколько я помню, по закону Диопита за это следует смерть — ничтожное наказание для старика.
— Жизнь достойного старца, которой угрожает опасность, заслуживает большего сострадания, чем жизнь юноши, — возразил Перикл. — И за безопасность твоей жизни я встану вместе с моей партией. Я сам выступлю перед судьями, как твой защитник, и, если нужно, предложу за твою голову — мою. Но, чего я не могу изменить — это того, что тебя отведут в тюрьму до решения твоего дела и безжалостное заключение может быть очень продолжительным.
— Пусть меня сажают в тюрьму, — ответил Анаксагор, — к черту мне свобода, если у меня отнимают свободу слова?
— Все изменится, — возразил Перикл, — твоему слову снова будет возвращена свобода. Закон, хитростью принятый жрецом Эрехтея во время моего отсутствия, будет отменен. В настоящую минуту покорись необходимости, поднимайся скорей, надевай сандалии и покинь на время Афины. Все приготовлено к твоему бегству: внизу, в уединенной Фалеронской бухте, стоит корабль, готовый отвезти тебя туда, куда ты захочешь. С моим другом Кефалосом я все обдумал. Он будет сопровождать тебя пока ты не найдешь безопасного убежища. Тяжело подходить к ложу слабого старца и говорить ему: «вставай и иди», но я должен сделать это. Я провожу тебя до Фалеронской бухты, где ожидает Кефалос.
— У меня нет повода уезжать, — сказал Анаксагор, — но еще меньше поводов оставаться, так как я стар и все дороги мира одинаково ведут к последнему успокоению. Если меня ждет судно в Фалеронской бухте, то к чему заставлять его ждать напрасно? Доставьте меня к Мизийскому берегу — там у меня есть друзья, там они могут похоронить меня и начертать на моей могиле слово «истина». Позови моего старого раба, Перикл, чтобы он завязал мне на ногах сандалии, взял хитон для перемены и несколько книжных свитков.
Старик поднялся с помощью Перикла с постели, дал рабу надеть себе на ноги сандалии, надел хитон и через несколько минут был готов.
Оба путника, в сопровождении раба, под покровом ночи, в безмолвии прошли через итонийские ворота и спустились вниз вдоль длинной стены по пустынной дороге к Фалеронской бухте.
В гавани, они нашли Кефалоса на судне, стоявшем под прикрытием скал.
В тот момент, когда они протягивали друг другу руки в последний раз, Перикл с волнением поглядел на старца, готовившегося отдать себя во власть переменчивого моря.
— Не сожалей обо мне, — сказал старик, — я приготовлен ко всему. В течение моей долгой жизни я убил в себе все, что может в человеке страдать. Юношей я много выстрадал, я видел прелесть жизни, но в то же время наблюдал ее мимолетность и тщету. Тогда я отрекся от всего и все больше погружался в глубокую пропасть равнодушного созерцания. Так я состарился, мое тело сделалось слабо, но непоколебимое спокойствие овладело моей душой. Вы, афиняне, думаете что заставляете меня ввериться непостоянному морю и удаляете меня в далекую, чуждую страну, в действительности же, я со спокойного берега невозмутимо буду глядеть на треволнения вашей жизни. Тебе выпала иная судьба, друг мой, ты стремился в жизни к красоте, счастию, власти и славе, ты привязался к прекрасной женщине, которая овладела моим чувством, к женщине достаточно прекрасной, чтобы воодушевлять тебя. Я считаю тебя блаженным, но должен ли я считать тебя счастливым? Человек наслаждающийся, пользуется блаженством, но счастлив только тот, кто не может ничего потерять, кого жизнь не может обмануть, потому что он ничего от нее не требует.
— Смертным суждено идти различными путями, — отвечал Перикл. — Я ко многому стремился, многого достиг, но только последнее мгновение закончит счет, только смерть подведет итог жизни. В чашу радости часто попадают капли горечи, беспокойство нередко закрадывается в мою душу — может быть я слишком многого ожидал от красоты и счастья жизни.
Анаксагор еще раз оглянулся на город и сказал:
— Прощай, город Афины-Паллады! Прощай, земля Аттики, которая так долго дружелюбно принимала меня! Ты служила почвой брошенным мною семенам; из того, что сеют смертные, может вырасти добро и зло, но только одно добро бессмертно. Спокойно и благословляя тебя, прощаюсь я с тобою, чтобы снова, уже стариком, плыть по тем же волнам, которые принесли меня юношей к твоим берегам.
С этими словами мудрец из Клацомены вступил на корабль. Раздались удары весел, тихий плеск волн, и корабль медленно вышел в открытое море.
Перикл стоял на пустынном берегу и еще долго глядел вслед удалявшемуся судну, затем, погруженный в глубокую задумчивость, пошел обратно к городу. Придя на Агору он увидел, что, несмотря на раннее утро, множество народу толпилось на так называемом царском рынке.
Толпа читала таблички, на которых обыкновенно писались заявления архонта. Это был текст общественного обвинения.
В нем было следующее: «Обвинение, подписанное и данное под присягой Гермиппосом, сыном Лизида, против Аспазии из Милета, дочери Аксиоха. Аспазия обвиняется в преступлениях: в непризнании богов; в непочтительных выражениях против них и священных обычаев Афин; в принадлежности к партии философов и отрицателей богов. Кроме того она обвиняется в том, что соблазняет молодежь опасными речами, проповедует неблагочестивые взгляды молодым девушкам, которых держит у себя в доме, а также и свободно рожденным гражданам, которые бывают у нее. Наказание — смерть».
Громко раздавались эти слова по рынку, когда Перикл, незамеченный народом, проходил мимо. Он побледнел.
— Да, — закричал один из толпы, — это обвинение падает на супружеское счастье Перикла, как удар молнии в голубиное гнездо.
— И Гермиппос - обвинитель! — закричал другой.
— Гермиппос? Сочинитель комедий? Этого надо было ожидать! — воскликнул третий. — Я сам слышал из уст Гермиппоса, после того, как Перикл обрезал крылья комедии: «хорошо, говорил он, если нам закрывают рот на подмостках, то мы раскроем его на Агоре».
Редко бывали афиняне так возбуждены, как были они возбуждены обвинением супруги Перикла, с огромным нетерпением ожидали они того дня, когда обвинение будет публично рассматриваться гелиастами .
Как раз в это время Фидий возвратился из Олимпии обратно в Афины, и Диопит был немало раздражен, снова видя каждый день ненавистного человека, ходившим по Акрополю с Мнезиклом и Калликратом и подававшим свои советы трудившимся над постройкою Пропилеи.
Однажды Диопит увидал Фидия, стоявшего за колоннами храма Эрехтея и разговаривавшего со своим любимцем, Агоракритом. Беседуя, они приблизились к куску мрамора, лежавшему недалеко от незамеченного ими Диопита, опустились на камень и спокойно продолжали разговор, который подслушал жрец Эрехтея.
— Странное направление, — говорил Агоракрит, — начинает принимать скульптурное искусство афинян. Непонятные вещи вижу я выставляемыми в мастерских молодых товарищей по искусству. Куда девались прежние возвышенность и достоинство? Видел ли ты последнюю группу Стиппакса? Мы употребляли наши лучшие силы на изображение богов и героев, теперь же, со всеми тонкостями искусства, представляют грубого, несчастного раба. Юный Стронгимон старается вылить из бронзы троянскую лошадь; Деметрий изображает старика с голым черепом, с жидкой бородкой…
— Скульпторы не стали бы создавать подобных произведений, если бы они не нравились афинянам, — сказал Фидий, — к сожалению, никто не может отрицать, что подобные вкусы все более и более проникают в народ. Как в скульптурном искусстве безобразное занимает место рядом с прекрасным, также и на Пниксе, рядом с олимпийскими, громовыми речами благородного Перикла, все громче и громче раздаются дикие крики какого-нибудь Клеона. Прежде у нас был один Гиппоникос и один Пириламп — теперь их сотни.
— Роскошь и страсть к удовольствиям все усиливаются, — сказал Агоракрит. — Но кто первый проповедовал это стремление к роскоши и удовольствиям? С тех пор, как подруга Перикла отняла у моего, и, я осмеливаюсь сказать, и у твоего, произведения награду в пользу самоуверенного произведения Алкаменеса с того дня, негодование этой женщиной не оставляло моей души. Когда она бессовестно превратила мою Афродиту в Немезиду, тогда в голове у меня мелькнула мысль: «Да, моя Афродита будет для тебя Немезидой, ты почувствуешь на себе могущество мстительной богини». И эта месть приближается.
— Боги судят одинаково и беспристрастно, — серьезно сказал Фидий, — если они не одобряют веселой самоуверенности милезианки, то они также накажут и тайную хитрость Диопита, союзником которого тебя сделало твое стремление отомстить. Что бы мы ни хотели порицать или наказать в супруге Перикла, не забывай, во всяком случае, что без ее мужественных и потрясающих сердце слов, колонны нашего Парфенона, может быть, еще до сих пор, не были бы созданы. Не забудь и того, что при создании Парфенона, мы не имели другого врага кроме хитрого жреца Эрехтея.
— В таком случае, ты также становишься другом и защитником милезианки? — сказал Агоракрит.
— Вовсе нет, — возразил Фидий, — я также мало люблю Аспазию, как и жреца Эрехтея и избегаю обоих с тех пор, как возвратился обратно в Афины из, сделавшейся для меня дорогою, Олимпии. Я нашел жителей Элиды более благодарными, чем афиняне и остаток моей жизни, хочу посвятить великой Элладе; я оставляю Афинам их аспазий, их демагогов и их хитрых, недостойных и мстительных жрецов Эрехтея.
— Ты поступаешь справедливо, — сказал Агоракрит, — поворачиваясь спиной к Афинам, афиняне, может быть, сделали женственным и менее высоким даже твое искусство. При их новом вкусе тебе, может быть, пришлось бы начать создавать Приамов вместо олимпийских богов…
— Или, может быть, сделать статую нищего, постоянно шатающегося здесь, — сказал Фидий, — указывая на всем известного калеку Менона, лежавшего в ту минуту между колоннами и гревшегося на солнце.
Нищий слышал слова Фидия и, сжав кулак, послал ему вслед проклятие. Между тем, Фидий поднялся вместе с Агоракритом и, сделав несколько шагов к храму Эрехтея, увидал стоящего между колоннами Диопита.
— Посмотри, эти совы храма Эрехтея вечно на стороже, — сказал Фидий.
Пристыженный, подслушивавший жрец бросил на скульптора взгляд, в котором читалась ненависть.
— У сов храма Эрехтея острые клювы и острые когти, берегись, чтобы они не выцарапали тебе глаза! — крикнул Диопит.
В ответ скульптор повторил бессмертные слова Гомера: «Никогда не дозволит мне трепетать Афина-Паллада!»
«Хорошо!» — пробормотал про себя Диопит, когда Фидий и Агоракрит уже отвернулись от него, «рассчитывай на защиту твоей Афины-Паллады, я же рассчитываю на помощь моих богов».
Он уже хотел было уйти, когда Менон, опираясь на клюку и продолжая посылать проклятия Фидию, так сильно ударил по одной колонне, что от нее отскочил кусок.
Некогда Менон подвергался пытке вместе с остальными рабами своего осужденного господина. Эллинские рабы допрашивались не иначе, как под пыткой, поэтому и Менон давал свое показание под пыткой; вследствие его показания афинянин был оправдан, но после пытки Менон остался калекой. Из сострадания, его господин дал ему свободу и, умирая, завещал довольно большую сумму денег, но Менон бросил полученные деньги и предпочел бродить по Афинам, прося милостыню.
Он большею частью питался тем, что ставят покойникам на могилы. Когда зимою было холодно, он грелся перед горнами кузнецов или у печей общественных бань. Его любимым местопребыванием было то место, куда бросали тела казненных и самоубийц. Какая-то собака, прогнанная своим господином, была его постоянным спутником.
Менон был злым и хитрым, и его величайшим удовольствием было сеять раздор. Он был пропитан каким-то тайным чувством мести и все, что он ни делал, казалось рассчитанным на то, чтобы отомстить за рабов свободным гражданам.
Он нарочно выдавал себя за полоумного, чтобы иметь возможность говорить афинянам в глаза всякие колкости, которых никогда не простили бы другому.
Он постоянно вертелся на Агоре и других общественных местах. На Акрополе он сделался своим человеком, постоянно крутился в толпе рабочих. Ему нравилось везде, где только был народ и, где он мог играть свою роль, но в особенности понравилось ему пребывание на Акрополе с той минуты, когда он заметил вражду между Диопитом и Калликратом, казалось, он считал своим долгом сеять раздор между людьми Калликрата и прислужниками храма Эрехтея. Он постоянно передавал слова одних другим, он служил обеим сторонам и обе одинаково ненавидел, как ненавидел всякого, кто назывался свободным афинянином.
Диопит часто с ним разговаривал и скоро понял все удобства этого оружия.
Менон постоянно толкался среди народа, узнавал и подслушивал. Никто не считал нужным что бы то ни было скрывать от безумного и его колкие насмешки делали его одинаково нелюбимым и внушавшим опасения во всех Афинах.
Менон и Диопит знали друг друга и хорошо понимали один другого. Инстинкт ненависти и жажды мести соединял нищего и жреца.
— Ты злишься на Фидия, — сказал Диопит.
— Пусть его пожрет хвост адской собаки, надменный негодяй, он постоянно выгонял меня за порог своей мастерской, когда замечал, что я греюсь у его печки. «Ты негодяй Менон», говорил он, «ты урод», ха, ха, ха! Он хочет всегда видеть вокруг себя только олимпийских богов и богинь. Пусть его разобьет молния, его и ему подобных афинян.
— Ты часто бывал в его мастерской, Менон, и, наверное, видел как он работал с золотом, — при этих словах странная улыбка мелькнула на устах жреца Эрехтея. — С золотом, которое афиняне отдали в его мастерскую, чтобы он создал богиню из золота и слоновой кости.
— Конечно! — отвечал Менон, — я видел как он растапливал золото, я видел у него целую кучу блестящего, сверкающего золота…
— Послушай, Менон, все ли золото афинян было растоплено, не осталось ли хотя части его на пальцах тех, через чьи руки оно прошло? — подмигнул Диопит.
При этом вопросе нищий, скаля зубы, поглядел на жреца.
— Ха, ха, ха! — громко рассмеялся он. — Менон умеет прятаться, умеет подсматривать. Я видел как он… думая, что он один… что за ним никто не следит… тайно открывал ящик, в котором сверкало спрятанное… ха, ха, ха… золото… золото афинян… Он запускал в него руки и, когда нечаянно увидал меня, то от злости у него пена выступила на губах… Он вытолкал меня за дверь… он не хотел, чтобы я грелся… Погоди ты, злодей!.. Старый червяк!..
И снова нищий с угрозою поднял руку на Парфенон, словно желая от ненависти к его создателю разрушить и его.
— Послушай Менон, то, что ты говоришь, согласишься ли ты сказать на Агоре, перед всеми афинянами? — заглядывая в глаза калеке, спросил Диопит.
— Перед всеми афинянами… перед двадцатью тысячами собак-афинян… да поразит их чума!..
Уже через час по всем Афинам стали рассказывать об оскорбительных словах, которые Фидий говорил против афинского народа. Рассказывали, как он позорил народное правление, как он презирал свое отечество и расхваливал Элиду, как он желает повернуться спиной к Афинам и в будущем служить только другим. Шепотом прибавляли и о золоте, данном ему из государственной казны, которое не все было истрачено в его мастерской…
Как дурное семя распространялись в народе эти речи, возбуждая ненависть к благородному творцу Парфенона…
Глава IX
Наступил день, когда дело Аспазии должно было рассматриваться гелиастами под председательством архонта Базилика на Агоре.
С раннего утра двор суда был окружен народом. Спокойной и сдержанной, среди всех афинян, была в этот день только сама Аспазия.
Она стояла в верхнем этаже своего дома и смотрела на толпу, собиравшуюся на Агоре. Она была несколько бледна, но не от страха, так как на губах ее мелькала презрительная улыбка.
Перикл поднялся к ней. Он казался бледнее Аспазии, лицо его было очень серьезным. Он молча бросил взгляд на пасмурное небо. Стая журавлей летела от северного Стримона через Аттику и их крики, казалось, призывали дождь.
На улице показалось шествие, состоявшее в основном из пожилых людей, у половины из них были старые плащи и голодный вид, это были гелиасты, которым поручено было рассмотрение дела Аспазии.
— Теперь я знаю, — сказала Аспазия, — что столь восхваляемый, изящный афинский народ ничто иное, как гнездо грубости и даже варварства.
— В мире нет ничего совершенного, — возразил Перикл. — Пора идти, — добавил он, помолчав немного, — пора идти на Агору, в суд, где гелиасты ожидают тебя. Неужели ты не боишься, Аспазия?
— Я гораздо более боюсь дурного запаха от твоих народных судей, чем приговора, который вынесут эти люди. Я еще чувствую в себе то мужество, которое воодушевляло меня перед чернью Мегары и на улицах Элевсина.
Тем временем гелиасты дошли до помещения суда на Агоре. Архонт и несколько подчиненных ему служащих, общественные писцы, свидетели и обвинитель находились уже там.
Перед судебным двором толпился народ, слышались всевозможные речи, суждения и предсказания. Сразу же можно было различить как противников и приверженцев обвиненной, так и людей беспристрастных.
— Знаете почему они обвинили Анаксагора и Аспазию? — говорил один, — потому что они хотят как можно чувствительнее поразить Перикла, но не осмеливаются напасть на него самого, так как, во всех Афинах не найдется человека, который решился бы открыто выступить против Перикла.
— Но разве нельзя было бы, — вскричал другой, грязный, маленький человечек, — потребовать от Перикла, после многолетнего правления, иного отчета чем тот, который он дает? Разве в его отчете не встречаются такие расходы, как например, — «на различные надобности»? Что это значит, позвольте узнать? Разве можно более дерзко бросать народу пыль в глаза? Послушайте только — «на различные надобности»!..
— Это те суммы, — заметил ему один из толпы, — которые Перикл употребляет на подкуп влиятельнейших людей в Пелопонесе, чтобы заставить их не предпринимать ничего дурного против Афин…
— Да! Чтобы они не мешали ему объявить себя афинским тираном, — насмешливо возразил первый. — И если вы думаете иначе, то жестоко ошибаетесь. Перикл уже давно говорит о соединении всей Эллады, потому что ему хотелось бы быть тираном всей Эллады. Его жена, милезианка, впустила ему в ухо червя, который гложет теперь его мозг. Эта гетера жаждет, ни больше ни меньше, — короны, она с удовольствием стала бы царицей Эллады, лавры ее соотечественницы не дают ей покоя.
Между тем, на Агоре, на судебном дворе, уже уселись на деревянных скамьях судьи. Председателем был архонт Базилий, окруженный писцами и слугами.
Место суда было отделено решеткой, за которую впускали только тех, кого вызывал архонт.
Вокруг наружной стороны решетки толпился народ, чтобы присутствовать при судопроизводстве. Напротив скамеек суда на возвышавшихся подмостках находилось место обвиняемой и обвинителя.
На одном из этих возвышенных мест сидел Гермиппос, человек неприятной наружности, маленькие глаза которого беспокойно бегали. На другом сидела Аспазия и рядом с ней Перикл, потому что, как женщина, и тем более как чужестранка, она могла быть введена в суд только афинским гражданином.
Тяжело было видеть прелестнейшую женщину своего времени, супругу великого Перикла, на скамье обвиняемых. То, что Перикл сидел рядом с ней, словно будучи также обвиненным, еще более увеличивало значительность и серьезность происходящего.
Некоторую гордость и важность чувствовали судьи и большинство народа при мысли, что наиболее могущественные люди должны предстать перед их судом.
Наконец, архонт открыл заседание. Он взял с обвинителя присягу, что тот подал жалобу только из желания добиться истины и справедливости. Сами судьи давали клятву поступать по справедливости и беспристрастно. Затем архонт приказал общественному чтецу прочесть сначала обвинения потом — ответ на них, после чего он обратился к обвинителю, требуя, чтобы тот устно подтвердил обвинение.
Гермиппос поднялся. Его речь была полна сарказма; всем казалось, как будто они присутствуют при комическом представлении. Он резкими словами обрисовал поступки Аспазии, которые послужили поводом к его обвинению. В доказательство своих слов Гермиппос выставил многих свидетелей и предоставил письменные показания, очевидцев событий. По его мнению, Аспазия совершила три преступления против религии и верований страны, против государства и его законов и против нравственности.
По его просьбе было прочтено множество законов, доказывавших, что по афинскому праву все эти поступки заслуживают наказания и так как, за большую часть из них наказание — смерть, то Аспазия должна быть приговорена к смерти.
В заключение он в сильном волнении возвысив голос, просил суд защитить и поддержать то, что есть священнейшего в общественной жизни — унаследованные от отцов законы и обычаи, и не дать благочестивым Афинам погибнуть под влиянием школы разнузданности и презрения к законам и богам.
Страстная речь Гермиппоса произвела сильное впечатление на судей, большинство из которых были уже в пожилых летах и происходили из низшего класса Афин, а также на толпу, собравшуюся вокруг решетки и молча слушавшую речь Гермиппоса. Когда он закончил, поднялся легкий говор: «Гермиппос сказал блестящую речь. Его доказательства решительны и точны. На его стороне законы. Голова милезианки должна пасть».
После того как Гермиппос окончил и опустился на свое место, поднялся Перикл. В одно мгновение снова воцарилось глубочайшее молчание. Все с волнением ожидали слов супруга Аспазии.
Перикла трудно было узнать. Не таким был он, когда говорил перед народом на Пниксе, когда поднимался на ораторские подмостки с полным достоинства спокойствием, уверенный в успехе. В первый раз его спокойствие казалось притворным и, когда он начал речь, голос его слегка дрожал.
Он отрицал вину Аспазии, он старался доказать, что только благодаря натяжкам, удалось обвинить Аспазию в преступлении, заслуживающем смерть. Там же, где он не мог отрицать, что буква афинских законов говорит против Аспазии, он указывал на благородные взгляды народа и старался объяснить всем, что Аспазия стремилась только к добру, а стремление к добру никогда не может быть преступно.
Но на этот раз, в доказательствах знаменитого оратора не доставало уверенности и можно было заметить, что его слова не произвели на слушателей сильного впечатления.
Наконец Перикл поступил так же, как и Гермиппос. Он обратился к судьям с обращением, которое, идя от сердца, должно было проникнуть в их сердца. Он сказал:
— Эта женщина — моя супруга и, если она виновна в преступлении в котором ее обвиняют, то я также виновен вместе с нею. Афинские мужи, Гермиппос обвиняет нас в том, что мы портим общественные нравы. Но это неправда! Я не только никогда не хулил богов своей страны, но, напротив, воздвиг им такой роскошный храм, какого до сих пор не было ни на Акрополе, ни в Элевсине. Я не вредил моей стране, но боролся за нее. Я уничтожил могущество олигархов, я дал народу свободу. Я не только не развращал общественные нравы, но, напротив, старался распространить в народе благородное и прекрасное и изгнать все грубое и невежественное. И во всех моих делах эта женщина постоянно поддерживала меня, вдохновляла меня на новые дела. А Гермиппос выступает перед вами и говорит: «Афиняне, предайте ее смерти!»
При этих словах на глазах Перикла выступила слеза.
Слеза Перикла закончила его речь. По знаку архонта выступил вперед один из служителей и начал раздавать судьям черные и белые камешки. Черный цвет означал виновность подсудимого, белый — невиновность. Затем гелиасты встали со своих скамей и, один за другим, начали подходить к урне, бросая в нее то белый, то черный камень.
Первое голосование гелиастов должно было определить виновна, или невиновна Аспазия, второе — в случае признания виновности — относилось бы к выбору наказания.
Наконец, все гелиасты подали голоса; белые и черные камни были тщательно сосчитаны на глазах архонта.
Глаза всех были устремлены на урну, из которой вынимались камни. Количество белых камешков все увеличивалось…
Супруга Перикла была оправдана!
На весах Фемиды тяжелее всех оказалась слеза Перикла!
Едва произнесенное устами архонта оправдание, точно на крыльях разнеслось по всей Агоре.
Аспазия поднялась. Взгляд ее остановился на мгновение на гелиастах и легкая краска выступила на ее лице.
Глава X
— Мирмекид, — говорил один афинский гражданин своему соседу, отправляясь однажды утром на Пникс, — то что мы можем решить сегодня на Агоре, кажется мне, будет иметь дурные последствия для Эллады. Для этого есть множество предзнаменований, но что всего ужаснее это то, что на Делосе, священном Делосе, острове бога Аполлона, никогда до сих пор не подвергавшегося землетрясению… оно произошло и длилось минуту.
— Делос потрясен! — вскричал Мирмекид. — В таком случае в Элладе не осталось более ничего твердого.
— Мегарская собака! — раздались вдруг крики, — мегарская собака! Убить его! Побить камнями.
Громадная кричащая толпа быстро собралась вокруг человека, схваченного несколькими афинянами.
Не первый раз мегарцы бывали биты в Афинах за дурные дела. Еще раньше, чем афинский рынок и гавань были закрыты для соседнего города, многие его граждане были изгнаны. Но негодование и злоба против мегарцев особенно усилились с тех пор, как они варварски убили посланного из Афин глашатая; с того дня афиняне поклялись побивать камнями каждого мегарца, который появился бы в Афинах.
Пойманный умолял пощадить его и клялся всеми богами, что он не Мегарец, а элевсинец.
— Не верьте ему! — кричал тот, что первый схватил его и продолжал держать, не верьте ему — я его знаю. Это мегарская собака!
В это время мимо проходило несколько архонтов. Они, узнав в чем дело, позвали стражу и приказали взять пойманного.
На Пниксе, в стороне от народного собрания, трое мужчин тихо, но с жаром, перешептывались. Это были Клеон, Лизикл и Памфил. Они, очевидно, о чем-то договаривались.
Явились на Пникс и посланные на афинское народное собрание лакедемоняне. Они требовали удовлетворить претензии родственной и союзной им Мегары. Враждебными взглядами обменивались спартанцы и окружавшие их афиняне.
Один олигарх шепнул на ухо другому:
— Чего мы должны желать, войны или мира?
— Трудно решить, что лучше, — пожал плечами его собеседник.
Еще более возбужденный, чем тогда, когда он поднимался на Пникс, сходил с него афинский народ. Через некоторое время на Агоре обсуждали прошедшее народное собрание.
— Я нахожу, что Перикл никогда не говорил так прекрасно! — кричал Мирмекид. — О, это лисица с львиным лицом! Как он спокоен, он делает только вид, что готов на всякие уступки, а сам выставляет такие требования, которые, никогда не могут быть приняты. Как он ловко сказал, что афиняне готовы возвратить своим союзникам полную свободу, только спартанцы предварительно должны сделать то же самое со своими.
— Я предчувствую морской поход! — вскричал цирюльник Споргилос.
— Отчего бы и нет? — раздалось несколько голосов. — Разве тебе не нравится веселое морское путешествие.
— Море всегда горько-соленая вещь, — возразил Споргилос.
— Ешь чеснок, как боевой петух, чтобы сделаться храбрее и задорнее! — крикнул кто-то.
В это время рядом раздавался голос Клеона:
— Я хочу войны, но без Перикла, — кричал он, — война не должна еще более возвысить Перикла. Как мы сможем добиться от него отчета, когда он будет стоять во главе войска? Долой Перикла!
Того же мнения был и Памфил, который даже зашел еще дальше, говоря, что Перикла нужно не только изгнать, но и наказать за его управление и заключить в тюрьму.
Мимо шел старый Кратинос, в сопровождении Гермиппоса и еще одного спутника, юноши, о котором говорили, что он скоро выступит с комедией.
— За мир ты или за войну, старый сатир? — спросил кто-то из толпы, любившего выпить, старика.
— Я, — сказал он, — я за жареных зайцев, за вино, за вкусный стол, за праздники Диониса, за полные бочки, за танцующих девушек.
— В таком случае, ты за мир?
— Конечно. И против того, чтобы мегарцам закрывали афинский рынок. Будьте благоразумнее вы, увенчанные венками афиняне, перестаньте хватать на рынке каждого нищего, воображая, что это переодетый мегарец. С тех пор, как вы изгнали мегарцев с рынка, на нем невозможно найти хорошего жареного поросенка, какого заслуживает старый победитель при Марафоне; скоро дойдет до того, что мы станем есть жареных сверчков! И зачем вы бранитесь из-за войны или мира, разве спартанцы ушли из народного собрания, получив какой-то другой ответ, а не тот, которого желал Перикл? Так пусть же вами и дальше управляет Перикл…
Последние слова задели стоявшего невдалеке Клеона.
— В одном только, — воскликнул он, — Перикл поступил справедливо: это заткнул глотки бесстыдным писакам!
— А, кого я вижу, Клеон! — проговорил Кратинос, — как мог я не заметить его, когда запах кож, которыми он торгует, должен был предупредить меня о его присутствии.
— Старый гуляка! — крикнул Клеон, — недаром про тебя говорят, что ты черпаешь свое вдохновение из бочки.
— А ты, — возразил Кратинос, — не ты ли тот ядовитый человек, про которого рассказывают, что однажды змея укусила его и околела…
Несколько дней спустя после собрания на Пниксе, Сократ вошел в дом Перикла.
Аспазия с радостным воодушевлением говорила о предстоящей войне с дорийцами и с досадой — о разногласиях на Агоре.
— Из-за этих людей, — говорила она, — цвет Эллады скоро завянет.
— Цвет Эллады скоро завянет! — воскликнул Сократ, — разве это возможно? Ты ошибаешься. Давно ли стоя перед оконченным Парфеноном, ты говорила, что Эллада приближается к своему расцвету?
Аспазия сидела с Сократом в роскошно убранном покое, воздух которого был наполнен чарующим ароматом. Ее лицо светилось чарующей веселостью, она казалась в прекраснейшем расположении духа.
Крылатая любимица Аспазии — голубка со сверкающими, белыми перьями, с прелестным голубым ожерельем на шее летала по комнате.
Нередко голубка опускалась на плечо Аспазии, ища обычного лакомства, то садилась на голову Сократа и была так навязчива, что Аспазии несколько раз приходилось спасать гостя от надоедливой птицы. Сократ не помнил, чтобы когда-либо видел Аспазию такой веселой и непринужденной, и чем веселее и непринужденнее она становилась, тем молчаливее, задумчивее делался он. Голубка с воркованьем снова села на голову Сократа, но на этот раз крепко вцепилась в его волосы. Аспазия поспешила ему на помощь, чтобы выпутать когти голубки из волос. Непосредственная близость благоухающего женского тела не могла не волновать Сократа. Грудь красавицы поднималась и опускалась перед самым его лицом, почти под самыми его губами; малейшего движения было достаточно, чтобы прикоснуться к этим чудным волнам. Ни одна морская волна не движется так лукаво, не грозит такой опасностью, как грудь женщины. Губы Сократа были так же близки от груди Аспазии, как некогда в лицее — от ее розовых губок. Одно малейшее движение и снова, воспламененный Сократ, перенес бы позор, еще более оскорбительный, чем прежде, но он спокойно поднялся и сдержанно сказал:
— Оставь голубку, Аспазия, я думаю, что недорого заплачу мстительной птице, если оставлю в ее когтях лишь прядь своих волос.
Какой демон, какой лукавый Эрот руководил птицей? Теперь она схватилась когтями за то место, где пряжка удерживала на плече Аспазии узкие полы хитона. Птица дергала ногой, чтобы освободиться до тех пор, пока пряжка не расстегнулась и упавшая ткань не обнажила прекрасного тела красавицы.
— Принеси эту птицу в жертву Харитам, — сказал Сократ, — набрасывая свой плащ на красавицу и вышел.
Гордая милезианка побледнела. С волнением, дрожащей рукой, схватила она серебряное зеркало и в первый раз испугалась выражения своего лица.
Неужели красота перестала быть всепобеждающей?
Глава XI
Юный Алкивиад был в восторге, когда, наконец, его желание сразиться за греческую честь, было исполнено и ему, так же как и Сократу, выпало принадлежать к числу граждан, которых посылали на осаду, отпавшего от Афин, города Потидайи.
Алкивиад все еще продолжал свой безумный образ жизни и постоянно давал обильную пищу для сплетен афинянам. Он основал так называемое общество Итифалийцев, в котором собирались избраннейшие молодые люди, чтобы вместе предаваться разнузданной веселости. Как и можно было ожидать от общества, принявшего свое название от имени Итифалоса, уже посвящение в это общество было шутовским и неприличным. Принимались в него только те, кто доказывали, что они достаточно послужили в честь Итифалоса.
В насмешку над афинскими обычаями, воспрещавшими утренние попойки, Алкивиад со своими товарищами устраивал утренние кутежи. Не зная предела в своей дерзости, он даже заказал живописцу нарисовать себя сидящим на коленях молодой гетеры и все афиняне сбегались посмотреть на картину.
У него была собака, которую он очень любил и называл Демоном и было забавно слышать, как он, точно Сократ, говорил о своем демоне. И если сын Кления никогда не останавливался перед тем чтобы поднять на смех Сократа, то ничто также не удерживало его от того чтобы называть этого человека, перед всем светом, своим лучшим другом. Действительно, он продолжал еще быть привязан к задумчивому мечтателю и философу, хотя тот, очевидно, не имел никакого влияния на его поступки.
Когда Алкивиад отправился к Потидайи, у него был щит отделанный слоновой костью и золотом, а на щите изображен Эрот, вооруженный стрелами Зевса. Эрот, вооруженный стрелой громовержца! Блестящая мысль, достойная эллинского ума.
В Афинах была женщина, страшно огорченная, когда Алкивиад собирался оставить город — женщина, которая долго не знала ни горя, ни любви, которая презирала не только цепи Гименея, но и узы Эрота, женщина, которая говорила о самой себе: «я жрица веселья, а не любви». Этой женщиной была Теодота. Юный Алкивиад смотрел на нее, как на свою наставницу на пути наслаждений. Его тщеславию льстило, что он обладает если не красивейшей, то известнейшей гетерой в Афинах. Теодота также гордилась тем, что пленила Алкивиада, и это увеличивало ее славу…
Алкивиад ни с кем не любил проводить время, как с черноокой коринфянкой, водил своих друзей в веселый дом Теодоты, и ее веселость, не менее чем ее красота, оживляли пиры Алкивиада. Но Теодота мало-помалу сделалась не так весела, какой была вначале своих отношений с Алкивиадом. Юноша был слишком хорош, чтобы женское сердце, хотя и никогда еще не любившее, не было тронуто этой красотой. Сначала она мало беспокоилась о том, что ее юный друг, кроме нее улыбается еще и другим женщинам — гетерам. У нее и самой в доме были веселые и очаровательные приятельницы. Но скоро Алкивиад, не без недовольства начал замечать, что поведение коринфянки все более и более изменяется. Она начала казаться задумчивой и серьезной, часто вздыхала, ее веселость стала искусственной. Часто она страстно обнимала юношу, как бы желая удержать его при себе навсегда. Слезы примешивались к ее поцелуям и, когда Алкивиад при ней был любезен с другой женщиной, она бледнела и губы ее дрожали от ревности.
Эта перемена характера Теодоты не нравилась веселому и легкомысленному юноше: вся прелесть, все очарование Теодоты пропало — она стала казаться ему только скучной. В те минуты, когда она предавалась ревнивым упрекам, он выходил из себя. Она клялась, что любит его, что будет принадлежать только ему одному, а он был совершенно к этому равнодушен.
Когда Алкивиад отправился в лагерь при Потидайи, он благодарил богов, что, наконец, избавился от этой женщины.
Маленькое государство не может иметь большого сухопутного войска, а скорее может иметь хороший флот. В таком положении были и афиняне, когда спартанский царь, Архидам, с шестьюдесятью тысячами пелопонесцев, напал на Аттику; союзники могли оказать помощь Афинам тоже только на море.
В то время как флот готовился, народ, гонимый нашествием Архидама, бежал в город. Все пространство между городом и Пиреем было заполнено беженцами и там раскинулся настоящий палаточный город, бедные размещались даже в громадных бочках, которые употреблялись для вина.
С городских стен можно было видеть сторожевые огни пелопонесцев, расположившихся на полях и покрытых виноградниками холмах, но, благодаря укреплениям, возведенным усердием Перикла, город был надежно защищен от нападения. Верный своему плану Перикл выслал из ворот города только конницу для присмотра за стенами.
Когда Архидам, с вершин Аттики, увидел гордый флот из сотни судов, выступивших из Пирея и направлявшихся к Пелопонесу, случилось то, что заранее предвидел Перикл: имея перед собою сильно укрепленный город, и в то же время думая о незащищенных городах своей родины, предоставленных врагу, пелопонесцы оставили Аттику.
Пока пелопонесцы не оставили родной земли, Перикл не мог лично командовать флотом, так как его присутствие было необходимым в Афинах. Когда же спартанцы покинули окрестности Афин, Перикл сейчас же выступил с маленьким, но прекрасно вооруженным войском, против Мегары: возбужденные афиняне требовали свести счеты с ненавистным городом; к тому же отсутствие Перикла в Афинах для многих было весьма желательно. Совы на Акрополе проснулись в своих темных углах, змеи зашевелились…
Менон помогал Диопиту привести в исполнение давно задуманный план: погубить Фидия. Один сикофант по имени Стефаникл, по наущению Диопита, выступил обвинителем Фидия. В своем дерзком обвинении он утверждал, что Фидий из золота, данного ему для создания статуи Афины, оставил часть себе. Затем он упрекал его в том, что он нарушив обряды почитания богов и их святынь, изобразил на щите богини, в борьбе амазонок, себя самого и Перикла. В свидетели похищения золота он выставлял Менона. Последний часто бывал в мастерской Фидия и утверждал, что он однажды подсмотрел, как Фидий, откладывал в сторону часть золота, предназначенного для Парфенона, очевидно, с намерением присвоить это золото себе.
Уже давно посеянная Диопитом клевета против Фидия дала на этот раз обильные плоды и обвинения Стефаникла, нашла в афинском народе хорошо подготовленную почву: скульптор был брошен в темницу.
Вслед за Диопитом воспользовались отсутствием Перикла и другие, чтобы увеличить свое влияние на народ.
Во время приближения к городу пелопонесского войска, количество простого люда сильно увеличилось в Афинах и многие, после отступления Архидама, продолжали оставаться в городе, так как их деревенские дома были разрушены. Эта голодная толпа усердно посещала народное собрание, потому что получала там на каждого по два обола.
Собрания на Пниксе были многочисленнее и шумнее чем когда-либо. Клеон, Лизикл и Памфил говорили все чаще и чаще и афинский народ привыкал видеть на ораторских подмостках подобных людей. Из этих троих, Памфил был решительнее остальных и полагал, что следует попытаться свергнуть Перикла.
Однажды он стоял на Агоре, окруженный большим числом афинских граждан и объяснял им за что можно обвинить Перикла. Он называл его трусом, который дозволил врагу разорить родную страну, который тиранически предписал гражданам, каким образом они должны защищаться, что все время, пока пелопонесцы занимали Аттику, на Пниксе не было ни одного народного собрания…
В толпе нашлось немало людей, согласных с мнением Памфила; в особенности возбужден был некто Креспил, превосходивший даже Памфила в ненависти к Периклу и требовавший немедленного его обвинения, как вдруг к толпе подбежал цирюльник Споргилос.
— Хорошая новость! — прокричал он издали. — Перикл возвращается обратно из Мегары! Он с войском стоит уже в Элевсине. Он порядочно наказал мегарцев и сегодня будет вступать в Афины.
Памфил позеленел от досады.
— Нечего сказать, хороша новость! — пробормотал он, — отсох бы у тебя язык за твою новость, собачий ты сын!
На заговорщиков это известие произвело подавляющее впечатление и, хотя Памфил продолжал стараться возбудить толпу, но народ мало-помалу отходил от него, так как каждый не без основания полагал, что нелегко устроить что-нибудь против возвращающегося с победой Перикла.
Глава XII
С особенным блеском, с особенным оживлением, по окончании военных действий, были отпразднованы в Афинах зимние праздники, но веселее всего был наступивший с весною праздник Диониса. Холмы Гиметта, Пентеликоса и Ликабета покрылись свежей зеленью фиалок, анемонов и крокусов и пастушеский посох, забытый с вечера на дворе, к утру покрывался цветами.
В гавани царило оживление, поднимались якоря, надувались паруса, новая жизнь пробуждалась в волнах залива. Посланники союзных городов и островов привезли в Афины дань к празднеству; во всех гостиницах, во всех домах афинских граждан, были приехавшие издалека гости; украшенные венками, в праздничных костюмах с раннего утра двигались по улицам толпы граждан и чужестранцев. Статуи и алтарь Гермеса украсились не одними цветами, около них ставились громадные бочки с вином в дар Дионису.
Гиппоникос снова угощал своих и чужих в Керамике, приглашая к себе всех, кто только хотел. Забыта была война; споры на время успокоились, всюду царствовало веселье и мир, всюду слышался веселый смех, шутки становились вдвое острее, вдвое быстрее двигался язык афинян.
На улицах Афин появилось много прекрасных женщин. Кто эти веселые, богато разодетые, очаровательные красавицы? Это жрицы из храма Афродиты в Коринфе и из других храмов, которые собираются в Афины со всей Греции на веселый праздник Диониса.
С наступлением темноты веселье на улицах становится все разнузданнее; ночные гуляки ходят повсюду с факелами в руках, в обществе женщин, одетых в мужские костюмы и мужчин в женских платьях. Многие пачкают себе лицо виноградным соком или же закрывают его листьями, некоторые в красивых, раскрашенных масках.
Вот идет рогатый Актеон, дальше виднеется стоглазый Аргус, гиганты, титаны, кентавры кишат на улицах, но больше всего козлоногих сатиров и плешивых силенов, головы которых украшены вечно зеленым плющом. Немало также и вакханок, которые часто, вместо тирса, держат в руках виноградную ветвь, увитую плющом.
Веселость и даже опьянение считается обязательными в эти дни и ночи, и бог оправдывает в это время свое прозвание освободителя: даже узников выпускают из тюрьмы на дни празднеств, даже мертвым наливают на могилы вино, желая успокоить тени, которые, конечно, не без зависти глядят на веселье живых. Кроме того, говорят, что души мертвых часто в это время тайно смешиваются с веселой толпой, и что под многими масками скрываются мертвые…
В эти дни прилежно собирают листья подорожника и мажут дегтем двери, чтобы отвратить несчастье, которое, во время празднеств Диониса, угрожает живым со стороны завистливых теней. В самом деле, — страшновато видеть, как ночью, там и сям, на темных улицах, мелькает свет факелов и с шумом двигаются фантастические процессии.
К театру идет по улице одно из таких шествий, несут изображение Диониса, чтобы поставить его среди праздничного собрания. Принесенная скульптура — вновь созданное произведение, вышедшее из-под резца Алкаменеса.
На перекрестках и на площадях шествие останавливается, чтобы принести жертву.
Плоские крыши домов полны мужчинами и женщинами, многие из которых держат в руках факелы и лампы; часто зрители сверху обмениваются шутками с двигающейся внизу толпой.
Юный Алкивиад превосходил самого себя во всевозможных шутках и проделках, двигаясь во главе своего общества.
— Помните, — кричал он своим собратьям, — что мы, всегда безумствующие и шумящие, на празднестве Диониса должны вдвое шуметь и бесноваться, если не желаем быть превзойденными простыми афинскими гражданами!
Когда наступила ночь, он приказал нести перед собою факелы и повел своих сотоварищей к домам красивых девушек и юношей, чтобы петь им песни. Большинство музыкантов были одеты в костюмы менад и, так как приветствуемые музыкой также присоединялись к, шествию, то оно все росло, увеличивая толпу вакханок, окружавших бога Диониса.
Наконец, пьяный Алкивиад с молодой гетерой, по имени Бакхиза, называя ее своей Ариадной, а себя — Вакхом, пришел к дому Теодоты, приказал сыграть серенаду и вошел к ней со своей свитой.
Теодота уже давно не принимала у себя Алкивиада, теперь она снова видела любимого ею юношу, но как неприятно, как тяжело ее сердцу его появление — он явился пьяный, во главе шумного шествия. Она простила бы это, но он привел с собой юную, цветущую гетеру, которую представил своей бывшей подруге, как Ариадну и прелести которой начал усердно расхваливать.
В доме Теодоты устроили пирушку, против которой она не осмеливалась открыто возмутиться. Алкивиад требовал, чтобы она была веселой, непринужденной. Пьяный, он начал рассказывать о шутках, проделанных им в этот вечер и хвастался, что в толкотне поцеловал одну молодую девушку, расхваливая обычай, который, хоть во время празднества Диониса, позволял повеселиться афинским женщинам. Он говорил о Гиппарете, прелестной дочери Гиппоникоса, о ее тайной страсти к нему, о ее смущении, смеялся над ее сконфуженным, девственно скромным обращением. Он говорил также и о Коре, как о самом смешном создании на свете. После этого он начал бранить Теодоту за ее молчание и нахмуренный вид.
Теодота не смогла удержать слез. Она отвечала ему упреками, называла его неверным и безжалостным…
Устав слушать упреки Теодоты, Алкивиад сказал, обращаясь к пирующим.
— Идемте, друзья! Мне здесь скучно. Прощай, Теодота!
Испуганная этим, Теодота обещала осушить слезы и поступать так, как он пожелает.
— Давно бы так! — сказал Алкивиад. — В таком случае, продемонстрируй нам свое искусство.
— Что должна я станцевать? — спросила Теодота.
— Мучимая ревностью, ты сейчас похожа на Ио. Покажи нам, украшенное искусством, то же, что ты показывала нам в грубой, некрасивой действительности.
Молча приготовилась Теодота танцевать Ио. Она танцевала под звуки флейты историю дочери Инаха любимой Зевсом и за это преследуемой Герой, которая приказала ее связать и поручила сторожить стоглазому Аргусу, а после пославшей слепня преследовать ее всюду. С ужасающей правдивостью Теодота передавала безумие преследуемой: глаза выступили из орбит, грудь тяжело поднималась, полуоткрытые губы покрылись пеной, ее движения были так дики и порывисты, что Алкивиад с испугом бросился к ней, чтобы положить предел этому разнузданному безумию.
Она упала от усталости, испуская громкие, безумные крики. Ужас охватил Алкивиада и его друзей; они предоставили несчастную женщину рабыням и бросились из дома Теодоты на улицу, где шумный праздник Диониса увлек их в свой водоворот…
На следующий день предстояло еще одно шествие, теперь уже со старым изображением Диониса, перевезенным в Афины из Элевтеры. Каждый год, на больших празднествах Диониса, это изображение уносилось на короткое время в маленький храм, под стенами города. Многочисленно и роскошно, как никогда, было громадное шествие, составлявшее на этот раз праздничную свиту.
На всех улицах, по которым проходило шествие, на всех террасах, на крышах, с которых смотрели на него, толпилось множество зрителей в праздничных одеждах, украшенных венками фиалок.
На Агоре шествие остановилось перед алтарем двенадцати олимпийских богов и здесь мужской и детский хор спели дифирамб, сопровождаемый танцами.
Едва смолкли эти звуки и шествие двинулось дальше, как внимание афинян привлекла удивительная сцена: в Афины вступили жрецы Цибеллы, старавшиеся возобновить мистический культ Орфея. Эти жрецы проповедовали могущественного спасителя мира, через которого человечество освободится от всякого зла и смертные примут участие в небесном блаженстве. Они ходили по улицам с изображениями своего бога и его матери, которые они носили под звуки цимбалов, сопровождаемых танцами, во время которых впадали в безумие. Они странствовали повсюду, продавая целебные средства и предлагали за деньги смягчить гнев богов, и даже вымолить прощение умершим за сделанные при жизни преступления и освобождать их от мук тартара. Они были посредниками между божественной милостью и смертными.
Дух эллинов не особенно противился этому учению, и там и сям оно начинало пускать корни и никто не смотрел на попытки перенести этот мрачный мистический культ в веселую Элладу, с большим огорчением, за исключением Аспазии, она, всеми средствами, старалась бороться против него.
Веселому Алкивиаду мрачный культ был непонятен и внушал такой же ужас, как и Аспазии.
Во время празднества Диониса, эти странствующие проповедники, надеясь использовать благоприятный случай приобрести сторонников своему богу, ходили в толпе, украшенные ветвями тополей, неся в руках змей, которых поднимали над головами и танцевали под звуки цимбалов и тимпанов свой безумный, так называемый сикиннийский танец. При этом они ударяли себя ножами и ранили до крови.
Один из них собрал вокруг себя большую толпу народа и проповедовал, с резкими жестами и громкими восклицаниями, свое учение. Он говорил о тайном посвящении и о высшем, наиболее угодном его богу деле, самоуничтожении.
В то время, как народ слушал жреца, мимо проходили пьяные итифалийцы. Они услышали чужого проповедника, говорящего о самоуничтожении.
— Как! — воскликнул Алкивиад, — среди празднества Диониса, осмеливаются говорить о самоуничтожении! Нет, такие слова не должны раздаваться на эллинской земле пока существует хоть один итифалиец!
Сказав это, он бросился с толпою пьяных юношей на проповедника и бросил его в пропасть.
Между вакханками, окружавшими праздничное шествие, находились и воспитанницы Аспазии. Кору, хотя она и сопротивлялась, также увлекли за собою ее веселые подруги, прикрыв ей лицо маской вакханки.
Алкивиаду казалось большим счастьем, что Кора находилась в числе вакханок; конечно, по красоте она далеко уступала своим подругам, к тому же была нелюбезна, но ее чудная серьезность все сильнее разжигала его страсть. Из-за Коры он следовал за воспитанницами Аспазии со своими спутниками в маске сатира.
Шутя, смешались сатиры с толпой вакханок. Вдруг, в одном уединенном месте, Алкивиад и его приятели набросились на девушку. Но в сердце Коры проснулось то же мужество, с каким некогда, обратила она в бегство нападавшего на нее сатира, она вырвала у одной из своих подруг горящий факел и сунула им прямо в лицо Алкивиаду, его маска вспыхнула, что привело его в замешательство. Воспользовавшись этим, Кора с быстротою спасающейся лани, бросилась бежать и вскоре бесследно исчезла из глаз своих преследователей. Не останавливаясь, с сильно бьющимся сердцем, бежала она по улицам к дому Аспазии.
Если Кора чувствовала себя неуютно в среде вакханок, то молодому Манесу, приемному сыну Перикла было не по себе в толпе сатиров. Его также, почти заставили надеть маску, он также, почти против воли последовал в толпу за Ксантиппом и Паралосом. Не веселым, а страшным, казалось ему окружавшее его празднество.
— Берегитесь, — говорили некоторые вокруг него, — этот задумчивый сатир подозрителен. Уже много раз на Дионисии прокрадывались в таких масках завистливые тени из подземного мира. Сорвите с него маску. Кто знает, какое ужасное лицо увидим мы под нею?
Мысли юноши начали мешаться, голова у него болела. Он силой вырвался из толпы и свернул в сторону. Придя домой, он незаметно прокрался на террасу, которая была совершенно пуста, там он опустился на маленькую скамейку, снял с лица маску и задумался.
Долго сидел Манес, задумчиво глядя в землю, как вдруг перед ним появилась Аспазия.
Хозяйка дома посмотрела на его огорченное лицо, затем ласково сказала:
— Отчего это, Манес, ты так упорно отказываешься от развлечений, свойственных твоему возрасту? Неужели в своей крови ты не чувствуешь ничего, что влечет других наслаждаться прекрасной, короткой юностью?
Манес смущенно опустил глаза и ничего не отвечал.
А в это время в пустом перистиле одиноко сидела Кора. Возвратившись с празднества, она тихо укрылась тут сняв маску вакханки.
Так сидела она, погруженная в глубокую задумчивость, когда Перикл, случайно возвратившись в дом, проходил по перистилю.
Увидев девушку, он подошел к ней и спросил о причине такого раннего возвращения без подруг.
Кора молчала. Взглянув ей в лицо, Перикл сказал:
— Я не помню, чтобы когда-нибудь видел вакханку с таким печальным лицом.
Кора подняла глаза на Перикла и поглядела на него еще печальнее чем прежде. В этом детском выражении лица, в ее удивительной впечатлительности было что-то, возбуждавшее симпатию. Женственная прелесть выступила перед ним в новом, неожиданном образе. То, что он видел в Коре, было что-то отличное от того, чем до сих пор восхищался, и что любил. Чувство, пробуждаемое в нем девушкой было также ново и странно, как и она сама.
Он положил руку ей на голову, поручая покровительству богов, и сказал:
— Не пойти ли нам к Аспазии?
Узнав от раба, что Аспазия поднялась на террасу, он дружески взял девушку за руку.
В то же самое время, когда Перикл положил руку на голову пастушки, рука Аспазии почти с материнской нежностью прикоснулась к темным кудрям Манеса. Она со спокойной улыбкой приветствовала Перикла, когда он подошел к ней, ведя за руку девушку.
— Я привел к тебе печальную Кору, — сказал Перикл Аспазии, — она, мне кажется, не менее чем Манес нуждается в утешении.
Приблизившись Перикл заметил взгляд, который бросила Аспазия на юношу. Оставив Манеса и Кору вместе, супруги отошли в отдаленный угол террасы, где между цветами стояла скамья. Здесь они рассказали друг другу в каком настроении они застали своих воспитанников. Затем Перикл сказал:
— Я видел, ты пыталась рассеять печаль юноши.
— И это наводит тебя на мысль, что он может мне нравиться? Нет, он почти урод, его плоское лицо оскорбляет мой эстетический вкус — но мимолетное участие наполнило мое сердце. Может быть, это сострадание…
Плоская крыша была превращена Аспазией в садовую террасу. Для защиты от солнца на ней были устроены беседки, а в сосудах, наполненных землей, росли цветущие кусты.
Эти кусты скрывали Перикла и Аспазию от молодых людей, увлеченных разговором.
До сих пор они никогда не замечали, чтобы Манес и Кора разговаривали друг с другом, или искали общества друг друга. Они всегда вели себя по отношению один к другому так же сдержанно, как и ко всем остальным.
Кора рассказывала юноше о своей родине, о прекрасных горных лесах, о боге Пане, о черепахах, об охоте на диких зверей.
— Ты очень счастливая, Кора, — сказал он, — счастливая тем, что так все ясно помнишь. Я же не могу припомнить ничего о своей родине и детстве, только во сне я часто переношусь в дремучие леса, вижу людей, одетых в звериные шкуры, скачущих на быстрых конях. После таких снов я целый день бываю печален, я страдаю тоской по родине, хотя даже не знаю, где она. Я знаю только то, что должен идти к северу и мне часто также снится, что я иду на север, все время на север. Ты наверное огорчена, Кора, что не можешь возвратиться к себе на родину, которую ты так хорошо знаешь, и к твоим родным, ведь ты так легко могла бы их найти.
Кора задумчиво опустила глаза и, помолчав немного, сказала:
— Я не знаю, почему, Манес, но я также охотно отправилась бы на север, как и в Аркадию, если бы мы отправились вместе. Мне кажется, что повсюду, куда бы мы с тобой ни направились, всюду для меня была бы Аркадия.
При этих словах девушки, Манес покраснел, его руки задрожали как всегда, когда он сильно волновался. После некоторого молчания, он произнес:
— Но, конечно, Кора, ты предпочла бы отправиться в Аркадию к своим, я охотно буду сопровождать тебя и сделаюсь пастухом, и мне также кажется, что повсюду, куда я ни сопровождал бы тебя, я найду родину…
Он вдруг замолчал и еще более покраснел.
С улицы донесся громкий шум от проходившей мимо толпы вакханок. Сверкали факелы, слышалось веселое пение и громкие восклицания, а наверху юноша и девушка молча и в смущении стояли друг против друга, не осмеливаясь первым протянуть руку.
— Они любят друг друга, — сказал Перикл Аспазии, — они любят друг друга, но, не плотской земной любовью, они говорят только о жертвах, которые готовы принести друг другу.
— Да, они любят друг друга такой любовью, которую могли придумать только Манес и Кора. Любовь заставила их потерять всякую веселость, они бледны и печальны, и хотя знают, что любят и любимы, но не наслаждаются своей взаимной любовью, даже не осмеливаются поцеловать друг друга.
Вечером того же дня у Перикла собралось небольшое общество. В числе гостей были Каллимах с Филандрой и Пазикомбсой.
На этот раз гости собрались не в столовой, а в открытом, обширном перистиле, при свете чудной, весенней ночи.
Перикл по обыкновению рано удалился. Вдруг появился Алкивиад с несколькими друзьями.
При его появлении, Кора с испугом сейчас же убежала. Когда Алкивиад заметил это, он решил не отходить от прелестной Зимайты, но та гордо оттолкнула его. Она презирала его с той минуты, когда он унизился настолько, что в своем любовном безумии проявил по отношению к Коре насилие. Остальные девушки так же его порицали.
Долго старался он примириться с разгневанными, но напрасно.
— Ах, так! — воскликнул он, — Кора убежала от меня, Зимайта поворачивается ко мне спиной, вся школа Аспазии глядит на меня сердито и хмурит лоб, как старый Анаксагор, хорошо же! Если вы все меня отталкиваете, то я обращусь к прелестной Гиппарете, очаровательной дочери Гиппоникоса.
— Сколько угодно, — сказала Зимайта.
— Я это сделаю! — вскричал Алкивиад, — ты не напрасно бросаешь мне вызов, Зимайта. Алкивиад не позволит с собою шутить. Завтра, рано утром, я отправлюсь к Гиппоникосу и буду просить руки его дочери. Я женюсь, сделаюсь добродетельным, откажусь от всех безумных удовольствий, и употреблю свое время на то, чтобы покорить Сицилию и заставить афинян плясать под мою дудку.
— Гиппоникос не отдаст тебе своей дочери! Он считает тебя великим негодяем, — заявил юный Каллиас, поддерживаемый присутствующими.
— Гиппоникос отдаст за меня свою дочь! — спорил Алкивиад, — отдаст даже, если бы я непосредственно перед этим дал ему пощечину — хотите держать со мною пари? Я дам Гиппоникосу пощечину и вслед за тем буду просить руки его дочери и он отдаст мне ее!
— Ты хвастун! — закричали друзья.
— Ставлю тысячу драхм, если согласны.
— Идет! — приняли предложение Каллиас и Демос.
— Отчего же мне не сделаться добродетельным, — продолжал Алкивиад, — когда вокруг меня я вижу так много печальных предзнаменований: достаточно того, что Кора убежала от меня, Зимайта отказывается говорить со мной, Теодота сошла с ума, я должен был перенести измену моего старейшего и лучшего друга, который женился.
— О ком ты говоришь? — спросили гости.
— О ком же другом, как не о Сократе, — отвечал Алкивиад.
— Как! Сократ женился? — спросила Аспазия.
— Да, — сказал Алкивиад, — он втихомолку женился и теперь его нигде не видно.
— Как это случилось? Я ничего не слышала об этом.
— Недели две тому назад, я стоял на одной из уединенных улиц, разговаривая с приятелем, вдруг отворилась украшенная цветами дверь и из нее показалось шествие музыкантов и певцов, с факелами в руках и венками на головах. За шествием следовала невеста под покрывалом, шедшая между женихом и ее посаженным отцом. Все трое сели в стоявшую перед домом, запряженную мулами, повозку. Затем вышла мать невесты с факелом, которым она зажигает огонь в очаге молодых, за ней следовали остальные гости. Повозка тронулась и направилась по улице к дому жениха, сопровождаемая музыкой, пением и веселыми выкриками. Жених был никто другой, как Сократ, а посаженный отец его невесты — ненавистник женщин, Эврипид.
— А невеста? — спросили гости.
— Она — дочь простого человека, но сейчас же забрала бразды домашнего управления в железные руки и сумеет прекрасно вести хозяйство на то немногое, что Сократ унаследовал после отца. Старый мир, кажется, хочет разрушиться: Сократ женился, Теодота сошла с ума, прибавьте к этому, что в Эгине и в Элевсисе, как говорят, произошло несколько случаев чумы, которая уже давно свирепствует на египетском берегу. Сегодня на Агоре заметили подозрительную маску, под которою, как говорят, скрывался Танатос или чума, или что-нибудь еще ужаснее в этом роде. Если еще и я женюсь на дочери Гиппоникоса, то эллинское небо станет пепельного цвета. Но сегодня еще будем веселиться, клянусь Эротом с громовой стрелой! Начнем веселую войну против скучного могущества, которое угрожает победить нас! Будем смеяться над всеми предзнаменованиями и, если бы веселость исчезла во всей Элладе, то пусть ее найдут в этом кругу! Не прав ли я, Аспазия?
— Ты прав, в борьбе против всего скучного, мы твои союзники, — ответила Аспазия.
Аспазия приказала подать новые кубки, которые были быстро осушены и снова наполнены. Возбужденные духом Диониса веселые шутки, смех и пение раздались в перистиле.
Наступила полночь.
Вдруг внутренняя дверь в перистиль отворилась и из нее медленно, как привидение, с закрытыми глазами, появился Манес: странная болезнь подняла его с постели.
При виде бродящего с закрытыми глазами Манеса, веселость гостей исчезла. Все с ужасом, молча смотрели на призрачного посетителя…
Пройдя через перистиль, он направился к лестнице, которая вела наверх на плоскую крышу дома.
Когда прошел испуг Алкивиад воскликнул:
— Так наказывает Дионис тех, кто противится его веселому культу! Пойдемте за этим ненавистником богов, мы разбудим его и силой заставим принять участие в нашем пиршестве.
При этих словах большая часть присутствующих бросилась на крышу дома.
Когда они поднялись, то их взглядам представилось зрелище, снова повергшее их в ужас: Манес шел по карнизу, с закрытыми глазами, рискуя каждую минуту упасть.
Позвали Перикла. Он также был испуган, увидав юношу и сказал:
— Если он проснется в это мгновение, то ему нет спасения, а, между тем, приблизиться к нему невозможно.
В ту минуту на крыше появилась Кора.
Страшно испуганная, бледная, как смерть, с широко раскрытыми от страха глазами, смотрела она на Манеса. Услыхав слова Перикла, она вздрогнула, затем, бросилась к тому месту, где был Манес. Твердо сделала она несколько шагов по опасному пути и, схватив юношу за руку, быстро повела его за собою до тех пор, пока не почувствовала под ногами твердой почвы.
Все присутствующие с изумлением следили за ними.
— Как я сожалею, — сказал Перикл, — что Сократ не был свидетелем этой сцены.
— Почему ты об этом жалеешь? — спросила Аспазия.
— Он, может быть, наконец-то узнал, что такое любовь.
Аспазия молчала, внимательно следя за выражением лица Перикла, затем сказала:
— А ты?
— Я?.. Меня смущает эта пара, мне кажется, как будто они хотят сказать: «сойдите вы со сцены — уступите нам место!»
Несколько мгновений глядела Аспазия в серьезное и задумчивое лицо Перикла, затем сказала:
— Ты более не грек!
Немногочисленны были слова, которыми они обменялись, но многозначительно и тяжело упали они на чашу весов судьбы. Они произвели нечто вроде тайного разрыва между двумя возвышенными, некогда столь прекрасными и во всем согласными существами.
Вместе со словами: «ты более не грек!», Аспазия бросила на Перикла полунегодующий, полусострадательный взгляд и отвернулась.
Оба молча спустились вниз, Перикл — к себе, Аспазия — обратно к гостям.
Разговор между гостями некоторое время шел о Коре: все удивлялись ее мужеству или, лучше сказать, замечательной силе страсти, под влиянием которой она действовала.
— Каким поучительным, — сказал Алкивиад, — было бы это происшествие для нашего мудреца и искателя истины. Он сам — нечто вроде лунатика — лунатика философии, который закрывает глаза, чтобы лучше думать и таким образом попадает на недосягаемые вершины. Только у него нет Коры, которая могла бы своей мягкой рукой спасти его от пропастей мысли. Я пойду к нему и расскажу всю эту историю, хотя посещать Сократа в его доме почти опасно, так как юная Ксантиппа всегда боится, что я испорчу ее мужа и постоянно глядит на меня неблагосклонным взглядом.
Когда я посетил новобрачных с несколькими друзьями, мы привели ее в сильное смущение, и она рассыпалась в жалобах и восклицаниях, что не в состоянии достойно принять таких знатных людей как мы. «Оставь, сказал ей Сократ, — если они хорошие люди, то будут довольны, если же дурные, то не будем о них заботиться». Но такими речами он только еще более раздражает Ксантиппу…
— Разве мы нуждаемся в таких историях, — воскликнул юный Каллиас. — Клянусь Гераклом, мы устроили нынче праздники как никогда, кажется мы вели себя так, как можно было ожидать от веселых итифалийцев и разве вся афинская молодежь не стоит за нас? Разве были в Афинах когда-нибудь более веселые праздники Диониса как нынче? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы народ так веселился? Разве вино не течет рекою? Разве когда-нибудь бывало больше юных девушек? Разве бывало когда-нибудь в Афинах такое множество жриц веселья? Что ты говоришь о мрачных предзнаменованиях, Алкивиад, напротив, нынче веселые времена. Мир стремится к веселью, что бы ему ни угрожало, мы будем становиться веселее.
— Да здравствует веселье! — воскликнули все, и кубки снова зазвенели.
— А для того, чтобы вечно жило и увеличивалось веселье итифалийцы должны соединиться со школой Аспазии, — предложил смеясь Алкивиад, — на нас и на этой школе, как на твердом основании, только и может покоиться веселье. Не сердитесь на меня, Зимайта, и ты Празина, и ты Дроза. Улыбнись Зимайта, сегодня ты прекраснее, чем когда-либо. Клянусь Зевсом, за одну улыбку твоих прелестных уст, я готов потерять тысячу драхм и заставить еще немного подождать дочку Гиппоникоса!
Все обратились к Зимайте, упрашивая ее помириться с Алкивиадом.
— Не сердись на Алкивиада, — сказала Аспазия. — Говоря, что школа Аспазии должна быть в дружбе с его итифалийцами, он, может быть, и прав, но только в том случае, если разнузданность итифалийцев будет сдерживаться в границах женскими руками. Мы должны принять в свою школу этого итифалийца, чтобы научить его прекрасной сдержанности во всем, чтобы не дать погибнуть веселому царству радости среди мрачного и грубого.
— Мы отдаемся тебе! — воскликнул Алкивиад, — и выбираем Зимайту царицею в царстве радости.
— Да, да, — раздалось со всех сторон, — итифалийцы не имеют ничего против того, чтобы их сдерживали такие прелестные ручки.
С веселым смехом была избрана Зимайта царицей радости и веселья. Для нее устроили прелестный, украшенный цветами, трон, накинули на нее пурпурный плащ, надели на голову золотую диадему и обвили гирляндами из роз и фиалок. Сияя прелестью молодости и красоты, она казалась настоящей царицей, даже Аспазия с восхищением смотрела на нее.
Кубки снова были наполнены и осушены в честь сияющей царицы веселья.
— Под властью такой царицы, — восклицали юноши, царство веселья распространится по всей земле.
— Каллиас и Демос, берите вашу тысячу драхм! — возбужденно крикнул Алкивиад, — я проиграл, я не пойду завтра к Гиппоникосу. Предводитель итифалийцев заключает новый союз с царицей красоты и радости. Благодарение богам! Она снова улыбается!
Опьяненный любовью и вином, Алкивиад обнял девушку, среди всеобщего одобрения и хотел запечатлеть поцелуем заключенный союз.
В эту минуту все смотревшие на Зимайту заметили яркую краску, покрывшую ее лицо.
Вытянув руку, она отстранила Алкивиада и пошатнулась. Ей подали кубок, наполненный вином, но она оттолкнула его, требуя свежей воды и выпила несколько кубков один за другим. Вдруг, глаза Зимайты налились кровью, язык стал с трудом поворачиваться во рту, голос сделался хриплым, она стала жаловаться на сильный жар, все ее тело начало дрожать, холодный пот выступил на лбу…
Позвали Перикла. Он скоро явился и, увидав девушку, побледнел.
— Уходите, — сказал он гостям; но у тех голова еще не совсем пришла в порядок от выпитого вина.
— Отчего тебя так пугает состояние девушки? — кричали они. — Если ты знаешь ее болезнь, говори.
— Уйдите, — повторил Перикл.
— Что же с ней? — спрашивал Алкивиад.
— Это чума, — глухо прошептал Перикл.
Как ни тихо было произнесено это слово, оно разразилось над всеми как удар грома. Все побледнели, девушки начали громко рыдать, сама Аспазия побледнела, как смерть и, дрожа, старалась чем-нибудь помочь своей умирающей любимице.
Девушку увели; гости начали молча расходиться.
— Неужели мрачные силы одолеют нас! — кричал Алкивиад, хватая кубок. — Неужели напрасны были все наши старания! Что разгоняет вас, друзья? Вы все трусы! Если вы бежите, то я не сдаюсь. Я вызываю на бой чуму и все ужасы Гадеса!..
Так продолжал он говорить, пока, наконец, не заметил, что стоит один в опустевшем перистиле, окруженный увядшими венками и опрокинутыми кубками.
— Где вы, веселые итифалийцы? — крикнул он, — один… Один… все они оставили меня, все… Царство веселья опустело, мрачные силы победили… Да будет так! Прощай, прекрасная юность. Я иду к Гиппоникосу!
Глава XIII
В ту самую, богатую событиями ночь, в которую Зимайта была провозглашена царицей радости на веселом пиру в доме Перикла, когда свет факелов вакханок сверкал на всех афинских улицах, в ту же самую ночь на тихом, уединенном Акрополе, на темной вершине Парфенона, сидела птица несчастья, мрачная сова, оглашая ночное безмолвие своим ужасным, пророчащим несчастье, криком.
С городских улиц доносился на Акрополь слабый шум веселья, с которым странно смешивались крики совы. Далеко были они слышны с вершины Акрополя, разнося весть о смерти. В ту же самую ночь, умирал в тюрьме Фидий. Творец Парфенона, уже давно страдавший неизлечимой болезнью, одиноко расставался с миром.
В тот самый час, когда знаменитейший и благороднейший из греков кончал свою жизнь во мраке тюрьмы, а Аспазия говорила Периклу: «ты более не грек!», в тот самый час, казалось, произошел разрыв не только между Периклом и Аспазией, но и в сердце всего эллинского мира, как будто звезда его счастья померкла и, вместе с криками совы, с Парфенона раздался злобный смех демонов.
Во главе этой стаи демонов несчастья летели междоусобица и чума. Чума распустила свои черные крылья и летела впереди всех, над окутанными ночью и наполненными веселым шумом Афинами.
Бывают времена, когда с испорченностью нравов, приходят и величайшие несчастья, когда гармония и порядок внутреннего мира нарушается вместе с порядком и гармонией внешнего — такие времена наступили для Афин, для всей Эллады.
Испорченность нравов, все увеличивавшаяся, из-за роскоши и страсти к удовольствиям, хотя, конечно, и благодаря естественному течению вещей, которое влечет от расцвета к падению, была причиной взрыва кровавой вражды между различными племенами Эллады — вражды, из которой никто не вышел победителем, но в которой погибли благосостояние и свобода всех.
Известие о чуме в доме Перикла мгновенно облетело все Афины и вакханическое веселье быстро уступило место ужасу и заботе. Стрелы ангела смерти полетели во все стороны, и, через немного дней, все ужасы чумы свирепствовали в городе.
Как это было с Зимайтой, болезнь начиналась головною болью и ничем не утолимою сухостью в горле. Кровавый гной выступал из горла, затем сильный, глухой кашель с трудом вырывался из стесненной груди, в ушах шумело, начинались судороги в руках, дрожание во всем теле, больного охватывало чувство ужаса, он ощущал страшную жажду, внутренний жар, кожа становилась красного, иногда даже темно-синего цвета, жилы сильно надувались и выступали.
По совету Гиппократа, повсюду были разведены большие костры, так как было замечено, что кузнецы, постоянно работающие вблизи огня, заболевали редко.
Но сила заразы все увеличивалась и, так как медицина оказалась бессильной, то стали искать помощи в суеверии: никогда греки с большим усердием не исполняли всевозможных искуплений, очищений, заклинаний.
В первые недели город был наполнен громкими воплями, похоронными процессиями, сопровождавшими умерших, но когда зараза стала передаваться от трупов, то всеми овладел такой страх, что многие умирали, оставленные всеми, в пустых домах или даже на улицах и их хоронили без всяких священных обрядов.
Мертвым перестали класть в гроб традиционный обол для подземного перевозчика, их не мыли, не умащали благовониями, не одевали в прекрасные платья, не надевали на них венков из сельдерея, не сопровождали похоронного шествия с громкими, жалобными криками, не приносили никаких жертв — поспешно и без всяких слез, часто совсем без провожатых, увозили бесчисленные трупы, зарывали их в могилы или сжигали на кострах. Но, наконец, мертвым стали отказывать даже и в погребении — многие, умершие последними в семьях, оставались лежать в своих жилищах.
Мертвых находили в пустынных храмах, куда они приходили, моля о помощи богов. Многих находили у колодцев, к которым они ползли, гонимые страшной жаждой. В довершение всего начали находить трупы в колодцах, в которые бросались обезумевшие от болезни. Вскоре и на свежую воду из ручьев стали смотреть с ужасом, так как большая часть из них была испорчена разлагающимися трупами.
Трупы лежали среди улиц, на крышах домов, и у их подножия: несчастные бросались вниз, чтобы скорей прекратить страдания.
Боязнь заразы заставляла людей чуждаться друг друга. Агора опустела; гимнастические школы стояли пустыми, народ не осмеливался собираться на Пниксе, двери домов были наглухо закрыты из боязни встречаться с кем бы то ни было, или же открыты настежь, так как все умерли.
Многие искали спасения в удовольствиях и забвения в вине.
Один только Менон презирал опасность; его можно было встретить всюду, где свирепствовала зараза. Более всего он предпочитал быть среди трупов: много раз его видели сидящим на трупах, радующимся несчастью и насмехающимся над трусливым народом. Стали замечать, что он, несмотря на то, что, как будто, бросал вызов опасности, оставался здоровым. Многие стали подражать ему, приписывая его неуязвимость тому, что он был постоянно пьян; вскоре улицы наполнились пьяными.
Эти же самые люди за деньги выносили покойников из домов и занимались погребением или сожжением трупов. Они занимались своим делом с грубой наглостью людей, которые не даром ставят на карту свою жизнь. Они требовали и брали все, что им нравилось, грабили дома, в которых исполняли свои обязанности. У них не было страха перед законом, так как деятельность судей давно остановилась и они думали, что чума уничтожит или того, кто мог бы на них пожаловаться, или же избавит их самих от необходимости отвечать.
Многие неожиданно разбогатели, став наследниками своих родителей, братьев, сестер и других родственников, но так как они боялись, что их постигнет такая же судьба, то старались как можно более воспользоваться выпавшими на их долю богатствами.
Диопит и его сторонники объясняли постигшее Афины несчастье наказанием богов и гнев народа обратился против тех, на кого Диопит и ему подобные указывали, как на главных виновников божественного гнева.
Стали вспоминать о жрецах Цибеллы, один из которых был брошен в пропасть пьяными итифалийцами. Может быть, этот поступок с несчастным проповедником действительно вызвал месть его бога, и даже утверждали, что для уничтожения чумы единственное спасение — это умилостивить разгневанное божество.
На улицах начали появляться процессии в честь Цибеллы, участвующие в этих процессиях, бичевали себя плетями и ранили ножами.
Приверженцы фригийского бога хвалились, что умеют исцелять чуму. Они сажали больного на кресло и танцевали вокруг него с дикими криками. Участие в этих танцах считалось средством против заболевания.
То, чего боялась Аспазия и чему думала помешать, свершилось. Чуждое и мрачное ворвалось в прекрасный, светлый греческий мир, если не для того, чтобы одержать немедленную победу, то все-таки для того, чтобы подготовить ее и указать от чего погаснет светлая звезда Эллады.
В то время, как в Афинах страшная чума распространяла отчаяние, снова началась война, снова пелопонесцы напали на Аттику, и вынудили население скрываться в городе. Вновь сильный флот, на этот раз предводительствуемый самим Периклом, вышел из гавани и опять его успех на пелопонесском берегу принудил спартанского царя к отступлению. Но Потидайя продолжала сопротивляться, приходилось осаждать Коринф, то и дело в колониях, вспыхивало возмущение.
Для того, чтобы спасти Аспазию и своих сыновей, Паралоса и Ксантиппа, от опасности заразы, Перикл, на время своего отсутствия, переселил их за город. Но несчастье следовало за нею и ее школой, после потери Зимайты, потеряли еще Дрозу и Празину: они были освобождены из Мегары победоносным Периклом, чтобы погибнуть в Афинах от ужасной чумы.
Кто только мог, бежал из зачумленного города в окрестности или на близлежащие острова, где опасность казалась меньшей.
Круг друзей Аспазии сузился. Эврипид еще раньше оставил Афины. Он жил на Саламине, в строгом уединении и более всего любил проводить время в прибрежном гроте, в котором в первый раз увидел свет.
Софокл, как прежде, жил в своем деревенском доме на берегу Кефиса и любимца богов не постигло несчастье, поразившее все Афины. Ясная мудрость не изменила ему.
Чума пощадила также и Сократа, хотя он и не оставлял города, бесстрашно бродя по улицам Афин, и повсюду, где только мог, оказывая помощь.
Юный Алкивиад, ввел дочь Гиппоникоса, Гиппарету, супругою в свою дом. Он также презирал заразу, хотя видел, что божественный гнев не щадил итифалийцев и чума отняла у него его лучшего друга, сына Пирилампа, юного Демоса.
Когда Перикл выступил из гавани со своим флотом, Алкивиад сопровождал его. Чума несколько ослабела, но лишь настолько, чтобы дать возможность подумать о самом необходимом. Начавшаяся война, потребовала солдат, но оказалось, что чума сильно уменьшила количество людей, способных носить оружие.
Так же как на море, так и на суше при осаде Потидайи успех и на этот раз сопровождал Перикла, но это уже не имело значения, так как борьба партий охватила всю Элладу и рознь, угасавшая в одном месте, вспыхивала в другом: сегодняшние друзья становились завтра врагами, союзники поминутно менялись, то что выигрывалось в одном месте, проигрывалось в другом; война раздробилась на мелкие отдельные схватки.
Известие, что афинский народ вступил в переговоры со Спартой, заставило Перикла ускорить свое возвращение, он хотел ободрить афинян, рассчитывал удержать их от постыдных условий, но афиняне, потрясенные ударами судьбы, были настроены более чем когда-либо благоприятно для тайных планов Диопита и его единомышленников.
Жрец Эрехтея переболел чумой, но поправился. С этого времени его дикое, фанатическое усердие еще более усилилось; в своем спасении от смертельной опасности он видел божественное указание.
Однажды на Агоре стояла кучка людей и внимательно слушала стоявшего среди них, так как афиняне снова стали осмеливаться собираться, хотя еще незадолго до этого бегали друг от друга, как от самой чумы.
Человек, ораторствовавший в этом кружке, не только с жаром заступался за Перикла, но и смело выступил против суеверия, жертвою которого сделался афинский народ.
Так как в числе слушателей было много приверженцев Диопита и Клеона, то возник спор, кончившийся тем, что на оратора напали его противники.
В эту минуту мимо шел жрец Эрехтея, сопровождаемый довольно большим числом его приверженцев и друзей. Когда он услышал, что хвалят Перикла и осуждают суеверие, черты его лица приняли мрачное, угрожающее выражение. Несколько мгновений он стоял, подняв глаза вверх, как бы ожидая совета свыше, затем заговорил, обращаясь к народу:
— Знайте, афиняне, — говорил он, — что в эту ночь боги послали мне сон и теперь вовремя привели меня сюда. В Афинах долгие годы совершались преступления за преступлениями. Софисты и отрицатели богов смущали вас, гетеры овладели вами; храмы и божественные изображения воздвигались не во славу богов, а для поощрения расточительности, из простого тщеславия, на пагубу благочестия отцов. То, что вы теперь переносите, послано вам в наказание за расточительность, за отрицание богов. Не в первый раз гнев богов поражает эллинов и вы знаете каким образом в древние времена смягчали их гнев, вы знаете, что часто боги умиротворялись только высшею из всех жертв, человеческой жертвой. Схватите этого богоотступника! Его жизнь за дерзкое отрицание богов и так должна быть у него отнята — это преступник, которого ожидает неизбежная смерть, но вместо того, чтобы принять смерть от руки палача, он должен быть, по древнему обычаю, принесен, как очистительная жертва богам, должен быть с музыкой и пением проведен по всему городу, затем сожжен и пепел его развеян по ветру.
Во время речи жреца, народ все прибывал; в числе слушателей был и Памфил. Когда он услышал, что желают предать смерти друга и защитника Перикла, то сейчас же выразил свое согласие.
— На берегу Элиса день и ночь горят костры, на которых сжигают погибших от чумы — там найдется место и для этого преступника, — сказал он, схватил обвиняемого и хотел потащить его за собою, но в это время по Агоре проходил Перикл. Он услышал шум и подошел узнать о его причине.
Из громких криков толпы он узнал, что собираются принести в жертву богам богоненавистника Мегилла. Перикл бросился было ему на выручку, но его остановил Диопит.
— Назад, Перикл! — закричал жрец Эрехтея, — или ты хочешь и на этот раз отнять у богов то, что им принадлежит по праву, чего они повелительно требуют! Неужели ты хочешь воспретить афинянам принести искупительную жертву, и, наконец, спастись от беды, в которую поверг их никто другой, как ты сам? Разве ты не видишь до чего довело твое ослепление, некогда благословенный богами народ? По твоей милости он забыл древние благочестивые обычаи, стал стремиться к богатству и тщеславному блеску, к ложному свету и даже слушал речи богоотступника.
— А ты, Диопит, — с серьезной и спокойной решимостью возразил Перикл, — куда думаешь ты вести афинян? К фанатическому убийству граждан? К возобновлению грубых, бесчеловечных обычаев, от которых с ужасом отвернулся ясный эллинский дух?
— Благодари богов, о Перикл, — снова возвысил свой голос Диопит, — что они дали нам в руки этого человека! Благодари богов, что на этот раз они хотят довольствоваться его кровью, так как, если бы они стали требовать от нас настоящего виновного, самого виновного из всего афинского народа, то мы должны были бы схватить тебя, так как ты преступник, ты виновник божественного гнева, проклятие тяготеет над твоим родом. Из-за тебя и твоих друзей, Афины сделались безбожными, из-за тебя вспыхнула у нас война. И самый ужасный божественный бич, чума, может быть вполне умилостивлена только твоей кровью.
— Если это так, как ты говоришь, — спокойно возразил Перикл, — то отпустите этого человека и принесите в жертву того, кого вы считаете наиболее виновным.
С этими словами он освободил из рук Памфила приговоренного к смерти.
С довольной гримасой выпустил тот свою жертву и, не колеблясь, наложил руку на ненавистного, самого предавшегося ему в руки, стратега.
— Чего вы колеблетесь? — продолжал Перикл, обращаясь к смущенным афинянам. — Или вы думаете, что я предложил вам себя, рассчитывая на пощаду? Поверьте, афиняне, мне все равно — пощадите ли вы меня, или предадите смерти. Я думал вести Афины к счастью, к славе, к блеску, к свету истины и свободе, а теперь вижу, что какие-то тайные силы снова влекут нас обратно к мраку и суеверию, что несчастья не только вокруг Эллады, но и внутри нас самих мрачные силы одерживают победу над светлыми. Я благодарю богов, что не переживу блеска и славы моей родины — убейте меня!
Молча и неподвижно продолжали стоять афиняне; Памфил начал терять терпение. Тогда вышел из толпы один человек и, сделав вид, что хочет идти прочь, сказал:
— Если вы хотите убить Перикла, то делайте это без меня, я не хочу этого видеть. Во Фракии, когда я был тяжело ранен и когда все хотели оставить меня врагам, он на собственных руках вынес меня.
— И я тоже ухожу! — вскричал другой. — Он помиловал меня в самосской войне, когда остальные, враждебные мне стратеги, за ничтожный проступок приговорили меня к смерти.
— И я не хочу иметь ничего общего с этим делом, — сказал третий. — Перикл помог мне, когда я не мог найти справедливости во всех Афинах.
— И мне! И мне! — раздалось из толпы.
— Перикл не сделал зла ни одному из афинян! — раздалось со всех сторон.
— Оставь Перикла, Памфил! — раздались сначала отдельные голоса. Затем к ним присоединялось все больше и больше, и, наконец, стал слышен один общий крик:
— Оставь Перикла, Памфил! — неслось со всех сторон.
Этому человеку, даже в свои худшие минуты, афиняне не могли сделать зла.
— Ты еще раз победил! — вскричал Диопит, освобождая Перикла. — Но это надеюсь, последнее твое торжество. Я снова обвиню тебя, если боги не умилостивятся.
Вскоре после этого оба сына Перикла, Паралос и Ксантипп, пали жертвою чумы. Жрец Эрехтея с удовольствием указывал на божественное проклятие, пресекшее род Алкмеонидов.
Сила чумы снова возросла. Диопит и его приверженцы постоянно указывали на выпущенную искупительную жертву и на Перикла. Афиняне были возбуждены более чем когда-нибудь. Великий человек, после стольких несчастий, разразившихся над его головой, потрясенный смертью сыновей, с мрачным равнодушием предоставил врагам действовать.
Предложение лишить Перикла должности стратега и всех других обязанностей по управлению, возложенных на него афинянами, было принято в народном собрании. После десятков лет славного правления, Перикл-Олимпиец должен был снова сделаться простым афинским гражданином.
На Агоре теперь ораторствовал Памфил, восхваляя своего друга Клеона, его мужество, его способности и предлагая отдать в его руки бразды правления.
После долгих и горячих споров, из толпы вдруг вышел человек, бедно одетый, со странным, полудиким видом и начал с жаром говорить перед народом.
— Сограждане! Я бывший торговец лентами из Галимоса. Пятнадцать лет назад я был в числе тех, кто решил строить Парфенон и вот что я скажу: мы сменили Перикла — мы, афинские граждане! И это хорошо. Хорошо, в том отношении, что у нас в Афинах оказывается еще есть народное правление — в остальном же смешно и странно. Отстранить сейчас от власти Перикла, значит в некотором роде отрубить себе ногу в ту минуту, когда нужно принимать участие в беге на олимпийских играх…
— Довольно о Перикле, — перебил торговца лентами раздосадованный Памфил, — мы не хотим больше слышать о Перикле — он никуда не годится. Говорят он болен, зачем нам больной человек?
Однако как бы ни был дик вид торговца из Галимоса, его слова подавляли своей логикой.
Потидайя наконец пала и надежды снова возродились. Настроение впечатлительных афинян быстро изменилось. На следующий день они устремились на Пникс, где Периклу были возвращены все его ложности и почести. Они думали, что он все еще прежний Перикл, но они ошибались.
Софокл первый принес своему другу известие о новом решении народа.
— Афиняне все возвратили тебе обратно, — сказал поэт, — поздравляя Перикла.
— Все, — с горькой улыбкой повторил Перикл, — все… кроме веры в них, в счастье Афин и в себя самого. Да, Диопит может торжествовать. Главной своей цели он, конечно, не достиг, но то, что он и его приверженцы готовили уже давно, не погибло в афинском народе. Минута гибели еще не наступила, но мрачная будущность уже набрасывает свою тень на настоящее.
Чума начала свирепствовать с новой силой.
Однажды была мрачная, ужасная ночь, тяжело ударялись волны о каменную дамбу в Пирее, качались корабли в гавани, трещали мачты, холодный ветер завывал на улицах города, хлопал дверями опустелых домов. Часто казалось, что это не шум ветра, а вопли и вздохи плачущих матерей.
Вершина Акрополя была закутана в черное облако, посвященные богине щиты, повешенные на архитравах Парфенона, со звоном ударялись друг о друга, ночные птицы кричали, громадная статуя Афины-Паллады с копьем и щитом, подрагивала на своем гранитном пьедестале.
В эту мрачную, бурную ночь, когда все скрывались по домам, по улице бродил лишь один человек, влекомый странным волнением. Это был Сократ. Он не бросил старой привычки бродить по ночам. Точно влекомый духом несчастья, он очутился перед домом Перикла. Дверь была открыта. Он вошел.
В перистиле, на пурпурных подушках лежал Перикл, одетый в белые одежды, зеленые ветви сельдерея украшали его чело. Рядом, с опущенной головой, сидела Аспазия бледная и молчаливая, как каменное изваяние.
Величествен и прекрасен казался герой, пораженный стрелой ангела смерти. Его мужественное лицо было так же кротко, как и при жизни, даже чума не обезобразила его благородных черт, казалось, что смерть не сразила Олимпийца, а возвела на ступени полного величия. Сократ не мог отвести взгляда от бледного лица женщины. Она казалась ему олицетворением Эллады, печально сидящей у смертного ложа благороднейшего из своих сынов. Как бледна и серьезна казалась, в чертах этой прекрасной женщины, некогда столь веселая Эллада!
Наконец, Аспазия подняла глаза и взгляд ее встретился со взглядом Сократа. Никакими словами не выразить чувства, отразившегося в этом взгляде.
Постояв немного, Сократ исчез, беззвучно, как тень, и снова бледная Аспазия осталась одна у смертного ложа великого эллина…
Сократ продолжал свое ночное странствование. Бесцельно бродил он по улицам в сильном возбуждении.
Под утро, он оказался у дома, в котором происходило какое-то движение, люди входили и выходили из него — это был дом Аристона, благородного афинянина.
Сократ остановился и узнал, что в эту ночь у Аристона родился сын. После стольких смертей, он наконец увидел пробуждающуюся жизнь…
Задумавшись шел Сократ от дома Аристона. Он поднялся на холм, с которого увидал освещенную лучами утреннего солнца Аттику. К Сунию шло подгоняемое свежим морским ветром судно. Это судно уносило сатира и вакханку, Манеса и Кору, на север, к новой родине. Они стремились туда, призванные основать царство добра на развалинах красоты, стремились вперед, воодушевленные своей любовью. Стоя на палубе, они смотрели на берег, прощаясь с Афинами…
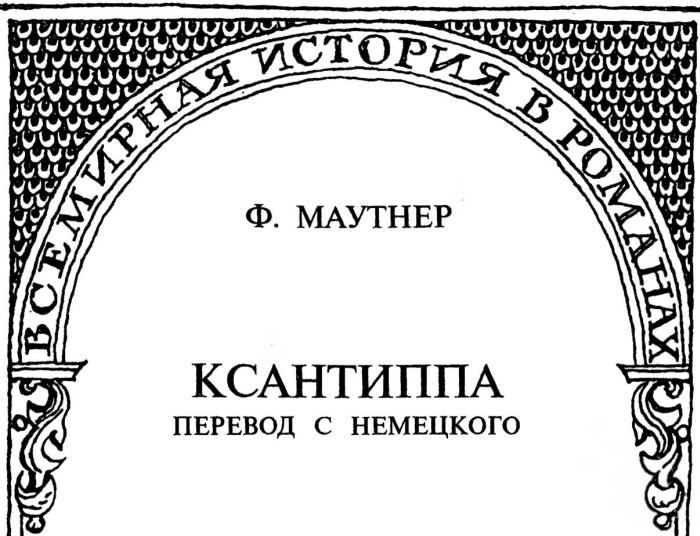
Назад: Глава III
Дальше: Ф. Маутнер. Ксантиппа. Перевод с немецкого

