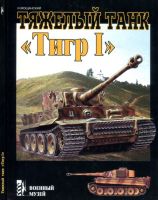ШКОЛА СУДЕЙ
Смерть миновала нашу маленькую семью (мама, папа, я), хотя ее и ждали, и даже делали приготовления – хмуро и молчаливо, будто и не ее ждали, и не к ее приходу готовились. И она не пришла. Я о ней только слышал, когда умирали родственники, знакомые, но то были другие семьи, люди, с которыми я, четырехлетка, был связан лишь паутиной понятий: двоюродный брат, двоюродная сестра, тетя, папин друг дядя Боря… И их смерть я воспринимал как смерть вообще, как нечто нормальное. Потому что я знал тогда только две смерти: смерть от голода и смерть на войне. Я не знал, что можно умереть от воспаления легких или оттого, что состарился, одряхлел… И потому, что известных смертей было две, смерть от голода, как смерть ненасильственная, казалась мне смертью естественной.
Нет! Покойников на санках не будет. И не потому, что специально отказываюсь от описания жути, а уж очень непосильно тащить через жизнь тайную память. Непосильно даже для меня. Даже для меня – потому что как бы спокойно благодаря неведению я ни относился к смерти, ее вокруг меня (хотя и круг-то маленький!) было так много, что уже потом, когда смерть вошла в мирную норму, помнить все смерти… Помнить смерть, уже по-взрослому осознавая, помнить ее запах, цвет, во что заворачивали, помнить недопустимо упрощенные ритуалы – все это помнить, и жить, и быть нормальным человеком!.. И я забыл. Забыл даже значительное, что заставляло дрожать даже меня, эмбриона. Забыл, многое размылось в памяти, стало фоном, на котором иногда неожиданно вырисуется нечто – живое и яркое, но явно случайное, о чем можно было бы и не помнить… Но вот помнится же!..
И вот таким хорошо прорисованным вижу я двор – третий двор нашего дома на Невском проспекте. На Старом Невском, как говорили тогда, да и сейчас говорят: Невский, Старый Невский.
Большую часть ребят и девчонок нашего двора вывезли куда-то далеко, в безопасное место, а я и те, кто не попал в большую часть, играли во дворе в разные игры, довольно веселые, только нас, играющих, все меньше становилось. И происходило это незаметно, само собой: просто спохватишься, что Витька Шаров уже несколько дней нос во дворе не показывает. И мы догадывались, что Витька Шаров никогда уже и не появится, и мы это принимали как факт. Вслух ничего такого не говорили, не обсуждали (может, и неприличным тогда считалось говорить о таких вещах) – мы только играли в разные веселые игры, и пришло время, когда нас, играющих, трое осталось. В нашем третьем дворе. Я был тогда клопом, и моим миром был третий двор, и мне этого мира вполне хватало. Спущусь по лестнице с третьего этажа – и я во дворе!
И не целиком этот двор в памяти – частностями: кривая звезда (мелом на дверной филенке моей лестницы), разноцветная фанера в окнах, слой льда, такой толстый, что, казалось, никогда не увидать дворовых булыжников, а в углу двора, на решетке над канализационным колодцем, – замерзшая куча экскрементов. Она, эта распластанная лепешка в зеленых, желтых и коричневых тонах, не вызывала тогда ничего к себе брезгливого, и лишь время от времени зрачки останавливались на этой куче и застревали на ней. Куча была пестрой, вернее ничего более пестрого во дворе не было, и что верно, я голодал еще одним видом голода – цветом. И эта пестрая покрытая глянцем лепешка два-три метра в диаметре, к существованию которой я относился спокойно, – самое тягостное воспоминание, которое я приволок в сегодняшний день. И когда безобразная лепешка всплывает – гримасой пытаюсь отогнать как нечто такое, чего не должно быть, что недопустимо для хранения в памяти.
Ну а самое, что было интересного во дворе, – это дрова!
Теперь, чтоб «во дворе – трава, а на траве – дрова», – теперь таких дворов нет. И хоть в этом можете нам позавидовать: у нас была отличная игрушка – дрова во дворе!
Параллелепипеды (на попа и в лежку), кубики, кубические метрики дров в штабелях и кое-как, но обязательно железом обитые, проволокой обтянутые. Дрова были в бревнах: пиленых и колотых не было, пиленые и колотые тащили домой, пиленые и колотые хранились дома. Во дворе на исшарканном смерзшемся снегу громоздились замки, крепости, которые нужно было защищать или брать штурмом, катили крейсера, самолеты пикировали, метко швыряли бомбы, иногда их сбивали, и тогда надо было прыгать с парашютом, и мы прыгали, и попадали в окружение, и расстреливали окружение, и выходили невредимыми, и садились в танк, и катили, переваливаясь, через фашистские окопы, укатывали глубоко в тыл врага и там разворачивали боевые действия, разворачивали успешно и возвращались к своим, и говорили: «Служу Советскому Союзу!» – и снова вступали в бой… или катались с горы на санках. И пришло время, когда нас, играющих, уже трое осталось.
Я не могу сказать точно, когда я с ними познакомился. Просто, оглядываясь назад, вижу: был человек, которого звали Константиныч, и выходил Константиныч во двор в хорошем для того времени пальто, и пальто ему было в самый раз. И был он хотя и худенький, но не дистрофик. Как сейчас вспоминаю: ничего дистрофичного, просто худощавый малыш. И это – отсутствие признаков голодухи, общий здорово-сытый вид – здорово нас нервировало. Внешне такая нервозность не проявлялась, в основном раскачивала подкорку, а если и вырывалась, то изредка, мгновенным каким-то всплеском.
Особенно часто не сдерживал себя Вовастый Пухляк: то взглядом, то словом, то жестом… Вовастый Пухляк к Константинычу относился хуже, чем ко мне, намного хуже. А ко мне хорошо относился, очень даже хорошо. Я, кажется, помню, что нас подружило с Вовастым: подружили нас санки. Мои санки.
Тогда нас во дворе было больше чем трое. Пять человек было, и одна снежная гора, и одни санки – мои санки.
Не помню, откуда снежная гора взялась. Вроде никто не строил. Может, какую кучу мусора завалило снегом, и образовалась гора – соседним дворам на зависть.
Спустился я с третьего этажа со своими санками, и Вовастый Пухляк во двор вышел. И начал я с горы кататься. А Вовастый на горке стоит, взобраться помогает, пока сажусь – санки подержит, потом столкнет, и я покачусь и долго-долго еду, почти до самой кучи… ну, этой лепешки, о которой говорил. Так несколько раз.
И тут Вовастый заглянул мне в глаза и говорит:
– Можно я?
Сел. Прокатился. Меня усадил. Я пару раз съехал. Потом опять Вовастый.
И так пошло: два раза я – один раз Вовастый Пухляк. Кто-то еще из ребят во двор вышел. Вовастый придвинул свое лицо к моему, заглянул в глаза (умел он как-то в глаза заглядывать, как-то снизу, так что взгляд его сквозь твои зрачки проходил и застревал в мозгу) и сказал:
– Давай будем дружить.
– Давай! – сказал я.
Вообще-то я со всеми ребятами дружил, но без специальной договоренности. А с Пухляком, значит, будет особенная дружба, раз он так заострил. Я не ошибся – дружба сразу начала входить в права. Дружба придвинула ко мне лицо, заглянула в глаза и сказала:
– Мы будем только вдвоем на санках. Больше никому не дадим!
***
С виду Вовастый был такой… ни дать ни взять беспризорный эпохи гражданской войны. Хотя и не в лохмотьях: пальто-балахон, демисезонное, серо-коричнево-рыжее, до самых пяток, из которого чтоб вырасти – расти и расти, шапка-ушанка (солдатская, что ли?), два войлочных валика из-под пальто… Был заметный контраст между бегающими голодными глазами на толстощеком лице и спокойными движениями, общей какой-то положительностью: свидетельство сильной воли, твердого характера, душевного спокойствия – качеств, необходимых для суровой беспризорной жизни.
***
В дровах была яма. Не до земли, дно ямы – тоже дрова.
В яме: я, Вовастый Пухляк и Константиныч.
Над нами кровельное железо, ржавый лист полтора на полтора метра (по размеру ямы), – крыша.
От сознания, что над тобой крыша, а со всех сторон – толстые деревянные стены, уютно. Кажется, даже тепло. Хотя холодно! Кажется, что теплее, чем в наших квартирах, а в квартирах хотя и не очень тепло, но все-таки теплее, чем в дровяной яме. А кажется так потому, что в яме нет войны, нет ничего, что напоминает войну: игра в крестики-нолики на оконных стеклах (с абсолютной победой крестиков), флакончики с керосином (маленький свет и большая копоть; «Игорь, смотри: опрокинешь – пожар будет»), буржуйки – когда топятся, и дверца приоткрыта, и ты рядом, и смотришь на огонь, и наполняешься теплом… Дюпоны, Морганы и прочие буржуи – вовек такого счастья им не испытать!.. И кухня («Игорек, сходи на кухню за молотком. Шапку только надень»)… В нашей яме ничего этого нет. Для нас троих это и не яма вовсе, а пещера разбойников, дзот, приемная короля, охотничий домик и… вообще другая планета.
Сидим. Стены деревянной пещеры к нашим спинам прижаты. И какая-то щепка мне спину дырявит, но двигаться не хочется, пусть дырявит – первая заявка моей лени. Ноги наши неестественно спутались – где чья нога? И весело нам оттого, что ноги – так; оттого, что прошла женщина в ватнике и с муфтой, большой, меховой, прошла, не подозревая, что мы здесь, совсем рядом; и нам весело оттого, что мы-то знаем, что мы здесь, а она не знает. И еще не можем никак отдышаться: только что кончился бой, отстрелялись удачно, эскадрилью немцев скинули, а тут во дворе Вовастый Пухляк возник, поежился, проследил, как падает горящий фашист, и полез в пещеру. Мы дали отбой и полезли за ним.
И вот сидим, и уже отдышались, и надо что-то делать, но делать ничего не хочется, играть даже не хочется. И я спрашиваю просто так: «А во что мы теперь играть будем?»
– Чего – играть?! Давай посидим, – сказал Пухляк.
– Правильно, – сказал Константиныч, – давайте еще посидим.
И мы еще посидели минуту в мире и тишине.
А потом мир и тишина кончились – Пухляк сказал Константинычу:
– Ты бы сходил домой, вынес чего пожевать… Лепешек, может, каких?!
Мир кончился! В деревянную яму пришла война. Та война, что не на поле боя, а та, что в перерывах между артобстрелами заливает улицы, дворы, глушит краски, холодным сумраком втекает в квартиры, и обволакивает все живое, и из всего живого высасывает все живое.
Этот год войны мне так и запомнился: звуковой образ – молчание Константиныча, когда ему предложили вынести что-нибудь пожевать из дома.
Константиныч ничего не сказал, но он как-то насторожился – напрягся, что ли… И произошло: в яме уже не трое ребят, а сидел один, и сидело двое, и обозначилась линия обороны, и…
тишина! Оглушительная.
– А что, – Пухляку нужна моя поддержка, – неплохо бы чего пожевать?
– Да, – сказал я, и «да» было правдой.
– У него дома есть чего пожевать. Я знаю, – сказал Пухляк. А я не знал, но казалось правдоподобным, что у Константиныча дома пожевать кое-что имеется – гораздо больше, чем, скажем, дома у меня или у Вовастого. Так казалось. Константиныч никогда о еде не говорил, всегда выглядел сытым.
– А чего он не хочет вынести? – и сказал это Пухляк негромко, почти шепотом, как все, что он говорил.
И вот – все. И только общая неприязнь к Константинычу, и только одна моя фраза:
– А чего ты?.. Вынеси чего-нибудь… и – молчок! Я – молчок, Вовастый – молчок, Константиныч – молчок. Общий молчок.
Загрустил Вовастый. Вслед за ним я загрустил. Да и Константиныч не веселился. И эта коллективная грусть как-то вновь нас объединила.
Мы сидели. Потом Вовастый поднялся, прогремел железом и вылез из ямы.
***
В те годы хлеб, или то вещество, что этим словом обозначалось, ленинградец мог получить только в одной, совершенно конкретной точке на земле. Это была лавка, к которой прикреплялись хлебные карточки человека. Лавки хранили название булочная – это историческая справка.
Наша булочная, к которой мы были прикреплены, – и сейчас булочная. И даже столик – мраморная доска на резных ножках из красного дерева, на которой можно разложить покупки, – оставался до недавнего времени, так же как и вертящиеся стеллажи для хлебов, батонов.
А помню свет двух керосиновых ламп, двух продавщиц – передники поверх ватников – и шепот молчаливой очереди, помню, как портновские ножницы стригут ма-а-аленькие квадратики зеленых бумажек, а свет керосиновых ламп освещает лица продавщиц снизу, и лица похожи на маски, и на детское сознание колышущиеся тени ложатся картиной таинственной, сказочной. И во всем этом было что-то от тайной вечери, а Христом был жестокий порядок стодвадцатипятиграммовой раскладки…
После отмены карточек я не ходил в эту булочную – ходил в другую, хотя она и дальше. И только сейчас, когда начал писать об этом, понял, почему так делал. Только сейчас… А что же мне еще предстоит заново увидеть и пережить, войдя в тогдашнего себя, а затем осмыслить – присущим мне уже сегодня смыслом?!
Тогда я в булочную ходил с мамой, вернее мама ходила со мной, брала меня как телохранителя, понимай – как хранителя карточек, хлебохранителя. Я должен был смотреть, чтобы не подкрался парень, не схватил, не вырвал, не убежал. У мамы много забот, мыслей, мама могла зазеваться, а у меня мыслей мало, и я должен был следить. Хотя наша семья голодала, но, приходя в булочную, я не глотал слюнки. Потому что голодуха – это не само желание есть, а состояние: слабость, зябкость. А желание – это думанье, виденье, время еды. Хлеб в нашей семье становился едой лишь тогда, когда пайка уже была поделена между нами троими. Тогда и появлялось желание, но и тогда его, желание, мы попригашивали ритуалом: неспешностью, сосредоточением над очередной крохой, отделяемой двумя пальцами от кусманчика, и уже во рту – разминанием этой крохи в кашицу и проглатыванием капли этой кашицы. И все это – синхронно с двумя другими едоками… При свете спиртовки. Потом, во взрослой моей жизни, знающие люди сказали, что такое нас и спасло…
***
В тот день мы пришли в булочную засветло. И только мы пришли и мама встала в очередь, я повертел головой туда-сюда и сразу увидел Вовастого Пухляка.
Вовастый Пухляк просил милостыню.
В нашем дворе все знали, что Вовастый побирается.
У Вовастого была тетка, по нашим понятиям – злая. Вид у тетки был злой, да и лицом в бабу-ягу вышла – вот мы и считали ее злой.
Тетка ходила просить милостыню. Брала с собой Вовастого.
Иногда Вовастый ходил один. Сумка у него холщовая на боку болталась. Когда возвращался, во дворе не застревал – шмыг на лестницу, а уже потом выходит, играет с нами.
А мы – ничего. Мы не возражали, что Вовастый побирается.
Мы ничего ему такого не говорили – дескать, как тебе не стыдно, и другие слова, которые могли бы сказать, если б знали слова. Но мы не знали. Зато знали, что тетка заставляет Вовастого побираться, и это было оправданием.
И знали, что мы-то бездельничаем, а Вовастый – трудится, ходит как бы на работу. Это рождало уважение.
И никто никогда не видел, как Вовастый тянет руку: они с теткой уходили куда-то далеко, в другие булочные. А тут – на тебе! – Вовастый в нашей булочной побирается…
Я опешил. И первое, что я почувствовал, – стыд!
Я оглянулся: не заметил ли кто, что между мной и Вовастым что-то есть? Что между мной и Вовастым есть фраза «Давай будем дружить!» – и мой ответ: «Давай».
А Вовастый меня не видел. Он стоял у прилавка и внимательно следил, как отрезаются зеленые квадратики, как отрезается хлеб и как этот хлеб взвешивают, и он внимательно следил за стрелкой весов, как будто это ему вешают, и когда женщина-продавец протягивала тщательно взвешенный кусок, Вовастый сгибал правую руку, заглядывал в глаза человеку, который со своей пайкой уже отходить собирался от прилавка, поворачивался – и лицом к лицу с Вовастым, и что-то шептал… Не было протянутой руки! Вовастый держал полураскрытую ладонь у груди. И казалось, вложи ему в согнутую руку букетик с цветами – и все обернется другим смыслом. Но букетика не было. И согнутая рука с полураскрытой ладонью означала протянутую руку.
***
Я был растерян.
Я оказался перед житейской задачей: твой товарищ стоит и просит у народа хлеб, и ты должен подойти и поздороваться с ним, спросить или сказать что-то веселое. Но родители успели засунуть в твою головенку догму, и догма эта зудит: попрошайничать – нехорошо! И как быть?! Того и гляди люди поймут, что ты – друг Вовастого, подойдут, головой покачают, скажут: «Ай-ай-ай!»
Я стоял у мраморного столика с резными ножками, смотрел, как мой друг заглядывает в глаза. Только он умел так: снизу, через зрачки – и прямо в сознание, в мозг… Но довесков не давали. А он – ничего, не обижался. И опять внимательно следил за весами, и снова заглядывал в глаза и что-то шептал… А я – в сторонке, у мраморного столика. И я не подходил к маме: мне казалось, подойти к ней и встать рядом – предать Вовастого. Дескать, я вот здесь, с почтенными людьми стою, чтобы получить свою законную пайку, а ты – вот там, по другую сторону закона. И я не с тобой, я – с ними. Нет, я не мог подойти к маме! И, конечно, не мог так рассуждать. Но я так чувствовал.
Но вот мама подвинулась к финишу: перед ней уже два человека оставалось, и она кивнула мне – дескать, давай подходи.
Что делать? Я подошел.
Я подошел, но не к маме, а прямо к весам, у которых стоял Вовастый, – и получилось, что будто я и к маме подошел, но в то же время было непонятно, где моя мама. И тут мы с Вовастым друг друга заметили… И, видно, я так удачно подошел, что Вовастый подумал, что это я к нему подошел. И я сказал Вовастому: «Здравствуй!» И получилось это очень приветливо, непринужденно. И Вовастый кивнул, даже два раза кивнул. И ничуть не смутился, когда увидел меня, – кивнул мне, и все. И на его пухлом лице ничего такого не изобразилось, и уже не обращает на меня внимания, свое дело продолжает, а я его не загораживаю, так что он вполне может продолжать свое дело.
Но тут, когда перед мамой оставался один дядька, Вовастый взглянул на меня и кивнул: «Вставай».
И я встал впереди Вовастого и не мог понять, зачем Вовастый меня – впереди себя: я ж его теперь загораживаю! Он же не знает, что за дядькой – моя мама, потому что с мамой незнаком, не пришлось познакомиться. Может, он хочет, чтобы я без очереди отоварился? В общем, не мог я сообразить, для чего это он так…
Вовастый сказал: «Вставай» – я и встал. И стою. Чувствую Вовастого за спиной. Смотрю на острый профиль дядьки, которому хлеб вешают. А он головой дергает: от весов – на меня, от меня – на весы, и взгляд у него дикий какой-то.
Вот дядька сжал в кулаке кусок хлеба, что ему взвесили, еще раз дико на меня взглянул и пошел прочь. И вот мама карточки протянула, большие портновские ножницы ловко отстригли три квадратика, столовый нож кусок хлеба отрезал, весы этот кусок взвесили, но стрелка не дотянулась до трехсот семидесяти пяти граммов, необходимых нашей семье, – следовательно, полагался еще довесок. Довесок нам положили… И в это время почувствовал я, что Вовастый какое-то движение за моей спиной производит. Чувствую, что хочет протиснуться между мной и прилавком. Я голову слегка повернул – смотрю, взгляд его, мимо меня, во что-то воткнут, а губы шепчут: «Пусти чуть-чуть!» И я послушно так чуть-чуть отодвинулся, потому что был я в состоянии задумчивом и понять, что Вовастому нужно, не мог. А дальше было так. Выбросил Вовастый вперед руку (правую, кажется), схватил триста семьдесят пять граммов хлеба, необходимых нашей семье, которые мама уже успела получить от продавщицы, но положить в авоську не успела, схватил эти граммы и выскочил: сначала – из поля моего зрения, потом – из булочной. А я не сразу – совсем, можно сказать, не сразу – сообразил, что же это произошло. Потому что допустить мысль, что твой друг схватит твой хлеб и выскочит из поля твоего зрения, – допустить такую мысль сразу никак нельзя. И эта мысль – не сразу, конечно, но довольно быстро – раздвигала створку и пролезала в сознание. И пролезть в сознание ей помогал шум: булочная зашумела, закричала. Некоторые фразы – хором, а темные слова и выражения – солисты. И кто-то даже побежал за Вовастым, но сразу вернулся: видно, догонять Вовастого – безнадежное занятие.
А я все воспринимал так, будто не мой хлеб схватили, будто со стороны наблюдаю, как кто-то у кого-то хлеб схватил и что из этого получилось. Но не волнуюсь при этом нисколько, потому что в голове два вопроса: «Как же это так?» и «Неужели правда?!» – сталкиваются, разлетаются, и никак их не удержать, чтобы рассмотреть и принять по этим вопросам какое-нибудь решение. И… я увидел маму! У нее губы дрожали. Наверное, не маму, а как дрожали ее губы, увидел… Как передать? С чем сравнить это? Не с чем! Увидел, как мамины губы дрожали, и вернулся к жизни, и понял, что Вовастый наш хлеб схватил и что теперь мы – без хлеба, и не так мы – без хлеба, как мама – без хлеба! Потому что мама – не только без своей дольки. Она еще без наших долек домой вернется и что-то отцу должна сказать, и самое тяжелое для нее – отец утешать будет.
А еще что было интересного – это никакой злости к Вовастому. Желания поймать, растоптать – не было такого желания. Хорошо помню.
Вовастый Пузан, со своим пальто, латанным из старой солдатской шинели, валенками под цвет пальто, шапкой-ушанкой под цвет валенок и то ли опухшей, то ли толстой физиономией (почему-то до сих пор думаю, что у него была толстая физиономия), со своей степенностью, вдруг оказался в некой окантовке, которая обрубила связь между нами, – и я уже глазею на него, как на прочих Вовастых, которые вырывали хлеб, карточки. И их почти всегда ловили, начинали бить, били жестоко… И свое сочувствие я всегда отдавал им, а не тем, кто без хлеба оставался, что было, конечно, не по правилам, но страдания тех, кто без хлеба остался, я не видел и домыслить ярко и живо не мог.
А вот стыдно… стыдно было! Что я, такой дурак, не понял Вовастого, не понял, что он хочет сделать! И с ужасом думал, что мать все разглядела и знает, что я даже помог Вовастому. Но я посмотрел на маму – вид у нее такой: в одну точку смотрит, губы дрожат, и кто-то ее утешает, а она – ничего, в одну точку смотрит и от прилавка не отходит. Утешают ее, но что толку?! Утешают: две женщины шепчут, мужчина в военной форме слова говорит, а скинуться по кусочку от своих пайков, возместить утрату – тогда таких правил не было, возможностей для этого не было. Могли только утешать.
Я взял маму за пальто, сказал: «Пойдем…» Мама кивнула, и мы пошли из булочной… Я по сторонам стараюсь не смотреть, а мама, так та вообще только перед собой смотрит, и глаза у нее не моргают. А вышли на улицу, пошли по улице – и мама ничего, конечно, не говорит, а я по натуре человек разговорчивый и не мог так идти и молчать, и я сказал:
– Это ничего, мама, правда?!
Мать кивнула, сказала: «Ничего» – и проглотила комок, и я думал, сейчас заплачет, но она не заплакала, удержалась. И мы перешли Невский и вошли во двор. Прошли первый двор, средний, а в нашем, третьем дворе я сказал:
– Мам, я погуляю?
Мама кивнула и даже не сказала, чтобы я недолго гулял. А мне надо было остаться во дворе. У меня созрел план и была надежда его выполнить. Я решил пойти к Вовастому домой.
Я знал, на какой лестнице он живет. И я пошел на его лестницу в надежде, что что-нибудь подскажет мне его квартиру… На чужих лестницах мне всегда было страшно. Не знаю почему, всегда было страшно: сумерки – страх от лестничных сумерек, темные углы – страх от темных углов, незнакомые двери – страх от незнакомых дверей, страх перед незнакомыми жильцами. Я искал квартиру Вовастого и трясся! И, оказывается, я даже не знал, на какой площадке он живет: вроде на этой, а может, выше? А дернуть колокольчик и спросить: «Скажите, пожалуйста, Вова не здесь живет?» – не осмеливался. И я быстро уговорил себя, что мне его квартиру не найти, и, уговорив, в панике рванул вниз, вылетел во двор и вздохнул полной грудью!
И вылетел во двор, и увидел знакомые стены, и знакомую фанеру в окнах, спрессованный снег, и дрова, и горку. Все знакомое. И вздохнул полной грудью, и вздохнул еще раз, и… увидел Вовастого Пухляка!
Увидел силуэт Вовастого в подворотне первого двора.
Я пошел навстречу.
Я не знал, что скажу, что спрошу… Я пошел ему навстречу.
И когда проходил средний двор, внезапно взорвалась мысль, предположение: успел сожрать! Я даже споткнулся об эту мысль, и ноги крепость потеряли, и хотя продолжал идти, уже не мог понять, что меня двигает – ноги или не ноги.
Встретились мы под второй аркой. И я сказал:
– Здравствуй.
А он взглянул на меня, он кивнул мне и пошевелил губами – и уже не смотрит и идет дальше… Такой грузной походкой, как мой папа, когда с работы возвращается. И такое впечатление, будто встретил знакомого, с которым говорить особенно не о чем, а так, кивнул, пошевелил губами, будто слова приветствия произнес, и идет, будто ничего нас не связывает, как будто полчаса назад я и не помог ему, как будто и не был его соучастником. Помню, это меня даже обидело. И я иду и не знаю, что сказать и как, просить или требовать…
И я говорю… так, между прочим, будто случайно вспомнил…
– Знаешь, – говорю я, – это ты наш хлеб стянул…
Вздрогнул Вовастый – слегка, можно было и не заметить, бросил на меня взгляд, взгляд быстрый такой (он его не поворачивая головы умел бросать) и сказал:
– Чего это… наш?
И все – и взгляд, и фраза – недружелюбно, с подозрением ощетинилось, ворсинки его шинели, шапки, валенок ощетинились. Будто собрался я хитростью заработанный им хлеб отобрать, а он – опытный, дюже опытный человек, и так легко его не проведешь.
– Ну, наш! Это же моя мамка стояла, а ты у ней хлеб стянул…
Я это спокойно и просто сказал: дескать, недоразумение, а ты, конечно, не виноват. Но вот… недоразумение! И разрешить его надо, конечно, в мою пользу – сам понимаешь.
И вот чтобы он, Вовастый, это понял, я так просто, без нажима и сказал, и маму мамкой назвал, интуитивно считая, что мамка – понятнее, а во-вторых, сказать: «Хлеб у мамы стянул – отдай обратно» – все равно что сказать: «Хлеб у меня стянул – отдай мне обратно», а сказать: «Хлеб у мамки стянул» – будет звучать: «Ты тут хлеб у одной женщины стянул – мы в некотором смысле с ней родственники, так что мне приходится взять ее под защиту, ты уж прости, пожалуйста!» Вовастый идет дальше и, чувствую, соображает. А я – рядом, и чувствую, что Вовастый соображает, что я говорю правду, чувствую, вспоминает он все события: где я стоял, что делал, куда смотрел, что говорил… И уже чувствую, что он понял, что я правду сказал. Но… никакого волнения: чтобы остановился, руками всплеснул, достал пайку, завернул пайку во всякие «прости, пожалуйста» и протянул поспешно, отдал, еще раз извинился – ничего такого.
Идет Вовастый, я – рядом.
Входим под третью подворотню. Он молчит, на меня не смотрит, смотрит вперед себя, на лице – созревшее решение, и от этого решения мне ничего не обломится: хорошо вижу, нутром вижу, недозревшим умом вижу…
И идет он со сжатыми губами, с уже принятым решением. И не пробиться к нему со словами о совести и чести. Можно лишь идти рядом, раскрыв рот от растерянности, лихорадочно соображая, пытаясь подобрать что-то убедительное и, не находя слова убедительные, заглядывать в глаза, надеясь, что убедительным взгляд окажется, и с каждым шагом такую надежду терять. А можно расправить плечи и заострить себя на цель – тогда почувствуешь, как ты окреп, и доступно тебе удивительно многое!..
И когда Вовастый повернул на свою лестницу, я повернул вместе с ним. Вовастый сделал еще несколько шагов, и понял, что я иду вместе с ним, и, искоса глянув, не меняя лица и не шевельнув губами, спросил:
– Чего это?..
Я ответил. Я сказал.
– Я с тобой, – сказал я и даже не посмотрел на него. Я не посмотрел, но почувствовал, как из него начал выходить воздух! Будто напоролся Вовастый на гвоздь и вот теперь обмякает. Звука – нет, ветра – нет, но чувствую: из него выходит воздух, и даже, кажется, слышу, и, кажется, даже осязаю. И когда подошли к дверям лестницы, Вовастый совсем завял и даже, кажется, похудел. И нос его – пуговицей – куда-то запропастился. Не было никакого носа. И вот, с одним моим носом на двоих, вошли мы на лестницу и начали подниматься…
И углы на лестнице были еще темнее.
Но уже не было страха!
Не было страха в темных углах, за молчаливыми дверями… И не чудилось, что кто-то вот-вот выскочит, схватит за горло: «Ага, попался?!» Или сверлящими глазами: «А ты кто такой?!» Страха не было.
У арифметики страха свои законы. И по этим законам я, как одно из слагаемых (я плюс Вовастый), получил знак суммы. Я перестал бояться этой лестницы.
Вот только мне казалось странным, что Вовастый спокойно ведет меня к себе и не рыпается. А ведь мог бы замахать и закричать. И я бы отступил. Точно! Никаких бойцовских навыков я не имел. Но он не закричал. Вот что значит занять правильную позицию в начале беседы!
Подошли к его квартире, а я из-за своих рассуждений и не заметил, на каком этаже его квартира. И вот он сунул руку в глубины пальто, звенит ключами, открывает дверь. И я вслед за ним проникаю сквозь серую тьму маленькой прихожей с небрежно «отмытым» силуэтом большого шкафа – прямо в комнату.
Я, наверно, первый раз в жизни попал в чужую квартиру.
До войны, конечно, хаживал с мамой, с папой в гости, но все довоенное было за порогом сознания, памяти, за порогом моего «я». И при слове «квартира» мог представить только свою квартиру, при слове «стол» – только наш большой квадратный стол, под которым я мог проходить не нагибая голову.
И вот так неожиданно я попал в чужую квартиру, и даже не очень чужую – с той же планировкой, что наша, и с удивлением узнал, что слово «квартира» вмещает не только нашу квартиру, но и эту тоже. И сразу – сообразительный я все-таки! – проэкстраполировал открытие и представил, сколько еще квартир вмещает это слово, но, конечно, большого разнообразия представить не мог и лишь спустя ох сколько лет понял всю многозначность, драматическую многозначность слова «квартира».
И вот комната: точь-в-точь наша – и совсем не похожа на нашу, и много предметов таких, как у нас. И стол квадратный, и буржуйка, и спиртовка на столе, и одеяла на окнах – хорошие одеяла. Одеяла отвернуты, потому что не совсем еще темно во дворе. Предметов знакомых много, но не было главного – не было жилого духа. И правильнее сказать – был дух нежилой. Был дух комнаты, в которой не живут, хотя, казалось бы, живут. И уже позже – может быть, только сейчас – понял, из-за чего это проистекало.
Такие же никелированные кровати, как и у нас. Их было четыре, и стояли они по четырем углам, как – потом я узнал – стоят кровати в гостиницах, больницах, общежитиях, в домах отдыха и санаториях. И две кровати в противоположных по диагонали углах ударили зеленой рябью матрацев: ни простыни, ни одеяла, ни подушки, которые должны лежать на кровати, иначе кровать – не кровать. И лишь на одном матраце была свернутая тряпка, но ее, верно, просто положили, и к кровати она не имела отношения.
И вот что еще меня поразило: афиши на стенах.
Их было немного, штук десять, и висели они на стене, у которой стояла кровать, а на кровати лежала тетка Вовастого. А одна афиша висела на противоположной стене. И я в то время уже мог читать и, наверное, прочел эти афиши (наверное, прочел, потому что помню: на афишах названия спектаклей были). И так меня это поразило: что афиши не только на круглых тумбах или заборах, но и в комнате могут висеть; так поразило, что непокрытые матрацы и все остальное, – я только краешком глаза, но разглядел все-таки, что комната на жилую вовсе не похожа. И делали ее нежилой опустевшие кровати и афиши. И еще, наверное, копоть, неубранность и всякие вещи, для жилой комнаты ненужные. Но к копоти, неубранности и ненужным вещам я привык – это было и в нашей квартире и не усиливало впечатление нежилого.
И когда мы вошли в комнату, тетка Вовастого – она у окна лежала под двумя одеялами – приподнялась на локтях.
– Ты, Вова? – спросила и откинулась на подушку.
В лицо-то я ее знал и раньше. Видел. А вот волосы у нее жидкие, очень мало волос – это я раньше не видел, потому что в платке ходила. И оттого что так мало волос, добрее показалась.
А на меня она внимания не обратила, хоть я и сказал:
– Здравствуйте.
Тетка. Она откинулась на подушку и ничего так не говорит, а только смотрит на Вовастого, и по тому, как смотрит, хоть и темно в комнате, все же видно, что спрашивает.
А Вовастый – я его понимаю – ничего при мне говорить не хочет, переминается. Пальто не снимает, шапку тоже не снимает.
А я снял шапку сразу, как вошел.
А тетка взглядом Вовастого сверлит, продолжает спрашивать. Вот уж не понимаю тетку: чего она при мне с вопросами? Подождать не могла? Ну и сделала дело: Вовастый не выдержал, носом шмыгнул и полез в холщовую сумку.
А во мне заиграло: не сожрал, значит!
И вытаскивает Вовастый нашу пайку. С довеском даже – во! Довесок даже не сожрал! И кладет на стол рядом с коптилкой, и начинает раздеваться: шапку снял, сумку снял, пальто свое – балахон – снял, на вешалку повесил тут же – в комнате у них вешалка (у нас дома тоже в комнате раздевались).
А тетка увидела нашу пайку, воздух из груди выпустила так облегченно и головой кивнула. И даже – вот тоже! – не спросила, кто это Вовастому такую пайку дал. Видно, понимала, что никто бы ему пайки такой дать не мог.
Ну а я, как дурак, стою, смотрю, как Вовастый раздевается, и чего мне делать, не знаю. Тетка лежала с закрытыми глазами, но все-таки заметила, что я не знаю, чего делать, и говорит:
– А что этот мальчик?
А я посмотрел на Вовастого: может, объяснит все-таки, кто я, зачем здесь? Самому мне неудобно… А Вовастый разделся и начал ходить из одного угла в другой, и на меня не смотрит, и отвечать за меня не хочет.
– Как тебя зовут? – спрашивает тетка.
– Игорь, – отвечаю, а сам смотрю на пайку: может, пайка подскажет, как разговор про нее завести.
А тетка, она заметила, на что я взгляд направил. Она заметила, хоть и с закрытыми глазами лежала. Тетка сказала:
– Ну вот, Игорек, возьми довесочек… Возьми…
И я – взял!
Протянул руку и взял довесок – он сверху пайка лежал. И не потому, что с худой овцы, а потому, что мне сказали: «Возьми» – и я взял. (Сила слова! Сила приказа!)
Можно было довесок в карман положить, но незавернутый хлеб в карман класть негигиенично, поэтому держу довесок в правой руке, руку согнул, довесок – в ладошке, держу бережно, но крепко, будто птичка маленькая: как бы не помять, но чтобы и не улетела. А Вовастый знай по комнате ходит, будто дело у него какое, ищет что-то. А я стою – ничего не делаю. Кусочек хлеба держу, на тетку смотрю, на пайку, что на столе лежит, смотрю, на Вовастого смотрю: как бы его внимание на себя обратить? Может, все-таки поможет мне разговор начать, переговоры, если понадобится?
А тетка с закрытыми глазами лежит, на меня смотрит. Она веки не совсем опустила, узенькие щелочки остались – вот через эти щелочки и смотрит. А веки у нее морщинистые, большие. У других никогда не замечаешь, есть веки, нет век. А ее веки сразу заметить можно. И нос ее можно сразу заметить: треугольная пластинка такая прозрачная. Когда она в платке, нос у нее еще длиннее, а сейчас он короче, но все равно длинный.
Тетку, конечно, интересовало: что это? Пришел мальчик, до этого ей неизвестный, пальто не снимает, снял только шапку, кусочек хлеба взял – спасибо не сказал. И стоит себе. Вроде бы и с Вовой пришел, а с Вовой не разговаривает, да и Вова с ним не разговаривает. Чего он, спрашивается, хочет?
Наконец тетка – молодец! – взяла инициативу.
– Ты чей? – спрашивает. – С нашего двора?
– Да, – говорю, – с нашего двора.
Тетка замялась как-то – думает, чего спросить. А я думать перестал: пусть лучше тетка думает – взрослая все-таки…
– Ты Вову ждешь? Он ведь гулять не пойдет.
И я понял: мне говорят, уходи.
И я – такой я безвольный! – хотел повернуться и уйти. Но в последний момент не повернулся. В последний момент – откуда взялось?! – сказал:
– Я за хлебом пришел…
Тетка на локтях привскочила, расчехлила глаза и расчехленные глаза свои в меня воткнула. Немой вопрос – за каким это хлебом?! – сверлил, буравил. Немые вопросы для меня были в новинку – до этого вопросы мне подавали в словесной форме. И вот стою, жду словесную форму, то на пол смотрю, то на тетку, то снова на пол.
– За каким… хлебом? – прохрипела тетка (дождался-таки).
– За нашим, – прохрипел я. И удивился: откуда хрип? И проглотил комок, потому что волновался. И посмотрел тетке в глаза, чтобы поняла, что правду говорю.
А тетка – глаза круглые – не моргая смотрит, осмыслить пытается. Вовастый у окна, глазами так вообще ушел в окно, будто он здесь ни при чем.
– Это Вовастый… Это Вова наш хлеб принес, – помогаю тетке понять. Деликатно так…
И тетка зашевелилась. Тетка на бок повернулась и уже на один локоть опирается. И в результате поворота тетка оживленной получилась: глаза у нее заблестели, отвороты рубашки на груди сжимает (моя мама тоже так делает, когда я ее в рубашке вижу).
– Это хорошо, что ваш! Мог бы чей-нибудь, а тут – ваш! – забормотала тетка, и голос хриплый, веселый.
– Ваш так ваш… Не все ли равно, чей?.. Правда, сынок?
Я подумал, что сынок – я, и хотел сказать: «Правда», но увидел, что Вовастый на тетку смотрит, и решил, что сынок – это Вовастый, и отвечать ему.
– Ваш – теперь наш! – продолжала тетка. – Ты хочешь есть, и Вова хочет есть…
«Верно ведь!» – подумал я и придумал решение, компромиссное конечно: разрезать пайку. Половинку – мне, половинку – Вове (раз мы оба есть хотим). Но сразу вспомнил, что дома у меня – мама и папа, а у Вовастого – тетка, поэтому внес поправку – поделить на пять частей. Три части – нам, две – Вовастому с теткой. Но свою идею я не стал выкладывать: во-первых, говорила тетка, и перебивать неудобно, а во-вторых, вообще я решил до времени попридержать идейку.
– Он еще, может, больше, чем ты, хочет! – говорила тетка. – Он покрупнее тебя, ему, может, больше надо… Он хлеб добывал – и добыл! Значит, это его хлеб!.. И никто не знает, что это твой хлеб… Ну, кто знает, что это твой хлеб?.. Никто не знает. И что, ты хочешь, чтобы я сказала Вове: «Отдай ему хлеб»?! А Вовка будет голодный?! А ты хлеб получишь?! А по какому это праву Вовка будет голодный, а ты хлеб получишь?!
И я не мог понять: чего это тетка говорит, распинается? Я уже сам понял, что хлеб этот – ничейный, и получит его тот, кто больше нуждается, и тот, кто больше постарался его получить. И мне было стыдно стоять посреди комнаты в роли сборщика налогов, кредитора, пристава-урядника – таких ролей я не знал, но, наверное, догадывался, что такие роли были, есть. И казалось стыдно вживаться в такую роль, и я готов был от нее отказаться, хотя других интересных ролей не предлагали, и уже готов был поделить пайку пополам, но тетка все говорила и слово вставить не получалось. И вот она уже не полулежит, а сидит в кровати, и не веселая, как поначалу казалось, а сердитая, и волосы распущенные… Раньше за затылком умещались, потому что немного волос-то, а сейчас – во все стороны: и на левое ухо, и на правое, и на лоб – на все стороны хватило волос. И этот волосяной цветок опять на бабу-ягу смахивать начал. Но я – ничего. Стою, слушаю и слышу, как она говорит, что ей Вовку кормить нечем.
– Чем я Вовку кормить буду?! – спрашивает – и не ждет ответа, говорит дальше. – Отец Вовку на меня оставил! – говорит тетка, и при этом левой-то рукой она опирается, а правой рубашку уже не придерживает – в помощь словам правую руку пустила, жест у нее необычайно выразительный, доходчивый был жест. – Ведь на мне же Вовка!.. Мне ж отчитаться им надо!.. Я должна умереть хоть, но его вытянуть!
Вовастый стоял так… На тетку смотрел серьезно, и было видно, что он положительно относится к теткиной программе.
– И пусть все что угодно говорят, но я его вытяну! Мне отцу его передать надо не праведником, а живым!..
Что такое праведник, не понял, но уловил идею.
И уже все, решил предложить. Решил отказаться от своей половины пайки, чтобы спасти жизнь Вовастому, но тут тетка спросила:
– Ты что, с нашего дома? – спокойно так, с каким-то праздным любопытством, будто в темноте у своего подъезда чью-то фигуру увидела и не испугалась ничуть, а так, из интереса глаза прищурила, взглянула искоса и бросила: «Эй!.. Кто это там?»
– Ты что, с нашего дома? – спросила тетка, волосы прибрала и улеглась на подушку.
– Да, – сказал я, – с нашего…
И подумал, что вот сейчас будет укорять: дескать, с нашего же дома ты, а так некрасиво поступаешь! А тетка головой повела, в сторону Вовастого глаза завернула…
– Это что, его пайка? – спросила тетка. Вовастый – физиономию вправо и правым плечом пожал… Понимай так, что, дескать, может, и его… Безучастно, будто ничего его не касается, будто вот он свое дело сделал, а там – разбирайтесь.
А тетка улыбнулась – хоть и кривовато, но добро:
– Отдай ему, Вовочка… Отдай!.. Его ведь!.. Отдай, Вовочка… Пусть… Отдай ему…
Вовастый, казалось, ждал приказа: оттолкнулся от подоконника, к столу подошел, пайку взял, пайку мне протянул. Пайку я взял, даже не засомневался, брать или нет, потому что в тот момент, когда тетка сказала: «Отдай!.. Его ведь!.. Отдай…», я сразу же как-то понял или вспомнил, что пайка эта вовсе не ничейная, а моя. Вернее, наша! Нашей семьи! И ни к чему ее распределять между мной и Вовастым, а надо взять целиком и унести домой, как положено по закону. А Вовастый тут ни при чем.
Судите-рядите, но мне и сейчас за свой поступок не стыдно. Формула «все мое – только мне!» – плохая формула, конечно. Но мне и сейчас не стыдно. Уж как-то так…
Весы добра! Моя чаша тогда немного весила, наверное. Но както так… Я больше стыжусь тех минут, когда хотел делиться, когда хотел отдать полпайки Вовастому. А стыдное, по-настоящему стыдное было потом, спустя десять минут… И я взял пайку, присовокупил к ней вспотевший довесок, вспомнил, что надо сказать, когда из гостей уходишь, сказал: «До свидания» – и пошел прочь. И на ходу шапку надевал.
Вовастый за мной – провожать. В коридор вышли, я о сундук споткнулся, падать начал – Вовастый меня на лету поймал, сказал:
– Тише.
– Чего это у вас афиши висят? – спросил я.
– Теткины. Артистка она, – сказал Вовастый и дверь открыл на лестницу.
– А-а, – сказал я. – Выходи завтра во двор.
– Ладно, – сказал Вовастый и дверь захлопнул.
И тогда я сделал первый шаг к своему позору.
Я шагнул, еще раз шагнул и начал спускаться по лестнице… К своему позору… Держа в руках пайку, потому что класть в карман незавернутый хлеб негигиенично.
Во двор вышел. Во дворе темно было. Произошло в этой темноте то, что я стараюсь не помнить…
Во дворе я на Константиныча наткнулся.
– Чего ты гуляешь? – спрашиваю. – Темно уже.
– Да, – сказал Константиныч, – темно… Маму встречаю. Темно уже, а ее нет, – а сам на пайку смотрит.
– А-а, – говорю я, а сам думаю, как это я домой приду, и что будет, и как мама с папой обрадуются, и как я объяснять буду…
– Дай чуть-чуть пожевать, – говорит Константиныч.
– Потом, – сказал я и пошел домой. – Потом, – сказал я легко и просто и пошел домой.
И это бессмысленное «потом» звенит в памяти! До сих пор! И еще я, помню, брови нахмурил: неприятно было, что пристают, просят. Просить? Какое имеет право Константиныч просить? Совсем, можно сказать, посторонний человек. Так кто угодно может попросить! Всем давать, что ли?! Пайка мне принадлежала и моей семье принадлежала, могла принадлежать еще Вовастому с теткой, но те отказались, а Константиныч – совсем ни при чем!
И вот теперь звенит «потом» и память Константиныча выталкивает! Я его обратно – а память снова выталкивает. И не потому, что он умер (недели через две Константиныч умер, а с виду так и не скажешь, что голодал), а потому, что не было мне до него никакого дела!
И я прошел мимо Константиныча, углубленный в себя, в свой успех, в свое счастье, в свою пайку. По закону я имел право быть безразличным. По закону. В тот вечер я уже знал этот закон.
Назад: Игорь Смирнов-Охтин ШКОЛА СУДЕЙ
На главную: Предисловие