Пропед
Шел сильный косой ливень. Громадные капли падали в лужи и рикошетили аккурат на края штанов, порой даже долетая до колен. Я торопилась в одиннадцатую городскую больницу и по дороге увидела бегущего Игоря Мункоева. На голове у него был пакет с полуголой женщиной.
– Эй, – крикнула я, – подожди меня!
Он резко затормозил, встал у остановки. Пакет торжественно вздыбился.
– Ну что, учила?
– Пальпацию?
– Ну.
– Немного. Помнишь как? Сначала нижний легочный край, потом – верхушка.
– Точняк. А сегодня нас к больным поведут.
– Да ты что!
– Серьезно. Выдадут небось какую-нибудь диабетную бабульку в волдырях. Готовься.
– Бабульки, – говорю, – это еще не самое страшное. Страшна Ольга Геннадиевна. Особенно в гневе.
– Это кто такая?
– Наша новая преподавательница. Мне чуваки с пятого курса сказали, что с ней все жестко. Она, говорят, только родила, у нее еще идет такая, знаешь, злобность материнства.
– О’кей, учту. Спасибо, что предупредила.
Мы вошли в здание. Фойе украшал гигантских размеров фонтан, облепленный бутафорскими булыжниками. Внутри суетились рыжие карпы какой-то редкой азиатской породы. Мимо них проплывали две безмятежные морские черепахи, похожие на большие комки водорослей.
Игорь посмотрел в воду и отметил:
– Они красивые. Но кусаются.
Затем он аккуратно развязал шнурки, опомнился, снял с головы пакет и поместил в него мокрые туфли. Мы накинули халаты и поспешили на второй этаж.
Занятия еще не начались. Наши сидели в больничной «гостиной», возле телевизора. Мимо таскались пациенты со штативами капельниц. Они поглядывали на нас со смятенным опасением. Коротков листал учебник, а остальные пялились в экран. Там показывали рекламу лапши быстрого приготовления.
– В эти коробочки одну химию суют, – сказала Уварова.
– Совать-то суют, а при пациентах я бы спрятала баночку колы куда-нибудь подальше.
Разумеется, эта реплика была адресована мне. Я убрала свой напиток в рюкзак.
– Действительно. Кать, ты права. Надо всех предупредить – пока тут ходят больные, нельзя бегать в курилку. Мы – доктора, должны олицетворять здоровый образ жизни.
Морозова обратилась к Лене:
– Слыхала? Курить нельзя. – Она закинула ногу на соседнее кресло, развернулась. – А что, по-вашему, можно?
– Девочки, – вмешалась Катя, – нам необходимо показать пациентам, что доктора следят за своим здоровьем. Мы что, сапожники без сапог?
– Лаврентьева, замолкни, – грозно буркнула Воронцова. Катя мигом вернулась к просмотру рекламы.
Вдруг явилась Геннадиевна.
– Та-ак, вы что тут расселись? А ну быстро в холл!
Это была молодая ухоженная женщина. Ее прическа состояла из натуральных завитков русого цвета с зеленоватым отливом. Кожа тоже была оливковой – как после томительных часов в солярии. Пухлые губы (о натуральности которых долго спорили Цыбина с Уваровой) косметически мерцали. Собственно, именно поэтому ее и прозвали Жабой.
Во время первого урока мне кто-то позвонил. Я подняла руку, чтобы отпроситься.
– Иди.
Через двадцать минут позвонил мой тогдашний Алекс, решив, что еще не успел высказать все, что обо мне думает. Накануне мы поругались, потому что он нарисовал на кухонных обоях гигантского краба.
– Можно выйти?
– Куда?
– Это… в туалет.
Жаба подмигнула:
– Ты – это самое?
– Что?
– Кого-то ждешь?
– В каком смысле?
– Ждешь пополнения?
Короче, Жаба была не злой. Она оказалась глупой. Я думаю, это – гормональное. После беременности такое частенько случается.
Занимались мы прямо в холле, напротив большого фонтана, потому что нам было негде больше разместиться. Жаба всегда немного опаздывала, появлялась через тридцать минут после начала занятий, благоухая хорошими духами и детским кремом. На шее у нее висел «роллс-ройс» среди стетоскопов – прозрачный новомодный «Литманн». Эта компания выпускает самые дорогие инструменты для медицинского прослушивания. Один из их стетоскопов даже можно подключить к компьютеру. Наши говорят – стетоскоп вместо тебя может поставить диагноз…
Сначала занимались мы так: Жаба приносила магнитофон с записью легочных шумов. Именно эти звуки мы должны услышать у больных. Мы внимательно вслушивались в каждый скрип и хрип, потом отвечали: что за патология или какую именно точку мы сейчас прослушали. Затем занялись пальпацией и простукиванием. Тут у меня была одна беда – я четко знала, какое должно быть чередование движений пальцев, но всегда путала правую и левую сторону на живом человеке. Подхожу, например, к одному добровольцу из наших и пытаюсь слева найти у него печень. Жаба не скрывала своего раздражения:
– Форель, это же ошибка на уровне… на уровне… на уровне идиотии!
Потом мы стали ходить к больным. Те, конечно, бывали приятно удивлены, когда в их крохотной палате вдруг оказывалось человек пятнадцать студентов. Некоторые сразу натягивали на себя одеяло и притворялись, что их здесь нет. Однажды я спросила у Жабы:
– А вы их предупреждаете, что мы явимся?
Жаба ответила:
– Да какая разница? Им все и так ясно. Вы же приходите как обычные доктора…
Она частенько делала нам выговоры. Жвачку – выплюнуть, ботинки – почистить, халат – погладить. Особенно доставалось Саяне:
– Этот твой бирюзовый маникюр – как вообще понять? Ты что, не видишь, что больные пугаются?
Как будто бы ее накладные ногти и ресницы больных, наоборот, располагают к себе и внушают доверие!
Студентка смотрела на нее исподлобья и прятала руки.
Стоило Саяне появиться, и Жаба немедленно на нее набрасывалась:
– Иди, пригладь волосы.
– Зашнуруй кроссовки.
– Убери эту цепочку в портфель.
– Сотри с лица, наконец, эту дебильную улыбку!
Кстати говоря, Саяна под конец прервала это череду неоправданных придирок, придумав гениальную вещь. Сама она принадлежала к одному из северных народов. Родилась в Якутии, причем бабушка у нее была из Узбекистана, а тетя – из Улан-Удэ. Внешне Саяна больше всего походила на эскимоску, особенно когда зимой натягивала свой меховой капюшон. У нее была крупная симпатичная мордашка, небольшой рост, усеянная веснушками переносица. Преподаватели ее недолюбливали. Все-таки Саяна была творческим человеком, очень необычным как внешне, так и внутренне. Таскалась с папкой для рисования огромных размеров, из ее карманов торчали какие-то странные длинные ленточки… Непохожесть на общую массу наших ханжей вообще отпугивала.
Рубильников возмущался:
– Ты напоминаешь ходячую катастрофу…
Полянский замечал:
– Саяна у нас – типичный пример трудного подростка.
У Толпыгиной сердито топорщились усы, и она выкрикивала:
– Девочка! Тебе только оленей в таком виде гонять!
Сама Саяна проживала в студенческом общежитии. Я часто гостила в ее комнате. Однажды с Севера прибыла Саянина мама; у нее из-под мышки торчала огромных размеров рыба, завернутая в газетку. Оказалось – это какая-то редкая рыба, деликатес. Она предназначалась Лаптеву, который уже второй год грозился выкинуть Саяну по обвинению в… колдовстве.
Увидев родительницу, я сразу поняла: это потомственное. Мама Саяны была этническим музыкантом. Точно такие же цветные ленточки торчали и из ее карманов. Не говоря уже про фиолетовую прическу и ярко-зеленые ногти. Мать с дочкой очень мило вели себя со мной, да и просто были людьми добрыми. До сих пор мы с Саяной дружим. Тем более что она уже давным-давно покончила с медицинским, и сейчас одной ногой в Нью-Йорке, а другой – в Берлине. Если на то пошло, Саяна вообще не собиралась врачевать. Просто для жителей ее маленького якутского городка единственный шанс на нормальное будущее давала студенческая целевая программа.
И вот однажды на коллоквиуме Жаба сказала ей:
– Ты что такая вся разноцветная? Пока не приведешь себя в порядок, ответ твой не приму.
Накануне Саяна все тщательно выучила, и ей совсем не хотелось тащиться на пересдачу. К тому же ясно, что к внешнему виду придираются только тогда, когда хотят, но не могут придраться к знаниям. Мне кажется – это такой предлог, возможность выразить то, что вслух сказать неприлично: «Не нравишься ты мне. Почему? Да просто так».
В общем, Саяна отвернулась и начала что-то нашептывать по-якутски, энергично вычерчивая в тетради какие-то странные круги. Дочертив, Саяна подняла гелевую ручку и со словами «Пепел к пеплу» – резко вонзила ее в тетрадь.
– Ой! Дурно мне что-то, – сказала Жаба и, схватившись за горло, закашлялась, а потом вдруг выбежала вон.
Я наклонилась к однокурснице.
– Ты что с ней сделала?
– С ней? Абсолютно ничего. Однажды Бабин назвал меня «тупой чукчей». Я не знала, как реагировать. И вдруг пришла в голову мысль. Говорю ему: «А между прочим, Олег Александрович, я бы так не шутила. У меня бабушка была шаманкой. И мать – шаманка. И я, кстати говоря, тоже…»
– А он что?
– Рот открыл – думала, сейчас скажет что-то умное. Но на самом деле он жутко перепугался. В результате и пошла про меня, как говорится, молва… теперь все очень просто. Когда они ведут себя по-хамски, достаточно отвернуться и начать что-то шептать. Лично я нашептываю рецепт блинов с повидлом. Потом говорю: «Пепел к пеплу», – и все. Как видишь – работает безотказно.
Больным Саяна нравилась. Она умела долго выслушивать пациента, трепетно сжимая в своих маленьких ручках старческую морщинистую ладонь. Иногда она рисовала пациентам разные картинки. Кто-то просил у нее:
– Нарисуй мне лес. Я тут лежу уже месяц, соскучился…
И Саяна рисовала еловую рощу, посреди которой на пне сидит пациент, смотрит на небо и курит.
Тем не менее наше появление вызывало у большинства больных тревогу. Жаба, как человек развеселый, затевала с нами такую игру: мы толпимся возле одной определенной палаты, Ольга Геннадиевна быстро открывает дверь. Внутри – больной. Он может в это время, допустим, надевать штаны. Или делать зарядку. Или просто лежать. Или, в конце концов, справлять нужду в горшок. Как только пациент поворачивается с вопросительным звуком «а?», Жаба дверь закрывает. И прямо тут же, не отходя далеко, спрашивает:
– Ну-с, кто мне скажет, что это за патология? Тому, кто быстро сообразит, сразу ставлю пять!
Еще она могла войти, к примеру, в палату, поднять какого-нибудь пациента и спросить:
– Что мы видим на этом лице, обезображенном болезнью? Ну, кто хочет сказать?
Слава богу, до некоторых больных не сразу доходило, что вообще происходит. Действия Жабы были настолько абсурдны, что многие попросту сразу их забывали. Думали – может, приснилось в температурном бреду. Или явилось под воздействием препаратов…
Как-то раз Жаба привела нас в палату к очень дряблому старику. У дедушки был серьезный артрит. Стояло лето, внутри было жарко и влажно, и он лежал на кровати в женской ночной сорочке, оголяющей стопы ног и колени.
Жаба сказала:
– Ребят, внимательно смотрим на ноги и считаем «кругляшки». («Кругляшками» она называла артритные образования на суставах.) Все хором: раз, два, три… десять, двенадцать…
Что при этом видел старичок? Четырнадцать человек хором выкрикивают какие-то цифры. Дед говорит:
– Я погляжу, Ольга Геннадиевна, вы их строите на первый-второй…
В общем, наша горе-Мэри-Поппинс была на высоте. Видать, даже в своих самых ярких фантазиях она не могла представить себя по ту сторону, на койке, в клиническом отделении…
Мы не успевали привязаться к больным. Многих быстро выписывали или переселяли в другое отделение. Но больница была хорошая. Дорогая. Чтобы туда попасть, надо было иметь либо деньги, либо связи. Первый вариант мог превратить тебя в вечного больного.
Об этом, как ни странно, я узнала в столовой. Однажды мне продали там пиццу, которая лежала на отпечатанном листе бумаге. Жир сделал этот бланк почти прозрачным, однако текст вполне можно было прочесть:
«Анкета для кандидата на должность „терапевт“. Отметьте галочкой те пункты, с которыми вы согласны. Пункт „А“ – готовы ли вы выписать рецепт на сумму свыше пяти тысяч рублей? Пункт „Б“ – готовы ли вы выписать рецепт на сумму свыше десяти тысяч рублей? Пункт „В“ – готовы ли вы выписать рецепт на сумму свыше тридцати тысяч рублей?»
И дальше, дословно:
«Готовы ли вы предложить больному дорогостоящую манипуляцию стоимостью от тридцати тысяч рублей и выше? Если нет, то по каким причинам?»
Еще правом лечиться в дорогой больнице обладали ветераны отечественного строительства. Это было связанно с какими-то формальностями, о которых знало только руководство.
Среди строителей было много, как говорили Цыбина с Лаврентьевой, «доходяг». Это были очень старые или очень больные люди. Как правило, и то и другое сочеталось. Пациентов часто навещали родственники. Те, кто мог самостоятельно передвигаться, устраивали для близких экскурсию по шикарным интерьерам. Показывали фонтан, кафетерий, библиотеку.
Были у нас и больные, балансирующие на грани почти что овощной жизни и старческой смерти. Они лежали в отделении интенсивной терапии. Ряды коек стояли бок о бок, одна к другой. Сюда мы часто заглядывали по поручению медсестер. Таскали для них разные лекарства, приносили докторам нужные ампулы. Внутри монотонно звенели аппараты, поддерживающие пациентов на последних стадиях жизни. Ритм этого пиканья был очень тревожным и неприятным. Но таким живым…
Внутри отделения пульсировала громкая, сочная, оглушительная энергия бытия. Все-таки, пока человек дышит, даже если ему помогает искусственная вентиляция, он меняется, вершит поступки, издает звуки, высказывает свое мнение и приходит к различным выводам. Это касается даже тех, кто находится чуть ли не в агонии. Очень часто из отделения интенсивной терапии раздавался трехэтажный мат. Пациенты не жалели глоток.
Может, больные понимали, что скоро уйдут, и спешили дать волю тайным желаниям. Может, внутри этих интеллигентнейших старушек всю жизнь кипели определенные словосочетания, навеянные бесконечными кризисами и революциями – историей нашей страны. Может, люди таким образом расставляли точки над «и», задаваясь вопросом о том, что за жизнь им сейчас предстоит покинуть. Так или иначе, умирающие делали все, чего никогда в жизни себе не позволяли.
Одна старушка в «интенсивке» не могла даже самостоятельно питаться. К ней был подключен не аппарат – целый шкаф с десятками кнопок. Так вот, эта дама орала таким матом, что вздрагивал даже Игнатьев. При этом в особо острых моментах она нецензурщину – рифмовала. Вот как она обращалась к медсестрам, споро меняющим ее подгузники:
– Бл…дь е…ная ж…пу тащит, х…и жует и на меня глаза таращит!
Возле ее койки серел томик Мандельштама.
Еще у «доходяг», да простит меня Господь за это слово, была такая особенность. Вот лежат они, матюгаются стихами, экспрессивно изливают ответы на вопрос «кто мы такие». (Я более чем уверена, что к старости ответ на этот вопрос максимально приближается к правде.) И вдруг заходит какой-нибудь печальный родственник с натянутой улыбкой, пакетом мандаринов в руках и наигранной или натуральной скорбью в глазах. И вот, как только родственник достигает койки «своего» больного, тот вдруг прикидывается мертвым. Не спящим, а именно мертвым. Некоторые даже выкатывают язык или имитируют замирание в замысловатой, не свойственной живому позе. Как дрессированные кони в цирке.
Родственник тут же падает на колени. Его лицо белеет, он испуган. На глазах проступает влага. Родственник мечется, озирается вокруг. Все пикает, все бурлит, из угла – матерятся, а родитель – помер. Или, допустим, бабка. Родственник отключается от разума, паникует и начинает звать медсестру.
Спокойная женщина в халате тут же одергивает больного или делает вид, что пришла пора какой-нибудь процедуры. И – вот оно, чудо:
– Сынка, привет. А я тут заснула… Фруктов принес? Так мне же нельзя…
Однажды такую сцену мы застали вместе с Жабой. Потом все спрашивали, это вообще что?
Ольга Геннадиевна ответила:
– Как что? Генеральная репетиция…
Самое запоминающееся событие произошло за пару недель до сдачи зачета. Мы тренировались в написании анамнеза, посещали палаты, расспрашивали пациентов. В больничных коридорах образовалась гремящая суета. Вместо того чтобы лежать в покое и тишине, больные были вынуждены беспрерывно слушать топот.
К сожалению, ради нашей учебы больным доставалось по полной. Одного могли вдруг разбудить, другого – оторвать от завтрака, третьему помешать во время визита близких. Мы делились на группы по четыре человека и с тетрадями заходили в палату. К каждой группе время от времени присоединялась Жаба.
Я была в команде с Коротковым, Цыбиной и Уваровой. Жаба меня специально к ним распределила, чтобы я подтягивалась. Заходим в палату. На койке вместо классического старичка лежит молодой мужчина. На вид ему не более сорока, несмотря на внешние признаки болезни. Мужчина – простой, со спокойным пролетарским лицом. Ручища – как две лопаты. Но сразу видно, по оттенку кожи, точь-в-точь как в учебнике, и по огромному красному пятну на плечевом своде, под шеей, что жить дальше ему уже не суждено.
Мужчина это чувствует. Его губы плотно сжаты, глаза изучают трещины на потолке. Он, кажется, произносит свою последнюю молитву или безмолвно прощается со всеми знакомыми, которые останутся здесь.
Больнее всего смотреть, как угасают молодые. Про детей я вообще молчу. Это нестерпимая мука для доктора.
Я сажусь на табурет и первой начинаю его расспрашивать. Он еле шепчет, постоянно закатывает глаза и надрывается. Жаба говорит:
– Спроси, спроси у него – что за диагноз.
– Чем вы болеете? – спрашиваю я.
– Да гастрит у меня…
Какой гастрит, у человека рак пищевода.
– Тихонечко выходим, – говорит Жаба.
В коридоре Леша спрашивает:
– А близкие знают?
– Пока еще нет.
– А чего так? Чего мы ждем?
– Ждем до понедельника.
– В понедельник, – говорю, – он может нас уже покинуть.
– Пока ведь лежит, да?
– А почему вы ему наврали?
– Вот пройдешь медбиоэтику, тогда и поймешь.
– Ну ведь можно сказать – пока неясно. Зачем вводить в заблуждение – и его, и семью?..
– Ты, – говорит Ольга Геннадиевна, – еще маленькая. Еще не доктор. Однажды сама все узнаешь. Но я тебе лично обещаю – в понедельник все скажу.
Коротков опускает мне руку на плечо:
– Даша, мне кажется, он и так все понимает…
Сразу вспомнился мой диагноз. Он был ужасным. Даже повторять его не хочу. Но мне его сразу же сообщили. До тех пор я спокойно ходила, бегала, даже отплясывала в клубах. А как только диагноз объявили – я тут же заболела. Буквально на следующий день. Это была всего лишь ангина, но в комплексе с диагнозом она смотрелась очень страшно. Как будто – последняя стадия.
Трудно признаться, что именно мне помогло… Меня спасли наркотики. Я с утра до вечера курила марихуану. Между одним анализом и другим. Это продолжалось почти месяц. С утра – косячок, вечерком – кальянчик. И все, я не думала о болезни. Жизнь превратилась в неопределенный безграничный сон. Каждый поворот, вдох и выдох были секундным действием, проскальзывающим по блеклому полотну дней. Только придет в голову диагноз – сразу дуну. А потом – все как обычно, лето, город, друзья… Под воздействием марихуаны я и начала заниматься биологией. Первый учебник я прошла в полузабвении. Однако что-то все-таки осело. Кажется, статья про инфузорию-туфельку.
Сейчас я к наркотикам не притрагиваюсь, брезгую. Они напоминают мне про один из самых страшных периодов жизни. Но все-таки, если считать формально, именно они меня и спасли. Иначе, наверное, я бы серьезно двинулась психически.
А потом мой лечащий врач засияла. Она была искренне счастлива, что ошибалась насчет меня. Было видно, что доктор радовалась, сказав мне:
– Все. Иди домой. Анализы опровергли все предположения… – А потом спросила: – Ты окончательно решила?
– Да, – ответила я. – Теперь уже точно… буду врачом…
В общем, сложный это вопрос. Говорить или нет. Говорить ведь никому не нравится. Вдруг не скажешь, и будет хуже?
А ведь люди – священные создания. Даже которые коварные и глупые, безнравственные и слепоглухонемые к другим. А хорошие люди – и подавно… Люди – это самое красивое создание Господа. Красивей гор и снежных хлопьев, красивей цветов и широких долин… Мне кажется, самый лучший художественный материал, самая яркая краска из всех, чем можно рисовать, – это человеческая нелепость. По крайней мере для меня. Она настолько наполнена сущностью мира, настолько органична и в то же время резка, настолько хрупка, глубока, сложна и бездонна…
И сама я человек нелепый, кстати. Вот угораздило меня! Я долго не могла понять, почему так отвратительно училась. Постоянно сидела на пересдачах, то и дело бегала в деканат за пропуском. Сейчас я, кажется, начинаю это понимать. На психологии нам объясняли, что у человека в единицу времени может работать только одно полушарие мозга. То есть одно трудится, выдает реакции, а второе – медленно плетется за первым. Левое полушарие отвечает за логику. Правое – за чувства. Именно поэтому, собственно, глупости вершатся под натиском эмоций. А я всегда принимала свои эмоции за окончательные, завершенные умозаключения. Я постоянно задавалась вопросами о добре и зле. Корила себя за то, что была спокойным, дубовым свидетелем случаев нарушений врачебной этики. Один раз больного при мне послали. Второй раз – унизили. Третий раз – посмеялись над ним… Единственное, о чем мне думалось в эти моменты, – как я могу? Как я могу торчать посреди этого театра абсурда и выдавать себя за постановочную декорацию? Как могу изображать студенческое рвение, когда творится… такое?! И сразу отпадают формулы, страницы из учебника, результаты всей ночной зубрежки. В этом и была проблема. Человека нелепого, человека рефлексирующего, неуверенного, подвергающего сомнению свои поступки, того, кто, как говорят, принимает все близко к сердцу, такая ситуация сбивает с толку. К тому же ум у меня на тот момент еще только начал прорезаться. Я все-таки выросла в тепличных условиях. А надо было поскорей привыкать…
Короче, я, как обычно, не сдала вовремя зачет. В любимой, близкой и хорошо знакомой компании Игнатьева, Власова и Саяны я поплелась на пересдачу.
Первым пришел Вова. Лицо его было тусклым, как утренние тени. Я устроилась в предбаннике, на единственном кресле, оставленном охранником для собственных перекуров.
– Двигай.
Он достал учебник, раскрыл его, перебрал закладки, создавая видимость труда. Я смотрела в окно и отпивала кофе из коричневого пластмассового стаканчика.
Дорогие хоромы на фоне осеннего восхода смотрелись достаточно пресно. Выкрашенные в ярко-желтый здания напоминали альбомный лист, на который падали акварельные тени неухоженных деревьев. В этом пышном пейзаже была какая-то недосказанность, какая-то своеобразная загадка. Вот с фасада покрасили, а сзади – забыли. На асфальте в нескольких местах образовались громадные пятна масляной краски. Они чередовались с округлыми подстриженными кустами, которые, судя по всему, просто забыли полить. Везде на пестром фоне выдранных с корнями трав желтели кучки опавших листьев. Такую громадную территорию сложно содержать в порядке, за ней трудно уследить… необходим кропотливый и любовный человеческий труд…
Через прозрачные стекла было видно, как спешат домой сонные медсестры. Небольшими компаниями они направлялись к железным воротам. Их яркие пальто и высокие сапоги на каблуках выделялись на сером фоне раннего больничного утра. Вова прикрыл учебник, заложив его пальцем на главе «Пищеварительная система».
– А ты слышала насчет отчисления?
– Слышала, – ответила я. – Будут теперь отчислять не за три, а за одну задолженность.
– Да уж, несладко…
– Вот-вот. Я, честно говоря, не очень-то переживаю. Все-таки, чему быть, того не миновать. Мы с тобой – хорошие, правильные двоечники.
После этих слов додумалось: «Нам пора пожинать плоды собственного безделья…»
– Мне, к сожалению, беспокоиться не о чем.
– Это как? У тебя патфиз еще висит плюс анатомия с прошлого года. И, кстати, почему «к сожалению»?
Власов отвернулся, достал сигарету, закурил.
– Да не к радости это… явно не к радости…
– Что «это»?
– Все тебе вынь да положь. Хотя и так уже давно все знают…
– Ладно, Вов, не хочешь – не говори. Дело хозяйское. Я без твоих секретов как-нибудь перебьюсь.
Он отвел глаза, смутился…
– Да с Ревой, с этой… я, как говорится, занимаюсь альфонсством…
– Да ладно! А ее не посадят? Это же фактически растление…
– Не волнуйся. Не посадят. И прекрати ржать. Все, замяли…
– О’кей. Рот на замок.
– В конце концов, она человек хороший.
– В принципе, по молодости, я думаю, она была очень даже ничего.
– Ничего, ничего. Все, ни слова.
– Ясно.
Мне очень хотелось спросить одну вещь, и я не удержалась:
– А как же Морозова?
– Я послал эту дуру. Она привалила ко мне пьяная… ладно, не хочу об этом. Давай повторим материал. Сначала делается флюктуация…
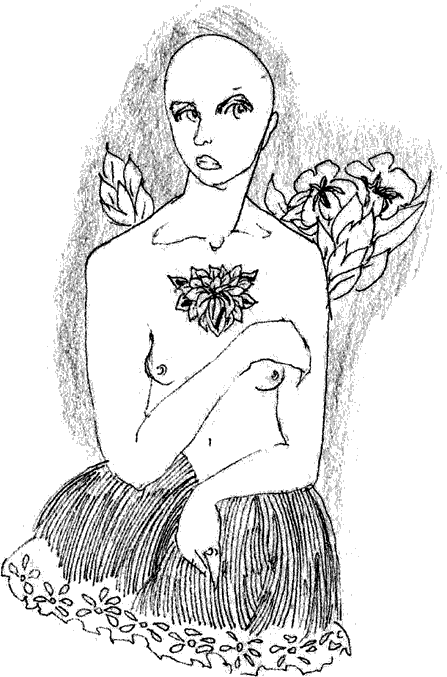
Я пришла к Жабе. На ее ухоженном лице образовались темные припухлости. Ярко светился слой грима под глазами, который должен был маскировать синяки.
– Форель, отвечай быстро. У меня было ночное дежурство. Мне к ребенку надо. Как мы делаем флюктуацию?..
Я начала отвечать, а Жаба тем временем достала свой мобильный телефон и стала быстро набирать сообщения. Пока я не закончила, она не удостоила меня даже взглядом, а потом спросила:
– Слушай, а у тебя есть хоть одна близкая подруга?
– Пожалуй.
– А что бы ты сделала, если, скажем… она попросила бы у тебя об одолжении, несоизмеримом с твоими силами и возможностями?
– Ну, наверное, я попыталась бы ей помочь.
Жаба снова уткнулась в свой мобильный телефон и, набирая СМС, произнесла:
– Мне кажется, ты девочка неплохая. Только у тебя нет совести. Я давно хотела с тобой поговорить про оценки. Жаль будет, если тебя отчислят.
– А мне в последнее время совсем даже не жаль…
Ольга Геннадиевна наконец оторвалась от телефона и внимательно посмотрела на меня. Ее губы были сжаты, а глаза, и без того круглые и не слишком умные, расширились, превратив лицо в огромный знак вопроса.
– Как? С утра мне такие новости совсем ни к чему. Ты что, больше не хочешь быть доктором?
– Да сложно это все. Много ответственности.
– Всем надо привыкать к ответственности. Кто-то же должен лечить людей? Кто-то же должен спасать, помогать, вытаскивать с того света?
– Но это делается так грубо, так неряшливо… Вы понимаете?
Тут я одумалась. Зачем мне это рассказывать? Если человек способен ворваться ради игры в палату больного, то суть моих мыслей ему точно не уловить. Я попыталась перефразировать:
– Мне кажется, больным нужен более гуманный подход. Им надо говорить правду, сочувствовать…
– Правду? Знаешь что, я с тобой посоветоваться хочу.
– Давайте.
– Подруга у меня сейчас лежит в Британии. Попалась ей собственная медицинская карта. Там написано: «Маркеры в анализе». И вот, значит, шлет она мне СМС-ку: «Олька, маркеры – это как понять?..» В общем, не знаю я, что ей отвечать…
Онко-маркеры – признаки рака. Их появление в крови свидетельствует о болезни.
Я долго думала, помолчала с минуту.
– И я не знаю.
– Видишь… а ты говоришь… Ладно, приходи завтра в девять. Сейчас, если честно, нет сил…
notes
Назад: Гиста
Дальше: Примечания

