Максим Кантор. Учебник рисования
«ОГИ», Москва
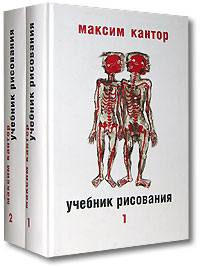
Странно, каким образом этот роман – настоящий собор: огромный, почти необъятный, многоярусный и богато убранный – выстроил один человек, и притом за относительно короткий промежуток времени. Еще страннее то, что, хотя по нему можно водить экскурсии, в принципе, он совершенно не нуждается в посредниках между собой и читателями. Как смысл готического собора в целом понятен любому прихожанину, так и канторовский роман не нужно «растолковывать». Он затейливо сконструирован, но в нем нет темных мест. Даже самые сложные темы – такие как философия истории – проговариваются и проигрываются в сценах множество раз, иллюстрируются простыми примерами и не вызывают затруднений. Достаточно просто прочитать этот «Учебник»; о том, про что роман, в сущности, может получить довольно четкое представление всякий, кто ознакомился с первой и последней главами; там очень внятно объясняется, что хочет сказать автор.
Однако возможность восстановить общий смысл романа по малому фрагменту обеспечена всем телом Романа. Эта прозрачность, ясность и простота достигнута за счет колоссального труда, способности автора к длинному дыханию, его настойчивого желания выстроить идеальную систему жизнеобеспечения для своих мыслей.
Именно поэтому нам показалось любопытным подробно воспроизвести ход рассуждений Максима Кантора и рассказать о некоторых его техниках – не для того, чтобы предоставить читателю-торопыге «выжимку», а чтобы продемонстрировать, за счет чего это громоздкое сооружение производит впечатление такого ажурного, пропорционального и гармоничного.
Краткое содержание. Рассказчика – и главного героя романа – зовут Павел Рихтер. Он из русско-еврейской семьи, интеллигент в четвертом поколении, художник, презирающий «авангард», – однако ему поневоле приходится вращаться среди деятелей так называемого «второго авангарда». Те после 1985 года с энтузиазмом участвуют в вестернизации России, продавая и покупая как наследство, так и плоды собственного творчества, материальные и иделогические. Павел женится на Лизе Травкиной, но затем влюбляется в красавицу Юлию Мерцалову и разрывается между двумя женщинами. Комический двойник Павла в романе – малюющий безликих пионеров концептуалист Гриша Гузкин, постсоветское ничтожество, правдами и неправдами пролезающее все дальше и дальше на Запад с намерением влиться в евроцивилизацию на максимально выгодных условиях. Его отношения с женой и любовницами пародируют и опошляют семейную неурядицу Павла Рихтера.
Настоящий второй главный герой романа – художник Струев. Как и Павел, его младший товарищ, он движется против течения: отказавшись от «рисования» и уехав торговать своими инсталляциями и перформансами за границу, «отец второго авангарда» осознает, что его место со своим народом, и возвращается в Россию – провоцировать элиту партизанскими выходками и мстить; искусство для него – та же драка, где надо либо победить и изменить ход истории, либо погибнуть. Тем временем широко мыслящие тростники все сильнее и сильнее деформируются под западным ветром – и так на протяжении двадцати лет, до 2005 года; нередкие экскурсы в другие эпизоды ХХ века (гражданская война в Испании, где комиссарствует бабка Павла Ида Рихтер; Вторая мировая, где дед, Соломон Рихтер участвует в воздушной дуэли с немецким асом Витроком) позволяют назвать роман хроникой не только этих двух десятилетий, но целого столетия.
Идеологи. Важное место в романе занимают философ и софист Соломон Рихтер и Сергей Татарников, представители старшего поколения. Это два комментатора меньше, чем другие герои, участвуют в событийной канве романа, зато они главные «подающие» на философском корте романа. Именно они в своих диалогах генерируют мысли, которые в дальнейшем транслируются Павлом и обкатываются им на себе и других персонажах. Оппонирует им, через подставных лиц обычно, номенклатурщик Иван Михайлович Луговой, который в финале наконец встречается с Рихтером в открытом бою – сначала философском, а затем комическом, с ножом.
Гигантская передовица из газеты «Завтра»? Местами канторовская хроника может производить впечатление беллетризованной публицистики. В «Учебнике» нет кульминационного события в жизни всего народа – 1993-го, допустим, или 1998 года – каким в эпопее Толстого был 1812-й, – однако сюда закатано множество эпизодов – от войны с олигархами до оранжевых революций; закатано – и объяснено: Чечня, дефолт, 93 год, Путин, засилье офицеров ФСБ во власти, разворот над Атлантикой, феномен Белоруссии Лукашенко и марш десантников в Приштине. Кантор не только воспроизводит эти события, но и, не менее трезво, чем Пелевин и Проханов – если уж брать расхожие образцы этого жанра, – формулирует суть происходящего и свое отношение к ним: «имеющееся у нас правительство есть пример того, как назначенный на управление менеджер решил сам стать хозяином производства, но не знает, как быть с экспортом товара». По страстности и по риторическому градусу публицистические пассажи Кантора соответствуют стандарту газеты «Завтра» («Коррумпированные политики, управляющие мафиозными правительствами и поддержанные люмпенинтеллигенцией и компрадорской интеллигенцией оккупированных стран, – это и есть тип управления, который сегодня обозначен как демократия. В той мере, в какой данный режим управления навязывается всему миру и осуществляется за счет всего мира, данный режим является фашистским») – и сильно упрощают дело тем, кто готов увидеть в Канторе всего лишь поздно проснувшегося эпигона Проханова, «раскаявшегося вольнодумца».
Даже по вышеприведенной цитате, однако, уже можно понять, что роман является хроникой не столько событийной, сколько идеологической – в том смысле, что главное событие века здесь не войны или путчи, а конфликт между христианством и язычеством. Авангардное искусство, фашизм и глобализация – вот то, что приключилось с христианством в ХХ веке, то, чем его подменили. История Кантора – это история про то, как христианство в ХХ веке, сохранившись формально, на деле обернулось неоязычеством.
В еще более узком смысле «Учебник» – роман о поражении России в третьей мировой и последствиях – на всех уровнях, от политики до искусства – встраивания империи, преданной «компрадорской интеллигенцией», в новый мировой порядок, в «Империю» в том смысле, который вкладывают в это слово левые философы Хардт и Негри. В еще более узком – пучок микророманов: любовного (линия Павла, его жены Лизы Травкиной и любовницы Юлии Мерцаловой), плутовского (линия Гузкина), детективных (расследование аферы с «Черными квадратами» и месть за убийство рабочего в деревне Грязь) и других.
Генезис романа. «Учебник рисования» – семейная хроника, и не в последнюю очередь эта хроника имеет отношение к семье самого Кантора. Автор считает нужным сообщить в специальном примечании, что несущая историософская концепция романа – «концепция разделения исторической материи на социокультурную эволюцию и проективную историю» – принадлежит его отцу, философу Карлу Кантору (подробно она изложена в книге «Двойная спираль истории», М., 2002). Как и его герой (или даже альтер-эго) Павел Рихтер, художник и писатель Максим Кантор родился (в 1957 г.) в русско-еврейской семье: он потомок аргентинских евреев (по отцовской линии; дед – испаноязычный драматург, профессор университета Ла-Плата в Буэнос-Айресе) и крестьян Русского Севера (по матери). Дом Канторов на Фестивальной, судя по некоторым свидетельствам, был известен в Москве; это был своего рода салон, куда съезжались интеллектуалы всех возрастов – от Александра Зиновьева до Павла Пепперштейна. Наблюдателю, запеленговавшему существование Кантора только после выхода его романа, трудно проследить, как автор пришел к такой системе взглядов. Проще всего вообразить, будто Кантор – разочаровавшийся в либеральных ценностях западник, крепкий задним умом. Однако знакомство с его публицистикой – и, немаловажно, картинами: «Смерть коммерсанта», «Государство» и проч. – 90-х говорит о том, что Кантор прошел известный, описанный им самим, маршрут – люмпен-интеллигенция, опьяненная продуктом «свобода»; компрадорская интеллигенция, очарованная возможностью продавать свои интеллектуальные продукты на рынке либеральных ценностей по высокой цене, – гораздо быстрее, чем его коллеги по цеху, и заявил о катастрофических перспективах горбачевско-ельцинского периода уже в первой половине 90-х – спровоцировав если не скандал, то недоумение: потому что сделал это в среде, где был принят иронический конформизм. Отсюда и канторовская репутация, удивительно напоминающая ту, что была у Чацкого ближе к концу пьесы.
Литературный Церетели? В начале 2006 года издательство «ОГИ», не побоявшись обвинения «не-стоит-бумаги-на-которой-это-напечатано», в пожарном порядке опубликовало канторовский роман, только что законченный.
К этому моменту у Кантора, автора сборника рассказов «Дом на пустыре» и нескольких публицистических текстов, не было достаточного веса в литературной среде, чтобы его роман, действительно в несколько раз превосходящий по объему среднестатистический, был воспринят и прочитан всерьез. Подшучивание и даже ерничанье над циклопическими размерами романа моментально стало общим местом; прочитавшие роман на все лады демонстрировали, что таким образом они сделали одолжение автору. Кантору, однако, повезло – «Учебник рисования» все же был выведен на орбиту архитектурным критиком Г. Ревзиным, который напечатал в «Коммерсанте» чрезвычайно сочувственный отзыв о романе, и дальше о нем «заговорили»; но, по большому счету, в самой литературной – то есть толстожурнальной по преимуществу – среде он так и не обзавелся статусом текста, обязательного для чтения. 1418 страниц восприняли скорее как курьез от художника, усевшегося не в свои сани, своего рода литературного Церетели, вдруг преподнесшего москвичам свою гигантскую книжку.
Подшучивание и даже ерничанье над циклопическими размерами романа моментально стало общим местом; прочитавшие роман на все лады демонстрировали, что таким образом они сделали одолжение автору.
Это ощущение непрофессиональности подтверждалось знакомством с первой главой и усугублялось ее финальной частью, претенциозной виньеткой о Художнике (началом трактата об искусстве: «Не следует считать это время истраченным впустую – наоборот, редко когда удается обменивать минуты и часы непосредственно на вечность» и т. п.); казалось, что таким – странной комбинацией слишком резкой сатиры и слишком неуместного пафоса – будет весь роман. Дальше «критикам» достаточно было поискать неизящные, лобовые, особого желчного юмора цитаты – «впрочем, многие старые слова теперь заменили новыми: вместо „убийца“ стали говорить „киллер“, а вместо „болтун“ – „культуролог“» – и вот такого рода вырванные из контекста остроты звучали уже как диагноз самому автору.
На самом деле первая глава не является показательной; и сатирические линии, и пафос постепенно растворятся и будут усвоены в большом романном организме, и станут выглядеть уместными – но до этого, а уж тем более до канторовской философии истории, речь о которой заходит не сразу, уже мало кому было дело. По-видимому, сыграл роль и тот фактор, что многие из тех, кто были прототипами героев романа, являются и столпами общества; разумеется, их раздражала эта галерея карикатур и они усердно пожимали плечами, делая вид, что Кантор если не объявлен уже давно сумасшедшим в мире художников, то уж во всяком случае не тот человек, чье мнение их вообще интересует. В результате о Канторе «поговорили» пару месяцев и фактически забыли; когда речь зашла об итогах года, редко кто упоминал «Учебник рисования». Если где-то он и фигурировал – то в номинации «Антисобытие», и уж тут авторы «итогов» изгалялись как могли.
По сути, в общественном сознании установился стереотип: «Учебник рисования» – памфлет про канторовских конкурентов на художественном рынке. Героев слишком много; это рыхлая масса одинаково безобразных персонажей, слипающихся в один ком. Что еще? Кошмарные вставки про миссию художника. Пафос – и ладно бы только про искусство, так ведь еще и про политику и нравственность.
Руки отдельно. 1418 страниц, два тома – много это или мало для романа обо всем? А «Учебник рисования» – книга именно обо всем: и о любви, и об искусстве, и о политике, и о войне, и о бизнесе, и о религии, и об истории. Чтобы рассказать обо всем этом, Кантору пришлось создать ее как синтетический организм: это и передовица, и памфлет, и философский трактат, и семейная хроника, и историческая хроника, и коллекция сократических диалогов, и искусствоведческое эссе.
Как Струеву, который вынужден будет драться с восемью людьми одновременно (и который уверен, что «вас всего лишь много, а я целый один»), Кантору придется столкнуться с известной задачей романиста, сформулированной Толстым: «сопрягать надо». Ему понадобится скоординировать множество явлений ХХ века: авангард, фашизм, неоязычество, управляемую демократию, кризис семейных отношений, терроризм, нравственную деградацию общества, упадок традиционного искусства, глобализацию-неоколониализм, падение авторитета христианства, увеличение социального разрыва между бедными и богатыми, роль интеллигенции как нового класса-гегемона при капитализме.
Код, через который Кантору окажется удобнее всего «сопрягать», – искусство. Искусство в самом широком смысле – и как творчество, и как искусствоведение, и как теория живописи, и как «арт-тусовка».
Роман написан художником, и это не оправдание недостаточной компетентности, а информация, сообщающая об умении изъясняться таким образом, каким не в состоянии говорить писатели-нехудожники. Это умение относится не только к способности рассуждать об искусстве или как-то оригинально выстраивать композицию. Кантор знает, как показывать предметы и явления таким образом, чтобы максимально достоверно раскрыть их внутреннюю сущность. В этом смысле один из самых впечатляющих эпизодов в книге находим в первом томе, в сцене свадьбы Павла (т. 1, с. 176): «Гости осмотрели худое лицо Кузнецова, потом стали смотреть на руки, самую выразительную часть его строения. Руки Кузнецова лежали вдоль столовых приборов по сторонам тарелки, как тяжелое холодное оружие. Они лежали словно бы отдельно от своего хозяина; тот принес их в дом и выложил подле вилок и ножей, временно оставив без употребления. Иногда он поднимал одну из рук и брал ею еду, но потом снова клал ее вдоль тарелки и оставлял там лежать. И взгляды гостей то и дело останавливались на этих неудобных в застолье руках. Широкие кисти, перепутанные пучки вздутых вен, выпирающие кости, содранная на суставах кожа – эти руки плохо подходили к свадебному столу. Сам Кузнецов не обращал на свои руки внимания, он помнил, где их оставил и где их можно найти, если возникнет нужда».
Это не литературный, а рисовальщицкий (кубистский, возможно, по происхождению) прием, основанный на оптическом эффекте: тело рассекается, одна часть его как бы изолируется от тела-«материка» и, по констрасту с этим «материком» (который фактически игнорируют: про лицо достаточно сказать, что оно «худое», прорисовать всю геометрию всего одной линией), максимально подробно, анатомически выписывается. Читатель/зритель испытывает странное ощущение от того, что по отношению к рукам дистанция уменьшена, а по отношению к прочему телу – увеличена. Одно и то же тело, по сути, деформируется таким образом, чтобы мы видели его с разных ракурсов. Эти руки – гораздо более автономные от всего остального, чем, например, глаза в традиционных психологических портретах, – оказываются выразительны не менее, чем эксплицитный психологический портрет. Действительно, это необычно, что анатомия может заменять «душеведение». Но именно поэтому, когда критика обвиняет канторовские характеры в плоскости, в нетолстовской психологической мелкости, следует иметь в виду, что Кантор просто создает психологические портреты другими, нетолстовскими техниками.
Озадачивает не только различие в техниках описания, но и сам факт «отсечения», возможности автономного существования части тела от самого тела – и при этом речь не идет о гротеске; такое остранение вряд ли имеет аналоги в отечественной литературной традиции.
Кантор-писатель коррелирует с Кантором-художником, и не только тематически (и тот и другой пишут картины, назначение которых – «взорвать общество»); совпадают их техники. По свидетельству искусствоведа Г. Ревзина, «стиль его офортов представляет собой странный сплав из откровенных карикатур, напоминающий советский „Крокодил“, с „Капричос“ Франсиско Гойи. Тема – Ад, раскрывающийся во всем». До некоторой степени это верно и по отношению к роману.
Мы еще увидим, что Кантор все время меняет технику рассказывания; многотипности повествования в «Учебнике» соответствует разнородность персонажей – не только социальная, но методологическая, в техническом смысле: портреты маслом выставлены в романе рядом с явными карикатурами, выполненными в графике. Тут есть свои реалистические персонажи, есть «воплощения» (затертое, но важное слово; Кузнецов, Татьяна Ивановна и Сникерс – воплощения абстрактного «народа»; они разные – и технически они реализованы по-разному), а есть – совсем гротескные фигуры. Рядом, иногда внутри одних сцен, сосуществуют реалистичный, написанный в соответствии с законами психологической перспективы Павел Рихтер, чисто визуальный, подчеркнуто анатомический, будто лишенный кожи, из одних мышц и костей состоящий Кузнецов, одномерный Гузкин, гротескный Сыч с хорьком, карикатурно расчеловеченный иностранный капиталист по имени Бритиш Петролеум, призрак Марианна Герилья, фоновый силуэт – обозначенный как «ставропольский механизатор» Горбачев.
Таким образом – характерная особенность канторовского письма – в пространстве одной картины взаимодействуют персонажи разной степени объемности и плотности – от нулевой или даже минусовой (как призрак) до стопроцентной; у одних есть судьба – а у других всего лишь имя, «Бритиш Петролеум».
Искусство как ключ к истории. Кантор – художник, и неудивительно, что именно искусство у него становится ключом к хронике, к истории; что роман, посвященный истории ХХ века, одновременно воссоздает и историю искусства ХХ века (с жесткими, неутешительными для сторонников «прогресса» вердиктами: «постмодерн в виде фарса повторил трагедию авангарда», «авангард стал салоном»). «Искусство – и так было на протяжении всей истории человечества – формирует идеалы, которые политика делает реальными». В искусстве все происходит раньше, чем в других сферах человеческого бытия, и поэтому искусство – код, симптом, по которому можно установить диагноз болезни общества.
«То, что в современном мире фашизм действительно существует, подтверждается фактом существования авангарда. Если искусство выражает общественные идеалы, то надо согласиться с несложным обобщением, что данному обществу портрет (рассказ об отдельной судьбе) менее потребен, чем знак (т. е. декларация общего порядка).Очевидно и то, что знак существует как произведение лишь тогда, когда он принят в качестве идеологии: не для анализа, а на веру. Невозможно же, в самом деле, вчитаться в квадрат и получить на другой день больше знаний о нем, нежели при первой встрече. Очевидно, таким образом искусство современного мира выполняет роль шаманского заклинания – действий бессмысленных, но обладающих эффектом энергетического воздействия. Сила энергетического воздействия принята обществом за эстетическую и этическую категории».
Сначала идеи, витающие в воздухе истории, проявляются в искусстве, а уж дальше они подхватываются политиками и затем реализуются на массах – или просто вульгаризуются; но, по сути, раз за разом демонстрирует Кантор, это одни и те же идеи, в каком бы опошленном виде мы их ни заставали. Сначала искусство утратило христианскую компоненту – а затем и политика стала фашистской, неоязыческой, исповедующей культ силы.
Так, черный квадрат есть проект демократии, главный ее символ; но сначала был квадрат, а потом – «управляемая демократия», а потом описанная в романе афера с фальшивыми «Черными квадратами». Сначала идею реализуют в «высокой» политике, затем в «низкой», почти в быту; на всех уровнях, видим мы, действуют одни и те же закономерности.
И постмодернистское, например, искусство есть не следствие, а средство формирования сознания при новом мировом порядке.
Читатель, понявший, как развивается искусство, поймет то, каким образом он получил ту политику, которую имеет, как, грубо говоря, у власти оказались Путин, Буш и Блэр. Любимая мысль Кантора (т. 2, с. 72): «Мир имеет ту политику и таких политиков, которые в точности соответствуют идеалам искусства, которое мир признает за таковое. В конце концов, политика не более чем один из видов искусства, а Платон ставил ораторское мастерство даже еще ниже, называя его просто сноровкой. Искусство – и так было на протяжении всей истории человечества – формирует идеалы, которые политика делает реальными. Наивно думать, будто искусство следует за политикой, так происходит лишь с заказными портретами. Но самый убедительный заказной портрет создают политики – и выполняют его в точности по заветам интелектуалов». Политики – по существу, те же художники, сами того не осознающие. Так, Горбачев, в канторовской системе координат, не кто иной, как «стихийный постмодернист».
Кантор намеренно перегибает палку, просто чтобы, когда он заговорит о главном – морали, его приняли либо всерьез, либо никак.
Павел Рихтер, в отличие от окружающих его «авангардистов», создает настоящие картины. «Огромные холсты, которые он писал в те дни, должны были показать всю структуру общества – и показать детально, до самого потаенного угла. Так он писал большую картину „Государство“, где в центре правили бал властители мира, рвали куски друг у друга из глотки, душили конкурентов; хозяев окружали кольцом преданные стражи и холопы, далее размещались ряды обслуги – интеллигентов, поваров, официантов, проституток. В ряды обслуги он включал и себя, он подробно рассказал, как его обман вписан в структуру обмана большого. Он написал Лизу и Юлию, себя, стоящего между ними, он показал, как эта лживая история вписана в конструкцию большой лжи». Когда Павел пишет свои картины, он пытается не просто зафиксировать состояние общества, но и повлиять на него своим «старомодным» искусством, перекрыть тот поток негативной энергии, который излучает «постмодернистское» искусство, создать античерный квадрат.
Картина и роман для Кантора – «наиболее внятные формы национального и исторического мышления, наиболее совершенные продукты, воплощающие историю», и одна из тем «Учебника» – почему общество ими «пожертвовало во имя налаживания производства некоего метапродукта новой глобальной эстетики».
Этот метапродукт – перформанс, инсталляции и дизайн, «квадратики» и «закорючки» вместо картин и романов – чрезвычайно раздражает Кантора, и поэтому его роман в определенной степени является памфлетом – но не о его знакомых художниках, а об антиискусстве. Сейчас, по мнению Кантора, «время дизайна»: «этикетка заменила картину». Торжество дизайна отражает общественное устройство: «Дизайн, – отчеканивает Кантор (устами профессора Татарникова), – есть форма существования привилегированных ворюг, которая становится для масс выражением прекрасных абстракций».
Столкновение дизайна и картины, болезненное для последней, как и произошло в ХХ веке, реализуется в романе и на самом простом, вульгарном – от такого не спрячешь глаза – уровне: Павел Рихтер (художник-пишущий-картины-с-идеями) узнает, что его возлюбленная Юлия одновременно спит с Валей Курицыным, дизайнером.
«Трактат по эстетике». Особый отдел романа – последние части каждой главы, складывающиеся в то, что сам Кантор в интервью называет «трактат по эстетике»: поучение на тему «что такое рисование и как следует рисовать». «Художнику следует выбрать, какой системе взглядов он отдает предпочтение. Тот, кто решил учиться рисовать, должен вести себя прилично». Собираясь высказать соображения, которые всему «прогрессивному сообществу» наверняка покажутся курьезно старомодными, Кантор намеренно перегибает палку – начинает «трактат» с медитаций на тему осанки художника, с гимнов кистям и палитре: просто чтобы, когда он заговорит о главном – морали, его приняли либо всерьез, либо никак.
Для Кантора существенно не просто наличие искусства в мире, но каким именно является это искусство. «Художник пишет для того, чтобы его картины понимали. Картина может быть истолкована только одним образом, двух толкований у картины быть не может. Образ для того и существует, чтобы быть понятым определенно». «Поскольку идея существует как строго определенная субстанция, ее зримое воплощение (образ) также определенно. Этим образ отличается от знака, который может значить все что угодно».
Искусство, по Кантору, обязано быть нравственным – просто потому, что у искусства есть миссия. Искусство – единственный способ транслировать бескорыстную любовь. Искусство позволяет сделать историю более человечной, христианской, внести в нее любовь, уменьшить биологическую жестокость, спасти мир (ну или наоборот – если искусство дегуманизируется). Христианство с этой миссией не справляется – потому что христианство быстро становится институтом, обрастает церковью; тогда как прекрасные произведения искусства излучают любовь как таковую. У искусства есть функция – различать добро и зло, указывать на то, как все на самом деле устроено; и когда искусство превращается в малевание квадратиков и закорючек, эффект от этого чувствуют не только посетители арт-галерей. Художник пишет потому, что такова его миссия. Мир спасет не правильная идеология, но правильное искусство, форма, рисование.
«Старомодная» мысль Кантора состоит в том, что, поскольку искусство должно быть моральным, то это же требование распространяется и на самого художника; иначе он будет говорить ложь – ну или, по крайней мере, его искусство будет нести зло.
Эти сорок шесть маковок, по одной на каждой главе, – может быть, лучшее, что есть в романе. Наставляя и проповедуя возврат к гуманистическим ренессансным ценностям, Кантор объясняет смысл своей деятельности. «Структура изобразительного искусства затем и придумана, чтобы собрать воедино разнесенные во времени и по величине фрагменты бытия. Наша жизнь символична сама по себе – и не искусство сделало ее таковой. Картина лишь призвана напомнить, что всякая деталь нашего быта неизбежно становится событием, и нет случайной истории, которая бы не участвовала в общей мистерии».
Философия истории и противозачаточные средства. «Основной для меня сюжет, – сообщил Кантор в интервью автору путеводителя, – я бы определил как движение истории. Диалоги софиста и философа (Татарникова и Рихтера соответственно) именно этому сюжету и посвящены. Что есть история – проектируема ли она? Что есть проект истории – соблазн, зерно развития, парадигма свободы и т. д. Развитие и разрешение этого сюжета составляет главную тему романа – прочие же вплетены в книгу попутно, как иллюстрации».
Философия истории Кантора обсуждается его критиками гораздо реже, чем карикатуры в романе, – но на самом деле она есть то, ради чего написан роман, роман, где история разворачивается в картинах.
Несмотря на название и трактат в сорока шести главах, именно «общая мистерия» – а не искусство, авангардное или традиционное, – центральная тема романа. В конце концов, сообщает хронист, «я связал свое повествование с историей искусств, но равным образом оно могло опираться на экономическую и политическую историю, на историю литературы или металлургической промышленности. Исходя из любой точки бытия можно вести хронику.
И лучшей отправной точкой для всякого рассказа является отдельная судьба».
«Общая мистерия» – означает: история. История как хроника и история как наука о законах развития действительности. Конкретный уровень – хроника – иллюстрирует действия более абстрактных закономерностей. Читатель сам должен понять на примерах из жизни героев, насколько состоятельна философская теория Рихтера.
Заключается историософская теория Соломона Рихтера, деда Павла, в следующем. Параллельно протекают две истории: «одна, воплощенная в события и факты, и другая, воплощенная в идеи и произведения интеллекта. Вторую историю (т. е. историю духа) он именовал собственно историей, а первую (т. е. историю фактическую) называл „процессом социокультурной эволюции“». По Рихтеру, процесс социокультурной эволюции порой совпадал, но чаще не совпадал с историей. Поступательное во времени движение обоих процессов Рихтер именовал двойной спиралью истории и сравнивал со спиралью ДНК. Развиваясь одновременно и параллельно, оба эти процесса (по Рихтеру) и делали нашу жизнь тем, что она есть. История придавала социокультурной эволюции смысл и цель, история готовила для социокультурной эволюции планы и чертежи развития, а социокультурная эволюция то следовала в соответствии с замыслом истории, то не следовала. Такой исторический замысел, который социокультурная эволюция либо осуществляла, либо предавала, Рихтер именовал парадигмальным проектом истории. Соломон Моисеевич обозначал три таких проекта: «религиозный, эстетический, научный» или, другими словами, христианство, Ренессанс, марксизм.
Соломон Рихтер, убежденный, что история есть воплощающийся проект, – сторонник того, что называется в романе «идти на таран»: он считает, что человек должен напрямую участвовать в истории, устраивать революции, следить за тем, чтобы проект воплощался (сам, однако, комическим образом, он ничего и не делает). Идеологии – такие мощные, как марксистская, – меняют характер исторической эволюции, придают истории импульс развития. Оппонент Рихтера, Татарников, говорит, что никакого проекта нет и все в мире зависит от случайностей – «история существует помимо нас». Рихтер возражает: «История существует помимо нас, только если она – цепочка бессмысленных событий. Но мне не нужна такая история».
« – Зачем вообще эти проекты нужны? – осторожно спрашивает Татарников?
– Как зачем? Вы еще спрашиваете об этом! Затем существует великий замысел,что если его не будет, если не будет великой общей идеи, то тогда людьми будут править идолы. Идолы только и ждут момента, когда у человечества уже не будет пророков, – тогда они придут и возьмут все себе. Общей идеей тогда станет язычество – культ силы, торжество богатства и власти! Отнимите у человечества цель – и целью станет власть сильных над слабыми».
Собственно, эта двойная спираль реализована и в строении романа: с одной стороны, мы наблюдаем за отдельными эпизодами из жизни общества – и вот это история как «процесс социокультурной эволюции», а с другой – в нем постоянно генерируются идеи, создаются картины, реализуются персональные исторические «проекты» – когда кто-либо из персонажей отваживается идти на таран истории. Кантор «сопрягает» обе спирали.
Попутно отметим, что все «высокие» идеи в романе имеют свои «низкие» соответствия, и «двойная спираль истории» – не исключение. Так, старик-Рихтер звонит проститутке Анжеле, с которой познакомился на прогулке, и, по обыкновению, излагает ей свою историософию – тогда как девушке, слушающей теорию о двойной спирали истории, кажется, что старик предлагает ей новое противозачаточное средство – вставить двойную спираль.
Живые в романе – это те, кто готов таранить историю, а не просто социокультурный планктон, который просто плывет по историческому течению; потому что если не «таранить», будет торжествовать зло; и поэтому Струев, главный таранный персонаж «Учебника», говорит, что искусство – это драка. В отличие от Толстого, также автора историософского романа, но относившегося к «великим людям» крайне скептически, Кантор уверен, что отдельный человек, пусть даже и руководствующийся эгоистическими побуждениями, может изменить общий ход событий; прямое участие человека в истории меняет историю. Энергии бешеного калмыцкого сердца Ленина хватило едва ли не на пять поколений его противников, он и после смерти продолжал ее проектировать.
Собственно, канторовский роман есть, во-первых, апология трех уже состоявшихся и теперь в разной степени оболганных проектов – религиозного, эстетического и научного (христианство, Ренессанс, марксизм) и выкликание нового Великого Парадигмального Проекта, «великого замысла».
Впрочем, это не безоглядная, а и осторожная тоже апология. В Заключении сказано, что Рихтер прав, человечество нуждается в проектной истории, но проект на то и проект, чтоб кто-то остался вне его – а это плохо. Таким образом, Кантор не дает в романе однозначного ответа, какая история лучше – обычная или спроектированная. Лучше та, внутри которой будет лучше семье – и не только героям и их ближайшим родственникам, но и семье как целому народу.
Предательство интеллигенции. Среди героев «Учебника» есть и «народ», и капиталисты, и чиновники, но центральную роль здесь играет класс самоназванных аристократов – интеллигенция; так в «Войне и мире» речь шла о судьбе всего народа, однако на первом плане все же было дворянство.
Здесь есть журналисты, профессора истории и директора музеев современного искусства, священники, галерейщики, редакторы, поэты, философы и телевизионщики. Здесь особенно много искусствоведов, художников, культурологов и кураторов.
Такой интерес Кантора к интеллигенции обусловлен тем, что она стала тем классом, на плечах которого в Россию пришел капитализм (также, впрочем, персонифицированный в романе – здесь есть несколько олигархов, бандитов, эфэсбэшников и чиновников). «Учебник» – роман о роли интеллигенции в истории конца ХХ века, о том, как интеллигенция стала тем классом-гегемоном, который легитимизировал богачей, предоставил им идеологическое обеспечение их превосходства – и предал народ, скормил его власти в надежде любой ценой «прорваться в цивилизацию»; классом, променявшим почву на доступ к мировой культуре, к «Европе» – вместо того чтобы разделить участь народа.
Кантор, собственно, произнес: вы – то есть мы – скоты, потому что бросили народ, за который ответственны, перестали говорить, как народу плохо, и принялись петь, как хорошо всем будет при капитализме.
Чтобы точнее сформулировать претензии к классу предателей – а это, несомненно, одна из задач романа – Кантор выделяет два типа интеллигенции – компрадорскую и люмпен-интеллигенцию, более и менее циничную. Семья Кузиных в романе – компрадорская интеллигенция, Рихтеры – люмпены. Для удобства манипуляции их мнениями идеологи капитализма в России создали две либеральные партии – Кротова (СПС) и Тушинского («Яблоко»). Одних купили дороже, других – дешевле, но своей обязанностью – представлять интересы народа – пренебрегли и те, и другие. И те, и другие, по существу, сделались коллаборационистами, а то и опричниками нового порядка – в печати и устно разъясняющими электорату, как следует себя вести при нынешних хозяевах.
«Теории, – замечает Струев в главе „Вой русской интеллигенции“, – выдумывают здесь для того, чтобы пролезть в число управляющих. Любая цивилизаторская теория здесь – это оправдание паразитизма и разрешение начальству дальше гробить народ. Русский европеец – это опричник». Кантор проходится не только по нынешним интеллигентам, но и по ее идолам – по Бродскому, например, который мало того, что эмигрировал, то есть, по Кантору, бросил свой народ, среди прочего, успел сформулировать индульгенцию для капиталистов – «Ворюга мне милей, чем кровопийца»; возможно, в Венеции так оно все и было, но в России, убежден Кантор, при «кровопийцах» народу было не так плохо, как при «ворюгах».
Разумеется, канторовская резкая критика интеллигенции не является откровением. Да, интеллигенция, воспевающая доступность удобных электроприборов, выглядит глупо и достойна презрения; однако ни Пелевин, ни Проханов не показали всей глубины падения; они не обвинили впрямую интеллигенцию в предательстве. Тогда как Кантор, собственно, произнес очень простую вещь: вы – то есть мы – скоты, потому что бросили народ, за который ответственны, перестали говорить, как народу плохо, и принялись петь, как хорошо всем будет при капитализме. Кантор, мало того, произнес слово «ненависть»: «Всегда их ненавидел. За то ненавижу, что они променяли искусство на прогресс, первородство на чечевичную похлебку».
Это предательство интеллигенции не принесло ей счастья – как предательство Павлом жены не принесло счастья ему. И сейчас – в финале романа – интеллигенция, шугающаяся нового засилья ФСБ, выглядит жалкой. Интеллигенцию саму одурачили, «кинули», стали оттирать от всякой реальной власти (как Павла одурачила Юлия Мерцалова) – и она сама в этом виновата. Впрочем, продемонстрировав, до каких мерзостей может дойти интеллигенция, Кантор все-таки в финале заставит читателя пожалеть своих героев; победившие капиталисты плохо относятся и к предателям тоже, и все они кончают не очень-то хорошо – кое-кто так и в буквальном смысле на помойке.
«Мысль семейная». Кантор много раз дает понять, что его роман – проекция двух толстовских; главы в нем, бывает, начинаются фразами, производящими впечатление даже не имитаций, а прямых цитат («Все, что происходило с его семьей, происходило на тех же основаниях и так же, как в иных семьях»), и в нем тоже если не главную, то существенную роль играет «мысль семейная», причем термин «семья» употребляется максимально расширительно, родство понимается не только как кровное, но и как близкое, исторически сложившееся соседство с общим психическим складом, то есть принадлежность к одному народу, и даже такая степень родства в канторовской нравственной системе уже подразумевает наличие ответственности более успешных элементов системы за менее успешные.
О том, что семья для Кантора – больше чем «сообщество близких родственников», говорит феномен наследования в романе некоторых черт некровными родственниками. У летчика Колобашкина такой же приметный оскал, как у Струева. Это важно – наследование происходит не только внутри кровной семьи, признаки перебрасываются дальше, внутри целого народа. Важно, с одной стороны, потому, что история одна для всего народа, а не только для отдельных семей, а во-вторых, потому, что тут мы видим, как исторический проект реализует себя любыми способами, преодолевая «случайные закономерности».
Роман есть хроника распада страны, распада общества и распада семей.
Как везде у Кантора, первоначальный импульс дает искусство, а уж затем идея распространяется в других сферах общественной жизни.
Аморализм в искусстве отзывается аморализмом в политике и в личной жизни. Все ведь относительно, заявило языческое искусство; и все поверили. Павел, ушедший от жены, оправдывает свой уход так же, как западные люди – измену моральным ценностям.
Семья, личная жизнь – один из самых наглядных (и болезненных для героев) примеров того, как функционируют идеи в обществе. (И именно поэтому Кантор так часто говорит об адюльтерах своих героев – а не по привычке сплетничать об интимной жизни других людей.)
С одной стороны, Павел Рихтер оправдал свою измену жене «свободным искусством, так же, как делали это презираемые им авангардисты»; с другой – «Жизнь самого Павла является проекцией политической ситуации в целом».
Хуже то, что он знал, на что идет, – раз понимал, что «искусство и личная жизнь связаны прямо – и что невозможно кривить душой в личной жизни и быть художником».
В итоге Павел оказался наказан дважды – стыдом за измену семье и изменой за уступку соблазну.
Павел полагал, что то, что касается всех, может не коснуться его, – и ошибся. «Но не до конца, думал я, не до конца. Им меня не достать. Но вот они залезли ко мне в постель». Если не противостоять злу активно – не «таранить» его, а только закрываться или дистанцироваться от него, то оно победит везде.
История семейной жизни Павла, устроившего из своей жизни «такую помойку, какая не приснится и дворовой собаке», – «Он лежал без сна, как обычно бывало с ним теперь, и думал, что вместо счастья (считается, что именно счастье приносит любовь) он получил в жизни стыд и раскаяние» – иллюстрирует очень точную и, может быть, самую болезненную для усвоения мысль Кантора, точнее, парадокс о свободе: «Свободы не существует для личного пользования; отдельная свобода не идет впрок. Лишь тогда, когда ты видишь, что другие счастливы и покойны (а это может произойти, если они тоже свободны), тогда и ты можешь полностью наслаждаться свободой. Поэтому стремление выдавить из себя раба и обрести отдельную от других рабов свободу – стремление пустое и ведет к безнадежному существованию».
Чем очевиднее рушится личная жизнь, семья, родина и чем убедительнее идеологические оправдания этого распада как разумных издержек, случающихся при «прорыве в цивилизацию», тем горячее Кантор защищает саму идею семьи, в широком смысле. «Однако идея, объединяющая миллионы людей, заставляющая их чувствовать себя одним организмом, – безусловно, есть. Это идея русского языка, русской природы, русского типа отношений. Эта идея имеет конкретное воплощение в определенном характере человека и называется конкретным словом – судьба. Судьба, связывающая многих людей, может быть горька и не очень, безусловным правилом является одно – она общая. Изменить ее можно сразу для всех – или ни для кого. То, что судьба может не нравиться человеку, наделенному этой судьбой, – очевидно. Очевидно и то, что, разрывая отношения с ненавистной родней, человек этот общей судьбы не меняет. Так человек, оставляя семью, не может считать, что он изменил эту семью, он просто ушел из этой семьи. Уйдя из семьи, такой человек продемонстрировал, что воля может преобладать над долгом: ничто не невозможно, он взял и ушел. А судьба его семьи осталась прежней, как и судьба огромного народа, который называется русским, не меняется, если его покидают те, кто не выносит неприятного соседства. Именно общность судьбы и является народной идеей – как общность семьи является идеей семейной».
«Иными словами, можно охарактеризовать народную идею как идею солидарности и взаимной ответственности».
Интеллигенция – тот член семьи, который повел себя безответственно.
«В тот момент, когда один из членов семьи, пользующейся старыми санями, соблазнился возможностью пересесть в автомобиль, участь семьи была решена. Предательство интеллигенции, отказавшейся от своего народа, определило неизбежность гибели страны. Размыло культуру, размыло язык, перестало существовать искусство – и общая судьба предстала во всей своей неприглядности… И рухнула страна. Не стало страны, за которую мог бы бороться народ, не стало ничего, ради чего могла бы пойти так называемая прогрессивная интеллигенция умирать. Размылилась держава. И дубины народной войны не нашлось – в ломбард сдали дубину, заложили за пару долларов, чтобы купить „сникерс“».
Есть в романе и «любовница», «разлучница», фигура соблазна, разрушительницы идеи семьи: «Бесстыдная и бессердечная, эта женщина останется всегда желанной. В хронике она носит имя Мерцаловой, но у нее есть и другое имя. Ее можно назвать – цивилизация».
Сатирическая комедия? Кантора одинаково легко представить и Аввакумом, стучащим клюкой с высокой кафедры, и ядовитым памфлетистом, изъясняющимся остроумными шпильками, вроде следующей: «Отчего именно открытое общество обзавелось железными дверьми, а предыдущее, казарменное, обходилось без них, понять было сложно». На самом деле ни то, ни другое не точно. Кантор и не Аввакум, и не лорд Байрон; он ядовитее, непримиримее, «конкретнее», чем, например, Пелевин; если уж в самом деле искать ему компанию, то он окажется ближе к Свифту, Щедрину и Проханову. Чтобы почувствовать свойственную Кантору желчную сатирическую интонацию, откроем, например, главу «Палата номер семь», пятая главка. «Корабль „Аврора“, легкий прогулочный катер, приписанный к Московскому речному пароходству, был арендован прогрессивной столичной интеллигенций по случаю дня рождения министра культуры Аркадия Ситного. Проявив живую фантазию, прогрессисты выкрасили белый пароход в черный цвет и распорядились обить борта жестью – дабы придать полное сходство со злополучным крейсером. ‹…› Отец Николай Павлинов, обряженный в революционного агитатора, в фуражке, надвинутой на глаза, в скрипучих сапогах, держал в руке плакат „Долой Бога!“, другой прижимал к животу бутылку бордо и выкидывал потешные коленца» (т. 1, с. 125-126).
На читателя, знакомящегося с «Учебником» «по диагонали», канторовский роман может произвести впечатление сатирической комедии. Здесь в изобилии присутствуют и памфлетные, и бурлескные, и фарсовые, и гротескные сцены. Есть сцена, где художник-скотоложец Сыч присутствует на пресс-конференции в Политехническом своего бывшего любовника хорька, который бросил его (тут узнается развитие гоголевского мотива: сбежавшая вещь, которая не может вести отдельную жизнь – однако ж); есть пародия на салон Анны Павловны Шерер. Есть «Филип Преображенский» – человечек-инсталляция, плавающий в аквариуме в галерее Поставца. Есть сцена с арт-теоретиком Петром Труффальдино в борделе.
Однако роман не сатирический; он посвящен «высоким» идеям и способным проектировать историю героям – у которых, однако, есть свои «низкие соответствия», пародийные копии, полуанонимные субъекты социокультурного процесса, и вот вокруг них-то и проложены сатирические «коммуникации» романа. Роман – сложная система соотношения пафосного и сатирического, возвышенного и низкого.
Есть Павел Рихтер и есть Гриша Гузкин (двойник Павла, персонаж плутовского романа, воплощение компрадорской интеллигенции без родины), есть Сыч (более отдаленный двойник Рихтера, артист, еще дальше ушедший от картины, воплощение идиотического искусства «перформансов», любовник хорька – и персонаж гротескной линии), есть мастер дефекаций из Гомеля (двойник уже даже не Павла, а Сыча, наирадикальнейший радикал, заменивший картину говном уже не метафорическим, а реальным, неудачливый объект инвестиций арт-критиков). Преступная любовь Павла к двум женщинам дублируется в сюжете как карьерные интрижки Гриши Гузкина, как гротескное скотоложество Сыча – и как трагикомическое одиночество мастера дефекаций из Гомеля. Сцены с двойниками – несомненно, сатирические; однако Гузкин, Сыч и прочие – именно антигерои; им уделяется много внимания, но если роман и напоминает иногда карнавал, то, как всякий карнавал, он жестко структурирован – и «низ» знает свое место, выполняет исключительно служебную функцию. Антигерои любопытны автору лишь как двойники – ну или как те, чья душа еще, в принципе, способна возродиться. И самые экстремальные сатирические сцены – как день рождения Ситного на «Авроре» – возникают в романе, только чтобы стать иллюстрацией того, до какой степени может быть опошлена та или иная идея (в случае с «Авророй» – марксизм и революция). И заканчиваются они обычно мрачным авторским комментарием. «Так палата сифилитиков смеется над чумным бараком». Кантор понимает, что из-за того, что идея может быть опошлена, не следует, что идея дурна.
Интеллигенция бросила семью, освободилась от ответственности за народ и пустилась в вольное, как ей представлялось, плавание – а на самом деле превратилась в инструмент капиталистов. Этот марионеточный статус, отягощенный фактом предательства, и обусловливает то презрение, которое испытывает к интеллигенции Кантор, – и ту сатирическую технику разных типов, которой он пользуется по отношению к ней. Кантор ставит своих интеллигентов в абсурдные, гротескные ситуации не потому, что это его знакомые, чем-то ему насолившие, – а потому что они как класс повели себя недостойно и безответственно; может быть, к конкретным людям это и не относится (а впрочем, и они должны разделить ответственность, не стоит думать, что роман посвящен совсем уж абстракции). Но сатирические выпады против интеллигенции не означают, что Кантор презирает саму идею интеллигентности.
Прототипы. «Роман с ключом»? Едва ли не самое распространенное заблуждение относительно «Учебника рисования» состоит в том, что роман имеет смысл читать, только если знаешь, кто именно «из своих» в нем выведен.
Список возможных – и по каким-то причинам узнаваемых – прототипов оказывается даже больше списка действующих лиц: Михалков, Зиновьев, А. Яковлев, Явлинский, Швыдкой, Кулик, Ходорковский, Мизиано, Чубайс, Деготь, Алекперов, Амирханова, Бренер, Максим Соколов, Брускин, Церетели, Кириенко, Глазунов, Кабаков, Мамышев-Монро – и это только верхние строчки этого списка. Не всегда с точностью можно указать, кто есть кто; многие образы – действительно собирательные. Дима Кротов, похоже, имеет некоторое отношение к Кириенко – но именно что некоторое. Багратион – это, по-видимому, обобщенный Церетели + Глазунов, но и не только. Соответствие вычисляется по внешним признакам (бородка Гриши Гузкина, речь Петра Труффальдино), по общественному статусу и деталям биографии (Осип Стремовский, Дупель), по фонетическому или семантическому сходству фамилии (Ситный, Тушинский).
Быть прототипом канторовских персонажей вовсе не обязательно означает попасть в ад; иногда это всего лишь чистилище.
Очевидно, что если герои Кантора и соотносятся со своими прототипами, то либо не напрямую, либо – с несколькими прототипами одновременно.
Можно предположить, что фигура Лугового в романе получила свои контуры от А. Яковлева – но по сути от того, так это или не так, ничего не меняется. Важно, что в общественной структуре есть этот нервный узел – «черный квадрат», засасывающий энергию и излучающий зло; и Кантор скорее пытался указать на эту черную дыру, чем на конкретного человека. В конце концов, конкретные люди в романе названы своими настоящими именами – Горбачев, Путин, Блэр, Буш.
Характерно, что тезис о собирательности относится и к прототипу по имени Максим Кантор – который, можно предположить, спроецировался сразу на нескольких персонажей, и «отрицательных» в том числе. Так, Гузкин наверняка имеет отношение не только к Брускину, но и к самому Кантору, к его опыту заграничной жизни, это еще и автопародия, карикатурный автопортрет. Хотя, разумеется, в гораздо большей степени сам Кантор прототип других героев: Павла Рихтера, Струева, Антона.
Еще одна любопытная в связи с этой темой – и не только, вообще важная для романа фигура – философ и писатель Александр Зиновьев.
Во-первых, он появляется в романе собственной персоной, правда, за сценой: Струев привозит в Россию Зиновьева, но успеха затея не имеет. Причину равнодушия публики к автору «Зияющих высот» объясняет Борис Кузин – слишком поздно, теперь никому не надо. Зиновьев был востребован как критик советского строя, но когда он, один из первых, в 1990-м, заявил, что крушение коммунизма – «катастройка» – оказалось для России еще более катастрофическим, его списали со счетов. Зиновьев – который был ближайшим другом Карла Кантора и в своем роде крестным отцом Максима Кантора, по-видимому, прототип обоих философов романа – и Татарникова, и Рихтера. Как и Рихтер, Зиновьев был во время войны летчиком, а потом профессором философии; как и Татарников – он русский патриот и едкий, язвительный софист. Странное совпадение: Зиновьев умер практически сразу после того, как был опубликован «Учебник рисования»; кто-то мог бы сказать – «обретя явного наследника». Сам Кантор произнес в некрологе «Постараюсь прожить так, чтобы он не был разочарован».
Вообще, быть прототипом канторовских персонажей вовсе не обязательно означает попасть в ад; иногда это всего лишь чистилище. Публицист-западник Борис Кузин здесь и смешон, и жалок, и трогателен, и симпатичен. Обижаться ли, например, публицисту Максиму Соколову на Бориса Кузина – или радоваться, что его взяли в финал, вместе с еще одиннадцатью бродячими собаками? Последняя фраза, опять же, не означает, что под именем Бориса Кузина в романе выведен Максим Соколов. Выведен не сам М. Ю. Соколов, а тип интеллигента, с ним ассоциирующийся. Не исключено, что М. Ю. Соколов, в системе ценностей М. К. Кантора, принадлежит к этому типу – но не более того.
Итак, «Учебник рисования» – это не «роман с ключом». (Хотя, по правде сказать, невозможность соотнести некоторых персонажей с конкретным лицом вызывает некоторое беспокойство – ну раз уж все остальные так или иначе соотносятся. По-видимому, читатель, имеющий представление по крайней мере о круге возможных прототипов, обладает некоторым преимуществом относительно совсем несведущего читателя.)
Есть ли вообще смысл в «расшифровке» имен канторовских персонажей, стоит ли, в самом деле, соотносить их с конкретными прототипами, даже если их фамилии кажутся созвучными? Ответ «нет», и прежде всего потому, что попробуйте оглянуться – и вы обнаружите тех же Снустиковых-Гарбо и Ефремов Балабосов практически в любой сфере общества, даже и бесконечно далекой от тех, где устраивает свои публичные порки Кантор.
Если бы «Учебник рисования» был только сатирическим романом, то к нему можно было бы предъявить серьезные претензии. Сатирический роман всегда есть ревизия текущего состояния общества – ревизия, требующая каркаса, сюжетной конструкции, какая есть в «Мертвых душах», в «Мастере и Маргарите», в «Двенадцати стульях», да даже и в «Чапаеве и Пустоте». «Учебник рисования» – это, помимо всего прочего, еще и ревизия светской, погрязшей в адюльтерах, коллаборационизме и нечестном бизнесе, Москвы. Но всего лишь «помимо»; потому что на самом деле это не ревизия, а, во-первых, хроника, во-вторых, «лабиринт сцеплений», мысли, данные в развитии. Сатирические сцены – всего лишь вспомогательные: в них демонстрируется, что происходит с идеями, когда они вытаскиваются на улицу, реализуются на никчемном человеческом материале.
Карикатура – лишь одна из техник; с ее помощью нарисованы многие персонажи – но далеко не все. Некоторые персонажи выполнены только в ней, некоторые – с помощью наложения нескольких, разных техник. Автор – в том случае, если он симпатизирует герою и готов поверить, что тот сможет искупить свое предательство, – как бы начинает прорисовывать характер, делать его глубоким и объемным.
«Война и мир»? Кантор, которому на момент публикации «Учебника» было под пятьдесят – примерно тот возраст, в каком Толстой работал над «Войной и миром», – часто кивает на своего «ровесника» и его роман; «Война и мир» – главный жанровый и отчасти композиционный компас Кантора. Как и «Война и мир», это роман, повествующий не только об отдельных личностях, но и о целом народе. Как и «Война и мир», это рассказ об очередном нашествии на Россию двунадесяти языков – либеральном нашествии (только вот «дубина народной войны», комментирует хронист, на этот раз не была поднята, а оказалась заложена в ломбард). Как Толстому для того, чтобы рассказать про 1825 год, потребовалось начать с 1805-го, так и Кантору для хроники «катастройки» пришлось обращаться к истории всего ХХ века и особенно испанской гражданской войны. В основе ценностей обоих романов лежит «мысль семейная». Оба романа переполнены громоздкими, крупнотоннажными размышлениями, переводящими хронику в иллюстрацию более общей историософии. Оба романа похожи структурно: они открываются салонными сценами (салон Шерер и вернисаж авангардного искусства); у Кантора в романе два любимых героя – один, Павел, как Пьер Безухов, более склонен к созерцанию, к «миру»; второй, Струев, как Андрей Болконский, – к действию, к «тарану», к «войне»; в «Учебнике» есть свой Каратаев – Кузнецов, есть своя Ахросимова – Татьяна Ивановна, есть своя Элен – Мерцалова; есть даже некто вроде Наполеона и Кутузова одновременно – Луговой. Разумеется, некоторые соответствия натянутые, но система персонажей канторовского романа в целом легко накладывается на толстовскую.
Любопытно, что и восприятие современниками «Учебника» очень напоминает восприятие «Войны и мира». «Войну и мир» тоже прочитывали как обличение света и аристократии, тогда как на самом деле для Толстого важны были не социальные характеристики его героев, а их способность чувствовать, и на этом основании они разделялись в романе на фальшивых и подлинных.
Что означают эти постоянные оглядки на Толстого? Кантору, который, разумеется, понимает, как нелепо могут выглядеть его два кирпича с рассказом о тяжелой судьбе народа в эпоху мирового кризиса, нужно сослаться на прецедент – особенно в жанровом смысле. Русская литература, подразумевает Кантор, время от времени генерирует такие произведения, обобщающие опыт целых эпох и поколений, произведения, где судьбы отдельных героев срастаются в судьбу целого народа.
Не следует, однако, воспринимать текст Кантора как буквально «Войну и мир»-2. В «Учебнике», может статься, нет таких живых картин и ярких сцен, как «охота» или «ночь в Отрадном», или таких массовых сцен, как Шенграбен или Бородино, – ну так здесь есть кое-что другое. Есть струевская «мышеловка», есть сцена воздушного боя, есть не менее пронзительная, чем хрестоматийные толстовские, сцена, где Павел тайком пьет с собственной женой чай: «Павел любил свою жену тайной любовью – стесняясь своего чувства, понимая его несуразность. Так люди, коим общественный статус предписывает любить чужие города и размах цивилизации, тайком любят свою отсталую Родину; признаться в этом неловко, требуется хвалить Париж и Нью-Йорк – и люди так и делают, чтобы никого не разочаровать».
Возможно, герои Кантора не всегда соответствуют толстовскому стандарту психологического романа, в массе они площе, чем толстовские, – но Кантор и работает в другой, собственной технике: ему и нужно, чтобы в его картине одни персонажи были глубокими и многомерными, другие – двухмерными, а третьи – совсем плоскими.
«Гамлет» и другие в романе. «Учебник рисования», помимо всего прочего, есть продукт европейской культуры, роман-палимпсест, и автор не просто выстраивает здание романа на типовом фундаменте, но всячески экспонирует свое «блаженное наследство»; роман наполнен явными отсылками к чужим текстам и картинам; читатель может и должен воспринимать его в определенном ряду. В нем слышны и видны Гойя и Ван Гог, Шекспир и Достоевский, Сервантес и Булгаков. В нем узнается не только «Война и мир», но и пикассовская «Герника», и сходство между двумя произведениями не ограничивается размерами; фашизм, показывает Кантор, не болезнь, которую к началу XXI века победили, а вектор развития современной «цивилизации», то, что прямо сейчас происходит с миром; и цивилизаторы через своих агентов влияния наносят России не меньший ущерб, чем люфтваффе – испанской Гернике за семьдесят лет до этого. Именно поэтому – в том числе – так кстати приходятся в романе испанские главы: в Испании произошло то, что позже произойдет с Россией.
Кантор пишет свой роман на полях чужих текстов не ради игры; отсылки к чужим текстам – это ссылка на прецеденты, знак того, что он занят теми же важными для всего человечества вопросами, а также обозначение своей претензии на право наследования. Для Кантора важен цеховой, артельный пафос – он, Толстой, Сервантес, Шекспир, Достоевский, Блок, Булгаков, Зиновьев делают общее дело, они все гуманисты, все они посланы сюда ради того, чтобы улучшить, спасти мир, и если ты чувствуешь в себе силы справиться с миссией, нечего стесняться говорить о ней; высокопарность в любом случае лучше, чем вечное пошлое хихикание.
Вторым по значимости «чужим текстом» после «Войны и мира» для романа является «Гамлет». Несколько глав так или иначе отсылают к шекспировской теме уже в названиях: «Мышеловка», «Роза Кранц и Голда Стерн мертвы», «Клинок отравлен тоже», «Тень отца», «Могильщики», «Гамлет, сын Гамлета». «Гамлет» – основа, подложка семейных коллизий, линии Павла Рихтера. Здесь есть отсутствующий любимый отец (который ни разу не показан и даже не назван по имени) – черный квадрат наоборот. История Павла – это тоже история «мести» сына, которого вот-вот объявят сумасшедшим, за «убитого» отца «убийце», женившемуся на матери; только убийца в романе не конкретно Леонид Голенищев (мерзавец отчим, спящий с матерью и пользующийся отцовскими книгами), а общество, авангардисты и капиталисты, уничтожившие любимую героем страну и ее культуру. «Мать» и «отец» – это еще и как бы «родина» в двух ее аспектах. С одной стороны, родина, предпочетшая умереть, но не достаться врагу, с другой, родина, ерзающая ляжками под оккупантом. Павел-Гамлет, таким образом, оказывается перед дилеммой: мстить ли агрессору, если оккупация произошла, кажется, по обоюдному согласию?
Через «Гамлета» «Учебник» подключается к еще более широкому корпусу текстов. С одной стороны, это история про сыновей и отцов, про конфликт поколений (в самом простом варианте: соломон-рихтеровское и татарниковское – против роза-кранцевского и кузинского). С другой, история про сына и отца проецируется на другую, более архаичную – про сына как воплощение отца, про Сына и Отца.
Гамлетовская и христианская темы увязаны в романе с рихтеровской философией истории. «История выражает свой проект через феномен наследия – и всякий сын есть подтверждение жизни отца, осуществление проекта, обещание проекта нового. Этот, всякий раз заново пережитый, завет и составляет сущность истории. Этот генетический код гуманизма и есть импульс двойной спирали истории». Как отец дает жизнь сыну, так история выражает свое идеальное начало в проекте.
«Черный квадрат». «Учебник рисования» есть роман о движении истории, точнее, о приключениях идей в истории, иллюстрированный примерами того, как эти идеи реализуются – или деградируют – в разных сферах жизни и на разных социальных ярусах. Фундаментом канторовского романа является представление об «общей мистерии», внутри которой все фрагменты так или иначе соотносятся и соответствуют друг другу. Политика соответствует искусству, семейная жизнь соответствует политике, законы русской истории соответствуют общим законам христианской истории и так далее; абстрактные закономерности, которые исследует Кантор, действуют на разных конкретных уровнях, в чем-то подобных друг другу; весь роман выстроен на соответствиях – таким образом, чтобы показать, что жизнь представляет собой единый организм, что все взаимосвязано: искусство, политика, мораль, быт. Все имеет смысл, все указывает друг на друга, нарушение в функционировании одной институции непременно скажется на всех остальных. Некая идея или явление, оказываясь в разных контекстах-средах и реализуясь там, реагирует на внешние раздражители и тем самым проявляет свою подлинную – а не приписываемую им «экспертами» – сущность.
Для наглядности возьмем «Черный квадрат» – один из ключевых символов в романе, участвующий во многих философских комбинациях. В сущности, можно рассматривать «Учебник рисования» как канторовский ответ «Черному квадрату», весьма обстоятельный ответ. Собственно, каждый персонаж в этом романе так или иначе изготавливает – или уничтожает – свой черный квадрат, свою копию этой иконы авангарда.
Картина Малевича – концентрированная идея авангардного искусства, которое, как оказалось, идеально встраивается в буржуазную эстетику и рыночные отношения. По сути, авангард – это фашизм, подавление слабого сильным, утрата моральных ценностей.
С другой стороны, «Черный квадрат» есть антиикона, заменяющая Бога пустотой, черной дырой, Ничто – и, таким образом, антихристианский, языческий символ. Характерно, что главная картина ХХ века, в сущности, языческая; это свидетельствует и о характере самого века. Кантор покажет в романе, как в ХХ веке произошло вытеснение христианского мировоззрения языческим, как христианская цивилизация трансформировалась в языческую.
Не случайно – искусство опять симптом – авангард вытеснил картину: и это было победой если не дьявола (Кантор не оперирует такими терминами), то язычества. Черный квадрат – знак победы язычества над христианством: «Малевич не „закрывал“ прежнее искусство своим квадратом, он всего лишь закрыл христианское антропоморфное искусство». Авангард – победа дегуманизированного, языческого искусства. «Представляется очевидным, что повсеместное выступление сыпи из квадратиков, загогулин и закорючек на теле мира, повсеместное вытеснение христианского сознания сознанием языческим явилось первым симптомом изменений, происходивших со старым миром, – эти изменения обозначили конец старого порядка и ввергли общество в европейскую гражданскую войну».
То, что сейчас происходит в мире и в России – всплеск насилия, всеобщий страх и торжество пустого искусства, – следствие кризиса христианской цивилизации в целом.
Кроме всего прочего, «Квадрат» – символ новых свободных времен, символ демократии; и сначала был квадрат, а потом – «управляемая демократия». Свобода и фашистская управляемая демократия – одно и то же. Следствие: «Если черный квадрат символизирует свободу, то отчего же подполковнику КГБ – не символизировать демократию?»
«Черный квадрат» – это еще и окно в Европу. Таким образом, «прорыв в цивилизацию», о котором мечтают интеллигенты, – это прорыв в черное ничто. Квадрат – символ агрессии мира насилия против мира любви; символ войны вообще.
В шутке Струева («На кого похож Луговой? – На черный квадрат») больше серьезности, чем кажется. «Черный квадрат» – это сам Иван Михайлович Луговой, поначалу представлявшийся безобидным номенклатурщиком, с чьей молодой женой спят кто ни попадя, он оказывается подлинным дирижером конспирологических процессов, тайным организатором истории, воплощением зла. Образ Лугового – воплощающего Черный Квадрат – определенно отсылает к дьяволу. У него одна рука – и это не только повод для иронии (его прозвище – «Однорукий двурушник»), но и внешнее подтверждение его дьявольской сущности: очевидная замена свойственной черту хромоты (к тому же однорукость – отсылка к Сталину). Он практически вечен – появляется еще в Испании, молодым, и так получается, что чуть ли не из-за него коминтерновцы проигрывают франкистам войну. Он живет в доме на Малой Бронной – в квартире с призраком, как у английского лорда (правда, этот призрак – призрак коммунизма, старуха Марианна Карловна Герилья; прирученная, стреноженная революция. Революция в надежном месте – она закатана в черный квадрат). Иван Михайлович Луговой – антицентр романа, он как бы отец Павла наоборот; если тот так и остается неназванным, то Луговой, напротив, все время на виду (его можно встретить на вернисаже, в австрийском посольстве, в парижском ресторане). К его фигуре стягивается множество идей, на нем замкнуто много сюжетных линий. Он эксперт во всем – от религии до бизнеса, от политики до искусства, от вина до секса. Он запускает авангард как вирус, который разрушит советскую цивилизацию, в которой при всех ее минусах сохранялась мораль и защищалась человеческая жизнь.
Луговой протеичен по технике: сначала он кажется одномерной карикатурой, затем превращается в весьма реалистичный портрет, потом в концептуалистскую пародию (когда выясняется, что он – Великий Инквизитор), потом становится символом – собственно Черным Квадратом.
В связи с темой «Луговой – оживший Черный Квадрат» у сцены, когда Кузин бросается на старика Лугового с топором, возникают любопытные обертоны. С одной стороны, это пародия на идеологическое убийство Раскольникова, с другой – пародия на жест авангардиста: раз Луговой – черный квадрат, икона авангарда, то Кузин пытается рубить икону топором, это его перформанс. Черт, Луговой умудряется даже самые благие поступки извратить в дурацкую пародию.
Наконец, «Черный квадрат» оказывается буквально симулякром; он воплощает собой идею подделки – и сам идеально подходит для копирования и подделывания. Вокруг поддельных «Квадратов» Кантор закручивает детективную интригу своего романа: фальсификаторы, искусствоведы и государственные чиновники вступают в преступный сговор с целью сбыта на Запад поддельного авангардного искусства.
Кантор показывает, что капитализм в его нынешнем виде – это, по сути, неоязычество, фашизм, отказ от христианского проекта, наступление темных времен.
Афера с «Квадратами» отсылает к более общей идее Кантора: цивилизация Черного Квадрата сама строится на колоссальной фальсификации: «Надо осознать, что мы в настоящее время живем внутри общества, где употребляется фразеология христианской цивилизации, но которое – в целях упрочения конструкции – перестроило непрочную христианскую цивилизацию по законам идеологии авангарда, то есть язычества».
Вот почему, собственно, Луговой в романе – воплощающий власть имущих, язычников, обманывающих массы и интеллектуалов христианской и демократической фразеологией – Великий Инквизитор, извративший идеи христианства.
Как движется большой роман? Удивительно, что роман идей, роман о том, как все устроено, не превратился у Кантора в чистое жонглирование метафизическими тарелками. Жанровый ландшафт «Учебника» меняется очень часто; здесь есть и картины общественной и семейной жизни, и сократические диалоги, и фрагменты трактата об искусстве, и философские рассуждения, и драки с ножом, и попытки убийства топором, и теракты, и воздушные бои.
Это философский роман, но он тщательно сконструирован таким образом, чтобы максимально возможное количество мыслей проговаривалось даже не то что в диалоге – а в сценах, сконструированных как законченные драматические эпизоды. Среди них есть очень эффектные – обычно такие, где те или иные мысли «вытаскиваются на улицу»: с Гришей Гузкиным в устричном баре и барменом Барни, на Давосском форуме с Дупелем и Левкоевым, с Труффальдино в борделе. Есть выдающаяся именно в драматургическом смысле глава «Мышеловка» – про «перформанс Струева», где тот устраивает салонный диспут о Чечне, и посреди беседы в помещение вламывается банда чеченцев. Есть выдающаяся сцена, когда Кузин приходит в дом Лугового убивать старого номенклатурщика.
Феномен Кантора заключается в том, что в одном человеке удивительно соединились таланты художника, искусствоведа, сатирика, публициста и драматурга. Однако прежде всего – философа, занятого «сцеплением мыслей» (Л. Толстой). В романе больше сцен, чем рассуждений, но по сути он – фабрика мыслей: мысли – остроумные, точные, обоснованные, простые и при этом не то чтоб парадоксы, всегда красиво развитые, афористично сформулированные, живые, растущие, додумывающиеся на протяжении романа мысли – произносятся, развиваются на примерах из жизни, обкатываются на практике, наводят на другие мысли, «сопрягаются» – и вот так разворачивается роман.
За мыслью-подачей (чаще всего высказанной хронистом, но не обязательно) следует ряд сцен, иллюстрирующих жизненное воплощение мысли, каким образом эта мысль подтверждается в разных слоях социума: в жизни Павла, в жизни «хозяев» – барона Майзеля и Лугового, в жизни «философов» Рихтера и Татарникова, в жизни клоунов – Гузкина и Сыча. Мысль и подтверждается этими сценами – и разворачивается через них; так роман продвигается и через мысль, и через «жизнь», которые действуют совместно, параллельно.
Некоторые главы начинаются характерным образом: «В качестве иллюстрации к данному положению уместно привести диалог популярного критика Труффальдино и популярного художника Дутова». Или: «Данное положение можно проиллюстрировать диалогом, состоявшимся между…».
Реалистические эпизоды (похожие на картины маслом) перетекают в символические, символические – в карикатурные, карикатурные – в гротескные, потом опять в реалистические, даже натуралистические, которые на следующем этапе опять оказываются символическими. Например, в главе «Палата номер семь» Кантор показывает, каким образом порыв к свободе (1991 год, падение советской власти, массовое отречение от марксистской идеологии, низвержение памятников) ведет к моментальному торжеству несправедливости (аморализма, адюльтера, обмана) во всех сферах жизни, от экономики до семьи, как слово «свобода» служит ширмой для перераспределения ценностей. Голенищев, попирая поверженного лубянского Дзержинского, пародирует реплики Дон-Гуана. «Символ власти и государственности, – комментирует эпизод автор, – рушился прямо на глазах. Продолжая аналогию с Дон-Гуаном – впервые в финале русской драмы торжествовал адюльтер». Дальше будет сцена, описывающая укоренение новой экономики в среде носильщиков на вокзале, у художников – и гротескная сцена совокупления художника Сыча с хорьком, апофеоз свободы.
Кантор составляет свой роман из глав-модулей разных типов, позволяющих развивать и иллюстрировать мысль разными способами, монологически и драматически. Обязательного порядка сборки не существует, каждый раз типы повествования чередуются по-новому. Например, романный модуль может содержать такую комбинацию: публицистический заход, сократический диалог (обычно Рихтера и Татарникова), драматическая иллюстрация, продолжение диалога, та же тема – в светском/деловом диалоге на другом социальном этаже (например, сцена с Кузнецовым), карикатурная драматизация или диалог, продолжение авторской публицистически выраженной мысли, семейная сцена, откат к некоей важной протоситуации (каковой в романе является гражданская война в Испании), гротеск (что-то про Сыча); главка из трактата.
Собаки на пустыре: Кантор побеждает дьявола. Круг интеллигентов-предателей все разрастается, они изменяют своему народу и подлизываются к капиталистам все более разнообразно, персональная выставка Павла, которая должна «взорвать общество», долго откладывается, а наконец состоявшись, не производит желаемого эффекта; Гузкин продвигается все дальше и дальше на Запад – и непонятно, чего еще ждать, есть ли, может ли быть этому конец? Иными словами: насколько Кантор контролирует свой роман – не вышел ли тот из берегов, не превратился ли в литературное половодье?
Роман о том, что человечество оказалось в кризисе и вот-вот должен зародиться новый спасительный Проект, не может быть размером с «Духless. Повесть о ненастоящем человеке». Кантору есть что сказать, и говорит он довольно нетривиальные вещи – вроде того что искусство ХХ века – и не только в первой его половине – обеспечивало и направляло фашистскую идеологию; надо много слов, много сцен, много ракурсов – пусть и похожих друг на друга, чтобы показать, что это правда, как так получилось и чем это грозит. Кроме того, Кантор замечательный – старомодный, не стесняющийся тратить много пространства на изложение «мыслей» – рассказчик, из тех, которые сами знают, что их фантазия неистощима, а чувства – любви, ненависти, справедливости, стыда – по-настоящему сильны, настолько, что позволяют одинаково страстно декламировать и первый, и пятнадцатый, и сто первый монолог – именно что «как трагик в провинции драму Шекспирову». У Кантора нет страха наскучить читателю.
И разумеется, канторовский роман не «разлился»; автор с самого начала прекрасно знает, чем все кончится, и вовсе не оттягивает якобы отсутствующий финал. Если читать роман внимательно, нельзя не заметить, что Кантор много раз намекает на то, чего именно следует ждать. Так, в самом начале Алина Багратион говорит своему любовнику Струеву: «Всякое большое дело должно скрепиться преступлением», «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Именно это – завязка, и она «развяжется», и с большим шумом. В романе множество микроэпизодов, которые могут показаться избыточными – но на самом деле все они будут отыграны – сразу же, в соседней главке, или через тысячу страниц, а скорее всего и так, и так. Когда, например, авангардист Пинкисевич стоит на баррикаде 1991 года со своими серыми квадратиками, будто с иконой, и кричит куда-то в пустоту: «Прорвемся!»; и когда в следующей главке мы увидим, как Гузкин рвется в цивилизацию – австрийское посольство – с просьбой предоставить ему политическое убежище; только много глав – и много лет – спустя, когда мы поймем, что Черный Квадрат на самом деле заменил Икону, то есть язычество подменило собой христианство, что вместо Бога в массы была вброшена идея абстрактной свободы, Прорыва в Цивилизацию, когда поймем, что Прорыв в Цивилизацию – это и есть самоуничтожение в черном ничто Квадрата, вот тогда мы осознаем, насколько иронически – и пророчески – выглядел кричащий Пинкисевич со своими квадратиками на баррикаде в августе 1991-го; и куда именно в конце концов уехал концептуалист Гузкин.
Помимо собственно философских, перед Кантором-рассказчиком стоит множество задач: должна разрешиться афера с квадратами; Струев должен найти убийцу рабочего и отомстить за него; чем-то должна закончиться история Кузнецова; должны встретиться главные идеологи романа – Рихтер и Луговой.
И лишь после всего этого мы добираемся до настоящего финала романа, где нам будет явлен анти-Черный-Квадрат.
На протяжении всего романа Павел Рихтер – поощряемый своим дедом – говорит об ощущении собственного избранничества: миссия семьи Рихтеров – спасти Россию и мир, вправить сустав времени. Меньше говорит об этом и больше делает – возвращается в Россию, чувствуя, что там «скоро будет скверно», и зная, что если не он, то никто, – второй главный герой романа – Струев. Идея спасения – вообще христианская; и Кантор говорит о себе в интервью «я религиозный христианский художник», «я стараюсь из российской действительности сделать библейскую притчу».
«Учебник» – христианский антиязыческий, антифашистский и антиглобалистский роман. Это перечисление может показаться пустым начетничеством, но оно существенно: роман про ХХ век, про явления ХХ века – авангард, фашизм и глобализацию. Все это и есть приключения, случившиеся с христианством в ХХ веке, то, чем его подменили. История, рассказанная Кантором в его романе, – это история про то, как христианство в ХХ веке, выжив формально, на деле обернулось неоязычеством. Кантор показывает, что капитализм в его нынешнем виде – это, по сути, неоязычество (под язычеством подразумевается культ насилия, дегуманизация), фашизм, отказ от христианского проекта, наступление темных времен.
Роман есть апология Христа, жизни, живописи, картины – и картиной заканчивается. Точнее – рассуждением о христианском искусстве и затем уж описанием картины Павла Рихтера: холодно, снег, гадкий двор, пустырь, Россия, двенадцать бродячих собак, похожих на героев романа, идут через двор. (Сцена, отсылающая не только к блоковским «Двенадцати», но и – через картину самого Кантора, замечательно проанализированную однажды Г. Ревзиным, – к картине Ван Гога «Прогулка заключенных». А также, возможно, к булгаковской теме: интеллигенция как новый пролетариат, класс-гегемон, одураченные шариковы.) Они сами по себе, никого в белом венчике из роз нет – но видно, что Павел собрал здесь тех, чья душа не погибла окончательно, людей, у которых есть шанс спастись самим, а может быть, и спасти мир.
Это движение в никуда, вслепую – и есть ответ на «прорыв в цивилизацию», в черный квадрат. Эта картина Павла – анти-«Черный квадрат». Непонятно, кого именно или, точнее, какого именно «нового парадигмального проекта» ждут собаки, – главное, что ждут вместе, что одни не бросили других, что ждут они не Лугового или еще какого-либо воплощения дьявола, а того, кто несет свет и доброту; картины должны быть понятными, Кантор настаивает на этом.
Между прочим, некоторым образом этот ожидаемый неназванный Некто соотносится с так и не названным по имени отцом Павла в романе. Собственно, вся жизнь Павла – это бродяжничество по пустырю в ожидании пришествия отца.
Павел, главный герой романа и, как выясняется в последних главах, хронист, не есть собственно спаситель. Павел лишь апостол, малюющий ад и возвещающий Новый Проект Истории. Не является спасителем и Струев, чья стратегия – личная революция, индивидуальный террор, он тоже лишь одна из двенадцати собак, бродящих по пустырю. Однако именно Павлу принадлежит повествовательское «я». Это его роман – но и о нем, о Мастере, миссия которого – пусть не спасти мир, но запечатлеть его во всей мерзости и показать, что путь к спасению, надежда на спасение, на появление Нового Проекта, который разрешит кризис, в котором оказалась социокультурная история, – есть. Именно эту надежду и подразумевает картина с собаками, финал романа. В этом смысле важный подтекст романа – «Мастер и Маргарита» (что, можно предположить, и имел в виду Г. Ревзин, говоря, что написан великий русский роман, которого не было со времен «Мастера и Маргариты»).
Заключение. Лучший способ путешествовать по «Учебнику рисования» изложен в главах «трактата об искусстве»; речь там идет о Картине – но на самом деле и о Романе тоже. «Всякий образ, – пишет Кантор; от себя добавим и „всякая сцена“, – допускает четыре уровня толкований и сохраняет цельность на любом из этих уровней. Изображенный предмет может восприниматься и непосредственно как данный предмет (т. е. буквально), и как выражение определенного образа жизни (т. е. аллегорически), и как обобщение опыта времени и общества (т. е. символически), и как метафора бытия (т. е. метафизически). Эти прочтения существуют в изображении одновременно, более того, всякое следующее толкование присовокупляется к уже существующему, дополняя, но не отменяя его». В самом деле, вспомните любую сцену – к примеру, домашнюю свадьбу Павла. Рихтеры долго не открывают на стук соседей, делая вид, что ничего не происходит, – и только Кузнецов со Струевым выходят на лестничную площадку узнать, что за содом там творится; и оказывается, те просят о помощи, им надо труп вынести, они умирают там. Ясно, что эпизод следует понимать расширительно, что речь идет обо всей интеллигенции, которая отвернулась от народа, сделала вид, что его нет, – вместо того чтоб (по-христиански) помогать ему. Точно так же ясно, что практически все сцены здесь могут быть истолкованы подобным способом.
Менее всего «Учебник» похож на герметичное произведение, поэтому вместо того, чтобы комментировать очевидное, мы всего лишь попытались показать, что общепринятое мнение о романе («пасквиль», «церетелианство», «прохановщина» и проч.) не соответствует действительности; что «Учебник» – не произвольный набор картин из жизни, перебиваемых авторскими отступлениями и нравоучениями. Кантор, сопрягая идеи и явления, выстраивает систему внутренних соответствий; он предъявляет не отдельные мысли и парадоксы, а систему вещей, «общую мистерию» – и демонстрирует (иногда в живых размышлениях, иногда в сценах), что одни и те же закономерности проявляются на самых низких и самых высоких уровнях описываемой общественной структуры.
Трудно сказать, на самом ли деле отечественная литература 2006 года была «кантороцентричной», какой она выглядит по версии этого путеводителя… по правде сказать, гораздо больше, чем Кантор, людей – «просто читателей», критиков, журналистов, администрацию президента, товароведов – занимали Минаев, Славникова, Быков, Робски, Прилепин… кто угодно и его дядя, как говорят американцы.
Очевидная маргинальность, а то и курьезность «Учебника» не отменяет, однако, тот факт, что роман окажется фундаментальным текстом для любого, кто прочтет его и возьмет на себя труд усвоить хотя бы некоторые из его идей и образов; что это та самая книга, чьи читатели не могут не составлять своего рода секту. После Кантора – а не после Минаева, Славниковой, Быкова или Прилепина – так или иначе проясняется взгляд на все то, о чем правду может сообщить только литература, потому что больше некому: на перспективы капитализма в России и его влиянии на души людей, на степень достоверности апокалиптических сценариев, на возможность возникновения в духоте «стабильности» нового «парадигмального проекта». В романе Кантора нет ни одной запоминающейся шутки; Кантор не тот писатель, который обнаружил и реализовал «метафору современности»; Кантор гораздо менее вероятно, чем Славникова или Пелевин, в состоянии занять в чьем-либо сознании нишу «любимого писателя» – но вот рост современных ему литераторов теперь оценивается в сравнении с ним; похоже, этого никак не избежать.
notes
Назад: РАЗДЕЛ V
Дальше: Примечания

