Книга: Собрание сочинений в десяти томах. Том первый. Стихотворения
Назад: Иоганн Вольфганг Гёте СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Дальше: ПЕРВОЕ ВЕЙМАРСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Том первый
СТИХОТВОРЕНИЯ
ГЕТЕ И ЕГО ВРЕМЯ
1
Жизнь Иоганна Вольфганга Гете, величайшего поэта Германии и одного из замечательнейших ее мыслителей, неразрывно связана с великим историческим катаклизмом, преобразившим — под грохот войн и революций — Европу феодальную, дворянско-монархическую в Европу буржуазно-капиталистическую. Эпицентром этих чрезвычайных потрясений и социально-политических сдвигов была Франция, где медленно, на глаз современных наблюдателей и позднейших историков, но неуклонно назревала Великая французская революция.
Я сказал «медленно назревала», имея прежде всего в виду тот примечательный факт, что крупные и средние собственники, определявшие лицо так называемого «третьего сословия», чуть ли не до последнего предреволюционного часа ждали «благодетельных перемен» разве лишь от королевского абсолютизма; более того, устами своих идеологов не раз заявляли, что даже не могут себе представить Францию без сильной, никем и ничем не ограниченной королевской власти. Презирая и нещадно клеймя — вслед за великими энциклопедистами — весь социально-юридический уклад монархии Бурбонов сверху донизу, буржуазия предреволюционной Франции неизменно делала исключение для королевского абсолютизма, не желая замечать, как нерасторжимо спаяно полновластие французских государей со столь ненавистным ей режимом. То же приходится сказать и о величайших мужах французского Просвещения, о Вольтере, Дидро и даже о Руссо — этом страстном теоретике демократии. Что же касается известных слов Вольтера, что произойдет «un beau tapage» («хорошенький грохот крушения»), то они были «гениальным прозрением», но никак не политической стратагемой, не даже призывом к действию.
Только 5 мая 1789 года, в день открытия Генеральных штатов, стала очевидной — одинаково неожиданно для обеих сторон — полная немощь королевской власти и, напротив, полная «оснащенность» французской буржуазии для захвата и упрочения своего политического господства. В 1789, да еще и в 1791 году компактное большинство буржуазии считало наиболее отвечающей его интересам формой управления конституционную монархию.
Но этой сделке восторжествовавшего класса с монархией не суждено было состояться, как ни была она выгодна для имущих слоев третьего сословия, для революционеров malgré eux, уже мечтавших поскорее поставить «спасительную точку», то есть попросту пресечь «затяжную и разорительную смуту». Пришедшая в движение лавина грозных революционных событий приняла такие масштабы, которые, не без веского на то основания, закрепили за французской революцией 1789–1794 годов название Великой.
Гете отчетливо сознавал, сколь многим он был обязан своему времени, какое мощное воздействие на него оказали «грандиозные сдвиги в мировой политической жизни», — как сказано в предисловии к его знаменитой автобиографии. Но он же (в числе очень немногих) ясно уразумел, что буржуазно-капиталистическое мироустройство не является последним словом Истории. Прельстительный девиз французской революции — «свобода, равенство, братство» — не был ею претворен в живую действительность. «Из трупа поверженного тирана, — говоря образным языком Гете, — возник целый рой малых поработителей». А посему — по-прежнему — «ношу тащит несчастный народ, и в конце концов безразлично, какое плечо она ему оттягивает, правое или левое». Не отрицая неоспоримых заслуг французской революции перед человечеством, Гете отнюдь не считает достигнутое ею чем-то незыблемым. «Время никогда не стоит, жизнь развивается непрерывно, человеческие взаимоотношения меняются каждые пятьдесят лет, — так говорил он Эккерману. — Порядки, которые в 1800 году могли казаться образцовыми, в 1850 году, быть может, окажутся гибельными». Прошлым сделается и Великая революция, провозгласившая новую эру в истории человечества. Да она уже и сделалась им еще при жизни Гете. И, как все отошедшее в прошлое, станет и она «прилагать старые закоснелые мерки к новейшим порослям жизни. Этот конфликт между живым и отжившим, который я предрекаю, будет схваткой не на жизнь, а на смерть. Начнут ужасаться, искать выхода, издавать законы… и ничего не достигнут. Ни предупредительными мерами, ни запретами тут ничего не добьешься. Придется за все браться по-новому». Так — в «Годах странствия Вильгельма Мейстера» (кн. 3, гл. 3). И в другой раз — уже в беседе с канцлером фон Мюллером (от 4 ноября 1823 г.): «Нет такого прошлого, о котором стоило бы печалиться. Существует лишь вечно новое, образовавшееся из разросшихся элементов былого. Достойная тоска по иному должна быть продуктивна, должна стремиться к лучшему будущему».
Да, он всегда «стоял за новое», если оно, по его разумению (не всегда безошибочному), было достойно этого имени. Больше всего возмущало Гете, когда (вслед за Бёрне) его называли «другом существующих порядков». «Ведь это почти всегда означает: быть другом всего устаревшего и дурного». С юных лет и до глубокой старости Гете был великим тружеником, всеми средствами художественного, научного и философского познания стремившимся разгадать «тайны» природы и «тайны» исторического бытия человечества, дабы — на основе все более широкого опыта — посильно приблизить осуществление такого социального уклада на нашей планете, при котором свободное проявление высших духовных задатков, заложенных в душу человеческую, стало бы неотъемлемым свойством раскрепощенных народов.
В такой универсальности Гете иные его биографы и толкователи хотели видеть только заботу «великого олимпийца» о всестороннем развитии собственной личности. Но Гете не был таким бесстрастным «олимпийцем», равнодушным к насущным чаяниям и нуждам простого народа. Более того, его духовный демократизм не позволял ему смотреть и на собственное свое творчество как на лично ему принадлежавшее достояние. «Все мы, по сути, коллективные существа, что бы мы о себе ни воображали… За долгую жизнь я, правда, кое-что создал и завершил, чем можно было бы похвалиться. Но, говоря по чести, что тут было собственно моим, кроме желания и способности видеть и слышать, различать и избирать, вдыхать жизнь в услышанное и увиденное и с известной сноровкой все это воссоздавать…»
Зачем так страстно я искал пути,
Коль не дано мне братьев повести! —
сказано в «Посвящении», которое Гете (начиная с 1787 г.) предпосылал всем прижизненным изданиям своих сочинений.
Мы знаем, нетерпеливая надежда увидеть собственными глазами первые, еще смутные, контуры «золотого века» хотя бы только на малом клочке Германии побудила Гете на вершине его молодой славы откликнуться на призыв веймарского герцога, юного Карла-Августа: стать его ближайшим советчиком, наставником и другом. Ничего путного из этого союза не могло получиться. Широко задуманный план политических преобразований был положен под сукно. И все же картина лучшего будущего («Народ свободный на земле свободной») не померкла в душе создателя «Фауста». Но отныне она рисовалась воображению поэта лишь в отдаленной перспективе всемирной истории человечества.
Другое дело, что путь, которым шел Гете в поисках «высшей правды», не был неуклонно прямым путем. «Кто ищет, вынужден блуждать», — сказано в «Прологе на небе», предпосланном «Фаусту». Гете не мог не блуждать, не ошибаться, не давать порою неверных оценок движущим силам всемирно-исторического процесса. Отчасти уже потому, что вся его деятельность протекала в обстановке убогой действительности — в Германии, лишенной национально-политического единства и дееспособного прогрессивного бюргерства.
Цель настоящей вступительной статьи — ознакомление советского читателя с основными этапами жизни и творчества великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого. Уже само сочетание в одном лице столь разнородных дарований и склонностей отводит Гете совсем особое место в мировой культуре.
2
Прежде чем приступить к хронологически последовательному отображению «трудов и дней» этого неукротимо деятельного человека — несколько слов о его народности (в самом широком значении этого слова). Впрочем, мы и здесь не обойдемся без хронологии, без краткого пересказа хроники двух семейств, давших жизнь Иоганну Вольфгангу Гете.
Отец поэта, действительный имперский советник Иоганн Каспар Гете (1710–1782), не мог похвалиться родовитостью. Он был сыном дамского портного, позднее виноторговца, винодела и владельца первоклассной гостиницы Фридриха Георга Гете (1657–1730) родом из Тюрингии, где его родитель имел кузню. Фридрих Георг предпочел копотному кузнечному горну, молоту и наковальне более изящные и сподручные портновские инструменты и с этой легкой поклажей прямиком направился в город Лион, славный не только изделием лучших французских шелков и бархата, но и отменным шитьем мужской и женской одежды. Там молодой сметливый подмастерье успешно обшивал и обряжал французских модниц и знатных иностранок, питая надежду в близком будущем открыть собственное портняжное заведение и навечно осесть в приглянувшейся ему «прекрасной Франции».
Но все эти радужные мечты развеялись прахом. В 1685 году, по безрассудному капризу Людовика XIV и его благочестивой наложницы мадам де Ментенон, был отменен Нантский эдикт о веротерпимости, некогда обнародованный Генрихом IV. А это означало изгнание из пределов королевства всех гугенотов и прочих приверженцев «de la religion prétendue réformée» («мнимо улучшенной религии»), то есть всех некатоликов, в том числе и лютеранина Жоржа Гете́ — Фридриха Георга Гете.
Изгнанный портняжий подмастерье обосновался в вольном имперском городе Франкфурте-на-Майне, одной из немногих патрицианско-бюргерских республик, вкрапленных в обширную, но лишенную реального политического единства «Священную Римскую империю германской нации». Сообразуясь с обыкновениями города, Фридрих Георг тотчас же женился на местной уроженке, чтобы обрести права франкфуртского гражданина, без чего он не мог бы стать мастером портняжного цеха. В 1701 году, овдовев, он женился вторично на состоятельной вдове Корнелии (урожденной Вальтер), принесшей в приданое мужу, помимо изрядного капитальца, и гостиницу «Вейденхоф», которая при новом хозяине стала едва ли не лучшей в городе.
Отдавая должное деловым качествам Фридриха Георга Гете, а также недюжинным музыкальным его способностям (старик свободно играл на целом ряде струнных и духовых инструментов), франкфуртские старожилы тем единодушнее порицали его за непомерное самомнение — черту, общую всему его кряжистому крестьянскому роду. Деньги без почестей, без видного положения в обществе не тешили преуспевшего простолюдина. Тем истовее мечтал он о возвышении своего потомства. Правда, старший сын от первого брака сызмальства был безнадежно слабоумен. Но второй его отпрыск, Иоганн Каспар, юноша способный, прилежный и, по папеньке, честолюбивый, давал все основания думать, что уж ему-то удастся войти в почтенное сословие ученых юристов и запять одно из первых мест в городской бюрократии.
Старику не довелось дожить ни до окончания его сыном Лейпцигского университета, ни до успешной защиты его ученейшей диссертации «Electa de aditione hereditatis ex jure Romano et Patrio». Но на этом, собственно, и оборвалась карьера новоиспеченного «доктора обоих прав». Тотчас же по получении вожделенной ученой степени Иоганн Каспар Гете отправился в долгое «образовательное путешествие» (что, по воззрениям того времени, приличествовало разве лишь дворянину или сыну именитого патриция), побывал в Нидерландах, в Париже, в Вене, в Швейцарии, почти три года пространствовал по Италии, а на обратном пути — в течение семестра — возобновил свои юридические занятия в Страсбургском университете.
Во Франкфурт доктор Гете возвратился только в 1742 году, почти позабытый своими земляками, и с ходу же удивил правителей города и впрямь беспримерным заявлением: он ходатайствовал о предоставлении ему вакантной второстепенной должности, каковую брался отправлять безвозмездно, коль скоро он будет избавлен от общеобязательной, но в его случае, как он полагал, вполне излишней, баллотировки.
Ходатайство, противоречившее законам и обычаям города, было отклонено с назидательной лаконичностью, и это так уязвило его, что он поклялся впредь никогда уже не поступать на городскую службу. Чтобы досадить своим обидчикам, «не оценившим его бескорыстие и немалую ученость», а заодно сразу же запять равное им положение в обществе, доктор Иоганн Каспар Гете в том же 1742 году исхлопотал себе титул «действительного советника его римского императорского величества», то есть попросту купил Это почетное звание за триста тринадцать гульденов у вечно нуждавшегося в деньгах императора Карла VII.
Сравнявшись чипом с первыми должностными лицами города, Иоганн Каспар Гете, само собою, уже не мог служить на младших должностях, несовместных с его высоким званием. Но ничто не препятствовало «его превосходительству» вступить в сословие адвокатов или стать поверенным одного, а то и нескольких владетельных князей, поддерживавших торговые отношения с патрицианской республикой. Однако ни тот, ни другой вид юридической деятельности не отвечал его вкусам и убеждениям. Оскорбленный, разочарованный, он ушел в сугубо частную жизнь, так и не испробовав своих сил на каком-либо поприще.
Прошло еще шесть лет полупраздного, одинокого существования, прежде чем Иоганн Каспар Гете, уже на тридцать девятом году жизни, женился на семнадцатилетней Катарине Элизабете Текстор, пусть бесприданнице, но как-никак девушке из весьма уважаемой семьи ученых правоведов.
Надо сказать, что и Тексторы, подобно семейству Гете, лишь сравнительно недавно обосновались во Франкфурте в лице прадеда нареченной невесты — первого синдика, то есть юрисконсульта городского совета. Гордостью семьи был его внук Иоганн Вольфганг Текстор (1693–1771), дед великого поэта. Высокообразованный юрист и дельный чиновник, он с честолюбивым рвением поднимался по ступеням служебной лестницы и в 1748 году — не будучи ни патрицием, ни отпрыском старинного городского дворянства — достиг высшего поста в городе-республике, став «имперским и городским шультгейсом», то есть бессменным главою судебного ведомства и председателем городского совета, а заодно и наместником германо-римского императора, подданными которого числились «вольные горожане».
Сама фамилия рода Тексторов (или Веберов, как раньше они прозывались) указывала на то, что их предки занимались ткачеством («текстор» по-латыни, равно как «вебер» по-немецки, означает «ткач»). Тем самым величайший поэт Германии не только со стороны отца, но и со стороны более «аристократической» материнской линии — потомок преуспевших простолюдинов. Только что Тексторы, в отличие от рода Гете, «вышли в люди» уже в XVI веке. Большинство из них, не исключая самого шультгейса, довольствовалось относительно скромным жалованьем.
В августе 1748 года состоялось венчание Иоганна Каспара Гете с Катариной Элизабетой Текстор. А через год, 28 августа 1749 года, «в полдень, с двенадцатым ударом колокола», появился на свет будущий величайший поэт Германии.
Роды были трудными. Они длились без малого трое суток, повивальная бабка вконец растерялась. Но фрау Корнелия, мать Иоганна Каспара, принялась усердно встряхивать и растирать вином маленькое тельце. «Советница, он жив!» — растроганно возвестила старая женщина, когда ее внучек широко раскрыл глаза — очень большие и темно-карие.
Такими большими темно-карими глазами природа не наделила представителей ни рода Гете, ни рода Тексторов. Были они у бабки поэта, Анны Маргариты Линдхеймер, в замужестве Текстор. Никто из родных ее детей не унаследовал ни ее темных больших глаз, ни величаво-простонародных черт ее и впрямь «итальянского» лица. Минуя ближайшее потомство, ее внешнее обличье передалось только ему, ее любимому внуку, и служило достойной оболочкой его «духовной сути», как то не раз отмечалось самим Гете.
Странно, но ни «старая Линдхеймер», ни ее знаменитый внук ничего не знали о том, что одним из прямых ее предков (в восьмом колене) был замечательный немецкий художник XVI века Лука Кранах (1472–1553). Едва ли приходится сожалеть об этом неведении Гете. Ведь вплоть до второго пребывания в Риме (1787 г.), то есть на тридцать восьмом году своей жизни, он все никак не мог решить, кем быть ему: поэтом или живописцем. Желание «достойно воссоздать» — маслом, акварелью, тушью и карандашом — «всю красоту зримого мира» не переставало владеть его душою. Узнай он — невесть как и от кого — о кровном родстве с великим Кранахом, и он охотно истолковал бы это «открытие» как поруку за сбыточность его давней мечты — стать художником. Тем более что природа не отказала ему и в этом даровании. Пейзажи Гете, проникнутые тонким импрессивным лиризмом, куда интереснее декоративно-условных пейзажных полотен его современников классицистов.
И все же истинно великим художником Гете не был, что он и сам осознал на исходе своего двухгодичного пребывания в Италии. Но, навсегда порешив довольствоваться «только» деятельностью поэта, писателя и естественника, Гете широко пользовался своим опытом творчески деятельного художника-живописца и на поприще литературы. «Вернувшись (из Дрезденской галереи. — Н. В.) в дом моего башмачника, я едва поверил своим глазам, — читаем мы в «Поэзии и правде» (кн. 13). — Мне почудилось, что передо мною картина Остаде, столь прекрасно выполненная, что хоть сейчас неси ее в галерею. Расположение предметов, свет, тени, коричневый колорит целого, магическая сила сдержанности и соразмерности, поражавшая нас в его полотнах, — все это наяву предстало передо мной. Здесь я впервые и в полной мере ощутил в себе дар, которым впоследствии стал пользоваться уже сознательно: воспринимать натуру как бы глазами художника…» За чтением «Вертера», «Вильгельма Мейстера», «Германа и Доротеи» нельзя не вспомнить этого авторского признания. Та же совсем особая зоркость художника не покидала Гете и при оценке произведений других писателей.
По тому, что́ было сказано выше о Гете, да и самим Гете, нетрудно заключить, что он-де является «живописцем в литературе». Слов нет, Гете не скупился на похвалы глазу, вполне сознавая, сколь многим он обязан «этому благороднейшему органу» и как поэт, и как пытливый естественник. Более того, он не раз высказывался в том смысле, что зорко уловленная наглядность образа есть высшее мерило его правдивости. И все же признание великого поэта всего лишь «живописцем в литературе» было бы ложно или, по меньшей мере, весьма неточно. Да, Гете был и «живописцем в литературе», но вместе с тем и первым истинным в ней «музыкантом». В этом, как мы увидим, и заключалось его исключительное значение в истории мировой культуры.
Все, что мы знаем из лирики предшествующих эпох, включая сонеты таких гигантов, как Данте и Шекспир, по большей части «повествует» (трезво или, напротив, риторически-приподнято) о душевном состоянии поэта — в канонических формах, созданных веками и поколениями. Я не говорю уж о большинстве английских и французских современников Гете, редко и с большим запозданием выходивших за пределы рассудочной культуры слова XVIII столетия. То, что отличает лирику Гете от лирики его великих и малых предшественников, — это повышенная его отзывчивость на мгновенные, неуловимо-мимолетные настроения; его стремление — словом и ритмом — преображенно отображать живое биение собственного сердца, сраженного необоримой прелестью зримого мира или же охваченного чувством любви, чувством гнева и презрения — безразлично; но, сверх и прежде всего, его способность мыслить и ощущать мир как неустанное движение и как движение же поэтически воссоздавать его.
Этот новый строй поэтического мышления и, соответственно, новый лад культуры слова не мог бы осуществить поэт, будь он только «живописцем в литературе», не умей он вовлекать в гениальную круговерть поэтического творчества то, что было названо «экспрессивно-музыкальной стихией», добытой слухом, никак не зрением.
Конечно, «музыка в поэзии», «музыкальность поэзии» отнюдь не совпадает с музыкой в обычном ее понимании, равно как «живопись в литературе» никак не живопись как таковая — это только необходимые метафоры большого познавательного значения. Но Гете, так явственно ощущавший соприсутствие «музыкального» начала в иных своих стихотворениях, не раз говорил, что они могут быть поняты читателем, только если тот будет, хотя бы про себя, напевать их. С этим высказыванием поэта можно, конечно, и не соглашаться. Но верно то, что Гете нередко сочинял стихи в расчете на их положение на музыку. И сколько же «текстов» Гете вдохновило его великих музыкальных современников — Моцарта, Бетховена, Шуберта и, позднее, Шумана.
Слух был для Гете чуть ли не равноправным органом восприятия (наряду со зрением) — и притом не только на поприще поэзии, но и в прозе.
Будущий поэт с младенчества и вплоть до его поступления в Лейпцигский университет (1765 г.) неизменно слышал вокруг себя верхненемецкий диалект — местный говор его родного города и края. Отец, имперский советник, усердно приучал детей, Вольфганга и Корнелию, а заодно и свою супругу, говорить «более литературно». Но в Вольфганга (не говоря уже о «госпоже советнице») прочно въелись многие диалектизмы — уже потому, что они ему «нравились».
В Лейпциге своеобычное верхненемецкое наречие строго осуждалось. «Мне были запрещены парафразы из Библии, — пишет Гете, — равно как пользование простодушными оборотами старинных хроник. Мне вменялось в обязанность позабыть, что я читал Геймера фон Кайзерсберга (1445–1510; страсбургского проповедника, отлично владевшего народной речью. — Н. В.), и отказаться от поговорок, которые не ходят вокруг и около, а прямо берут быка за рога. Я чувствовал себя внутренне парализованным и теперь не знал, в каких выражениях говорить о простейших вещах. К тому же мне внушали, что надо говорить, как пишешь, и писать, как говоришь, мне же изустная речь и литературный язык всегда представлялись явлениями друг от друга весьма отличными и способными постоять за свои далеко не однородные права».
Гете с ранних лет и до гробовой доски всем сердцем любил простой народ, уважал его труд, его телесную и нравственную силу. Никакие пороки и неблаговидности, бытовавшие в народе, не могли смутить его. Он умел отличать здоровое зерно в простом человеке от наносного дурного, что пристало к нему под воздействием гнусной немецкой действительности, беспросветной нищеты и рабской зависимости. Гете любил наблюдать трудовую и семейную жизнь простых людей — крестьянина, лесничего, горнорабочего. Для Гете народ не был абстрактным понятием, как, скажем, для Вольтера, никогда не забывавшего о своем превосходстве над непросвещенным простолюдином.
Такая связь с народом, тесная солидарность с ним, с его жизненными интересами, с его радостями и горестями, и составляла прочную основу духовного демократизма Гете, всего его творчества, проникнутого высоким гуманизмом, да и всей его (во многом неудачно сложившейся) общественно-политической деятельности. Не случайно, конечно, что все созданные им наиболее обаятельные и трогательные образы — Гретхен («Фауст») и Клерхен («Эгмонт»), Марианна («Вильгельм Мейстер»), Филимон и Бавкида (V действие второй части «Фауста») — выходцы из народа. И все они гибнут, столкнувшись с беспощадным строем угнетателей. Такова концепция трагического, выстраданная великим поэтом.
3
Итак — об отдельных этапах жизни, а там и творчества Гете. Маленький Вольфганг не был вундеркиндом, да поэты и не бывают таковыми. Он учился легко у отца и других преподавателей. Что касается отца, то он, считаясь с правом сына, «учил его всему шутя», но весьма основательно: французскому (впрочем, Вольфганг с ним знакомился и как неизменный посетитель французского театра, игравшего в оккупированном французами Франкфурте в пору Семилетней войны), а также итальянскому и, позднее, английскому, которому совместно с сыном и дочерью обучался и сам имперский советник, выступавший также и в роли учителя танцев.
Обучение молодой поросли семейства происходило на дому, за вычетом нескольких месяцев, когда Вольфганг с большим недовольством посещал городское училище, что было вызвано перестройкой дома, предпринятой Иоганном Каспаром Гете вскоре после смерти его матери, фрау Корнелии. Кроткой, милой, благожелательной, всегда в белом опрятном платье — такой она навек запечатлелась в памяти внука. «…однажды, в канун рождества, бабушка велела показать нам кукольное представление, и это был венец ее благодеяний, ибо тем самым она сотворила в старом доме некий новый мир, и на детях, особливо на мальчике, долго сказывалось это глубокое, сильное впечатление».
Гете утверждал, что «многоразличные системы, из которых состоит человек», часто «взаимовытесняют… более того, взаимно пожирают друг друга». С ним этого не случилось. Разнообразные блестящие способности подростка заставляли многих достойных людей видеть в нем наследника их профессий. Юный Гете «тоже хотел сделать нечто из ряда вон выходящее», но ему «вожделенное счастье представлялось в виде лаврового венка, которым венчают прославленных поэтов».
С языком поэзии, с его усвоением обстоит не иначе, чем с усвоением просто языка: говорящие и тем более стихотворствующие младенцы не рождаются. Они перенимают язык с чьего-то голоса. Немецкую поэзию поры детства и отрочества Гете нельзя отнести к эпохам ее мощного расцвета. Она никак не выдерживает сравнения с полногласной, исполненной трагизма поэзией времен Тридцатилетней войны. За сто лет, прошедших со дня рокового для немцев Вестфальского мира (1648 г.), слезы повысыхали, возмущение народа было подавлено, отчаяние притупилось. Воцарилась «мертвая зыбь» безвременья. Самобытные традиции мятежного XVI и трагического XVII веков, измельчав и потускнев, сохранились разве лишь в худосочных стихотворениях на библейские темы. Значительным лирическим даром обладал разве что Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803), но советник Гете его не признавал, руководствуясь, надо думать, известным сужденьем Вольтера: «Писать нерифмованными стихами не труднее, чем сочинить письмо». Вольфганг Клопштока читал, но тайком от отца и не смея ему подражать. Остальные поэты держались общепринятой поэтики европейского Просвещения. Одни из них пели в сентиментальных гимнах хвалу господу и его премудрому творению, другие, напротив, писали сугубо светские стихи, добросовестно скопированные с ложноклассических образцов французских и итальянских анакреонтиков.
В Лейпциге, этом «малом Париже», студент Гете примкнул к школе немецко-французской анакреонтики (родоначальником которой был Фридрих фон Гагедорн, а наиболее популярной посредственностью И.-В.-Л. Глейм). Таков был выбор молодого Гете, и, уж конечно, не случайный. В центре анакреонтической поэзии как-никак стоял человек, пусть светский, беспечно срывающий «цветы удовольствия», но все же человек. Человек, но уже не «светский», — так только, на первых порах, — а человек, все разноликое людское племя, с его судьбами и конечным высоким его предназначением, и образует ту ось, вокруг которой вращается огромный мир великого поэта.
Ранние поэтические опыты Гете еще мало разнились от стихов его прямых предшественников. Юный стихотворец легко усвоил их «галантные сюжеты» и кокетливые эпиграмматические «разрешения» рассудочных антитез, — к примеру, противопоставление понятия «ночи вообще» понятию «ночи в объятиях любимой» («Прекрасная ночь»). Но и в этих ученических подражаниях сколько же живых, «необщих черт», предвещавших будущий облик поэзии Гете! Возьмем хотя бы стихотворение «К Луне». И оно не свободно от условной ложноклассической поэтики: туманному лунному пейзажу рассудочно противопоставлена нескромная мечта поэта одолеть пространство, отделяющее его от возлюбленной, взглянуть на нее хотя бы сквозь «стеклянную ограду» заветного окна. Он молит Луну:
Созерцаньем хоть в ночи
Скрашу горечь отдаленья.
Обостри мне силу зренья,
Взору дай твои лучи!
Ярче, ярче вспыхнет он,—
Пробудилась дорогая
И зовет меня, нагая,
Как тебя — Эндимион.
(Перевод В. Левика)
Эпиграмматически заостренная композиция сохранена и здесь. Но гармоническая разработка темы равно окутывала «фатой из серебра» и эту зыбкую лунную ночь, и эротическое видение заключительного четверостишия, в силу чего «антитеза» — скрытая насмешка поэта над собственным (только воображаемым) счастьем — почти не доходит до читателя, покоренного властными чарами этого лунного ноктюрна.
Ученические годы поэта длились недолго. Гете начал сознательно отступать от эстетического канона анакреонтиков еще в Лейпциге. Уже тогда им были написаны «Элегия на смерть брата моего друга» и вслед за тем «Три оды к моему другу Беришу», в которых прорезались новые, непривычно страстные, порою даже гневно обличительные интонации, не имеющие ничего общего с изящным легкомыслием немецких классицистов.
Гете всегда болезненно переживал все, что стесняло его развитие, его творчество. Такие кризисы духовного роста нередко кончались серьезными заболеваниями. Так было и в Лейпциге, где Гете остро ощутил несостоятельность поэтики «немецкого рококо», точнее: все несоответствие его форм и содержания расширившемуся, пусть еще смутному, мировоззрению поэта. В одну июльскую ночь 1768 года кровь хлынула горлом у внезапно занемогшего юноши. Несмотря на вмешательство врачей, его здоровье не восстанавливалось. 28 августа, в день, когда Гете исполнилось девятнадцать лет, он прервал свои (не слишком усердные) университетские занятия и спешно выехал во Франкфурт.
Два с лишним года, проведенных в родительском доме по болезни, так и не опознанной, и во время медленного выздоровления, были годами напряженной духовной подготовки к тому бурному творческому расцвету, которым ознаменовалось пребывание Гете в Страсбурге, куда он прибыл летом 1770 года и где весною следующего года закончил свое юридическое образование.
Во Франкфурте Гете завершает своих «Совиновников», комедию, начатую еще в Лейпциге. Как и несколько раньше сочиненная им пьеса «Причуды влюбленного» (легкая «саксонская статуэтка» в вкусе немецко-французского рококо), «Совиновники» написаны гибким александрийским стихом в подражание французам. Чеканные стихи, острые диалоги, непринужденно развивающийся ход событий — все свидетельствовало об отменном усвоении традиционного комедийного жанра.
В старости Гете утверждал, будто бы в основу его «Совиновников» положено Христово речение: «Кто без греха, пусть первый бросит камень». Едва ли юный автор руководствовался этим евангельским текстом. Правдоподобнее полагать, что он им позднее оборонялся от упреков в безнравственности его драматической сатиры на бюргерское общество, о котором у юного Гете сложилось достаточно безотрадное представление. Какие только пороки и преступления не таились «под тонким слоем штукатурки» внешней благопристойности в хорошо знакомом ему Франкфурте-на-Майне! Банкротства, домашние кражи, убийства, отравления, подделанные завещания…
В таком мизантропическом настроении не оправившийся от болезни юноша дружески сошелся со старшей подругой и уважаемой родственницей его матери, девицей Сусанной фон Клеттенберг, принадлежавшей к религиозной секте гернгутеров. Как многие ее единоверцы, она усердно занималась «тайными науками» и даже алхимией.
Гете с интересом прислушивался к ее речам. Тем более что в его руки попал солидный труд Готфрида Арнольда (1666–1716) «Беспристрастная история церкви и ереси», произведший на него неизгладимое впечатление уже потому, что убеждения Арнольда во многом совпадали с его собственными.
Арнольд не без оснований назвал свой монументальный трактат, охватывающий историю христианских вероучений от «времен апостольских» до пиетистов конца XVII века, беспристрастным. Его двухтомное сочинение и впрямь поражает необычной для того времени исторической объективностью — точнейшим пересказом воззрений как представителей официальной церкви (будь то католической, лютеранской или кальвинистской), так и поборников всевозможных «ересеучений».
Тем менее «беспристрастна» концепция его сочинения: в глазах Арнольда вся история церкви равнозначна истории утраты церковью «истинно христианской веры» и «непосредственного общения с богом». Такое «общение с богом» предполагает в верующем «неиссякающий энтузиазм», а его-то и не терпит официальная церковь, подменяя «чистое религиозное переживание» обрядностью и догматами, тогда как «вся жизнь истинного христианина, — по Арнольду, — содержится в слове «энтузиазм». Прибегнув к этому словцу, Арнольд явно выдает свои симпатии к мятежным сектантам XVI века, которых Лютер клеймил поносной кличкой «энтузиасты». В официальной церкви и в ее неустанной борьбе с теми, кого она зовет еретиками, Арнольд видел главную виновницу «нескончаемых бедствий так называемого христианства».
Немногих проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней,—
(Перевод В. Пастернака)
вторит Арнольду автор «Фауста», переводя его обличительную прозу на бессмертный язык поэзии.
Готфрид Арнольд хотел перенести в свое время (конец XVII и начало XVIII в.) дух мятежного XVI столетия. Но вместе с тем и дух обветшавшей мыслительности той отдаленной эпохи, как будто со времен Парацельса и Якоба Бёме ничего не изменилось в научном сознании человечества под воздействием эпохальных трудов Галилея, Декарта, Спинозы, Лейбница и Ньютона и «христианское магическое естествознание» по-прежнему оставалось «последним словом» человеческой премудрости. Бесспорно, Парацельс (1493–1541), по праву считающийся «отцом немецкой пансофии», был истым сыном мятежного XVI века, во время Великой крестьянской войны горячо сочувствовавшим восставшему народу. Знаменитый врач, он первый стал применять химические медикаменты, выдающийся мыслитель, он создал — в разрез с учением официальной церкви — свою космогонию, изрядно насыщенную сакральными представлениями средневековой мистики, в которой он ставил себе целью: проникнуть в сокровенные тайны природы, обнаружить ту «первородную материю», из которой господь якобы сотворил мир, и, подобно ему, искусно тасуя «первоэлементы природы», создавать «новые вещи» ко благу человечества. «Мы хотим стать малыми богами во всеобъемлющем великом боге», — такова была мечта последователей Парацельса вплоть до эпигонствующих пансофов XVIII века. Смелая идея, конечно, но вполне несбыточная по тогдашнему состоянию науки.
Не будем подробнее вникать в учения эпигонствующих пансофов. Каждый из них (будь то Георг фон Веллинг или особенно популярный Сведенборг) сочинял свою фантастическую космогонию. Удивительнее, что и юный Гете с его ясным умом и проницательным глазом мог с 1768 по 1770 год принимать всерьез эти анахронические бредни и производить совместно с девицей фон Клеттенберг алхимические опыты, более того, сочинять, в подражание пансофам, свой собственный «космогонический символ веры». Но таково было веяние времени. XVIII веку присвоено имя «века Просвещения», «века философии» — и с полным на то основанием, если иметь в виду наиболее выдающихся его представителей. Но тот же век крупнейших научных завоеваний был вместе с тем и веком широчайшего распространения «тайных наук», веком повышенного интереса ко всему «чудесному», иррациональному, трансцендентному.
Не будем жалеть, что и Гете на малый срок углубился в эти пансофские дебри. Не случись этого, не вдохни он в себя полной грудью воздуха позднего средневековья, он едва ли бы мог создать своего «Фауста». Ведь и Фауст, подобно своему создателю, выбирался из бездны бесплотного суемудрия на вольный простор «более чистого восприятия действительности»:
О, если бы мне магию забыть.
…Брось вечность утверждать за облаками!
Нам здешний мир так много говорит.
(Перевод Б. Пастернака)
Окончательный и бесповоротный разрыв Гете с пансофскими бреднями произошел после страсбургской встречи с Гердером. Для Гердера магия была давно отжившим свой век этапом в истории духовной культуры. Почитать «магическое постижение природы» незыблемой божественной правдой, по его убеждению, означало не понимать «истинной сути божественного откровения». Неизменны-де «не содержание и буква однажды явленного открытия», а те «духовные силы, коими бог наделил человека», — так утверждал Этот свободомыслящий богослов. «В наши дни посланцами бога являются Ньютоны и Лейбницы, подобно тому как в первобытные времена оными являлись и Моисей, и Давид, и Иов».
Тех же воззрений держался теперь и страсбургский студент Вольфганг Гете. Стоило ему убедиться в несостоятельности магического естествознания, как он тут же с необычайной легкостью отрешился и от «христианского энтузиазма». «Те, кто видит в набожности самоцель и конечное назначение, обычно впадают в ханжество», — скажет Гете позднее (в «Максимах и рефлексиях»).
4
Вестфальский мир 1648 года, положивший конец Тридцатилетней войне (1618–1648), оставил западную прирейнскую Германию в состоянии феодальной раздробленности и беззащитности. Ничто не препятствовало ее захвату Французским королевством, впрочем, позволившим себе вполне излишнюю роскошь каждый раз юридически обосновывать право французской короны на владение той или иной прирейнской территорией. В 1675 году Эльзас был, собственно, уже завоеван; в 1681-м та же участь постигла и пограничный Страсбург.
Полная, безоговорочная покорность французским властям и «христианнейшему королю Франции и Наварры» — только этой ценой можно было сохранить за Страсбургом права и привилегии «вольного города» (еще вчера «имперского», ныне же «королевского»). Правда, вся административно-законодательная деятельность «королевской республики» протекала под неусыпным контролем представителя короны, но королевское вето на деле почти не применялось благодаря неизменному «благоразумию» отцов города.
Ко времени поступления Гете в Страсбургский университет прошло ровно девяносто лет, как Эльзас вошел в состав Франции, над которой уже начинали сгущаться грозовые тучи медленно надвигавшихся политических событий. Уже многие не таясь поговаривали о предстоящих переменах. Велись такие разговоры и среди «германских подданных французского короля». Но до немецкой оппозиции по отношению к Франции дело не доходило, солдаты, шагая по улицам города, горланили немецкие песни французско-патриотического содержания, офицеры — почти сплошь немецкие аристократы — перед строем и в своем кругу говорили и думали по-французски.
И все же в завоеванной французами прирейнской Германии немцы осознавали себя только немцами, в то время как в феодально-раздробленной германо-римской империи по-прежнему противостояли друг другу австрийцы, пруссаки, саксонцы, баварцы и т. д. Лишь в Страсбурге, куда по прихоти судьбы съехались почти одновременно Гете и Гердер, Ленц и Вагнер и прочая одаренная молодежь, и могла зародиться так называемая литература «Бури и натиска», привнесшая в лирику, в драму, в повествовательную прозу столь недостававшее литературной Германии национально-немецкое содержание.
«Бурные гении» ополчались не только на гнетущую обстановку в Германии, но и на все обветшавшие устои дореволюционной Европы XVIII века. И в первую очередь — на Францию, включая ее литературу, которая, по их убеждению, «была стара и аристократична, как сама по себе, так и благодаря Вольтеру». Гердер, признанный идеолог течения, внушал своей литературной пастве, что не холодный рассудок, а горячее сердце творит язык поэзии — и не по прописям «кабинетного» классицизма, а «изнутри», как творят безыменные создатели народных песен, как творили Гомер и Пиндар, Шекспир и легендарный Оссиан. Гердер был первым эстетиком XVIII века, преодолевшим рассудочность теоретиков искусств его времени (не исключая такого гиганта, как Лессинг). Это ему впервые удалось — как эстетику и поэту-переводчику — раскрыть безбрежно богатый лирический мир, поющий голосами всех народов Востока и Запада.
Нетрудно себе представить, какие широкие горизонты открыла встреча с Гердером молодому Гете: «Я вырвался на свежий воздух и впервые почувствовал, что у меня есть руки и ноги». Уже в первых любовных песнях, обращенных к Фридерике Брион, былая наигранная «светскость» сменилась непринужденной сердечностью, весело вторящей девичьим голосам дочерей зезенгеймского пастора. Здесь, в Страсбурге и в буколическом Зезенгейме, юность нежданно обрела свой собственный, только ей присущий язык. Ликующая «Майская песня» и дышащее неподдельной страстью «Свидание и разлука» — первые гениальные образцы поистине новорожденной лирики Гете. Позднее, в 1775 году, Гете написал свое «На озере», где на протяжении всего двадцати строк трижды меняется стихотворный размер, мгновенно откликаясь на каждую перемену, происходящую в природе и во взволнованном сердце поэта.
Совсем особое место в раннем творчестве Гете занимают его так называемые «большие гимны», написанные вольными ритмами. В них, быть может, особенно ярко проявляется способность Гете мыслить и поэтически воссоздавать зримый и душевный мир в их неразрывном единстве и неустанном движении. Отсюда их необычайное ритмическое и лексическое богатство, отсюда же и отчетливая периодизация их «ритмического дыхания». Тут каждая строфа — своего рода «выдох» неодинаковой длительности, отчего строфы, соответственно, разнятся друг от друга числом строк и «тактических» единиц.
Через все его «большие гимны», как ни разнообразна их тематика — богоборческое самоволие Прометея, жажда Ганимеда раствориться в целокупности «бога-природы» или же стремление мудрого кормчего «перелукавить» морскую бурю, «помня цель и на худой дороге», — проходит общая им, так сказать «сквозная», тема: восприятие мира глазами гения, глазами творца-поэта, который, согласно теориям английского философа Шефсбери, а также Лессинга, Гамана, Гердера, наделен «сверхобычным» даром прозревать бесконечное в конечном, вечное в преходящем.
Гете не рассуждает в своих гимнах о природе гения и гениальности, а создает, как художник, титанический образ гения. Конечно — из материала собственной его гениальной одаренности, но вместе с тем как бы увиденный со стороны (объективно), в качестве «лирического героя» его вдохновенных дифирамбических монологов.
В Страсбурге Гете живет повышенно интенсивной жизнью, наполненной до краев разными событиями, впечатлениями, переживаниями. Сдавши экзамен за весь курс обучения еще в сентябре 1770 года, Гете уже не посещает лекций профессоров-правоведов, по тем усерднее — лекции медиков и химиков. Работает в университетской клинике. Пешком и верхом блуждает по красивым окрестностям города, собирая, по совету Гердера, народные песни. Как всегда, часами беседует с крестьянами, угольщиками, вникая в их быт и труд, перенимая с их голоса сильный и самобытный язык народа.
Тогда же Гете переживает глубокое сердечное увлечение дочерью зезенгеймского пастора Фридерикой Брион, с каковым не выдерживают сравнения ни его детская любовь к некой Гретхен, ни галантное ухаживание за кокетливой простушкой Кетхен Шенкопф (в его лейпцигские годы).
Образ Фридерики «во всей его ласковой прелести» вошел в душевный мир молодого поэта, запечатлелся в его стихах. Через несколько недель молодые люди были помолвлены. Но свадьба не состоялась. В августе 1772 года, сейчас же по получении ученой степени, Гете спешно покинул Эльзас. И это означало разрыв. Юный Гете меньше всего годился для сельской идиллии, для тихого счастья. «Приятная местность, люди, которые любят меня, дружеский круг, — так пишет он близкому другу еще будучи женихом. — Уж не те ли это сады фей, о которых я некогда грезил? Да-да, это они! Я это чувствую, милый друг! Но чувствую также, что ни на волос не приблизился к счастью, даже теперь, когда сбылись мои упования».
Развязка зезенгеймского романа была трагична. Для Гете она означала отказ от столь, казалось бы, желанного счастья — отказ, тем более скорбный, чем печальнее была судьба брошенной им девушки, уже нареченной его невесты. Тут ключ к «Фаусту», к его первой «субъективной» части…
В Страсбурге в фантазии поэта ожили два могучих образа, вскормленных духом мятежного XVI века, который расценивался Молодым вождем литературы «Бури и натиска» как напутственный дар, ему врученный драматическим прошлым его родины, — Гец фон Берлихинген и Фауст, чьи судьбы, как представлялось Гете, стояли в тесной связи с судьбами его народа. Но в то время как работа над первыми картинами «Фауста» была отложена более чем на два года, «Гец фон Берлихинген» всецело завладел воображением Гете в первые же месяцы по его возвращении во Франкфурт.
Впрочем, литературная деятельность молодого Гете не ограничилась одной лишь художественной сферой. Он усердно работал также постоянным рецензентом и во «Франкфуртском ученом вестнике», пропагандировавшем идеи «Бури и натиска». С почтением назывались в этом кругу имена Гердера, Лессинга, Клопштока, но высшим воплощением поэзии сотрудники названного журнала почитали Шекспира. Племенем титанов представлялись им его герои с их большими характерами и страстями. «Шекспирианство» Лессинга, Гердера, молодого Гете, при всем несходстве их эстетических воззрений, объединялось единым стремлением: призвать современность перерасти скудные пределы безропотной рабской психологии, восстать против гнетущей немецкой действительности с ее обветшалыми феодальными учреждениями.
Наиболее раннее упоминание о работе над «Гецем фон Берлихингеном» имеется в письме от 28 ноября 1771 года: «Все мои силы сосредоточились на предприятии, ради которого позабыты и Гомер, и Шекспир, и все на свете. Я, воплощая в драматическую форму одного благороднейшего немца, спасаю от забвения память о прекрасном человеке, и большой труд, которого мне это стоит, является для меня прекрасным времяпрепровождением. А я в нем здесь очень нуждаюсь… Франкфурт — это гнездо, удобное для того, чтобы выводить птенцов, в остальном же, выражаясь фигурально, сущий вертеп, гнусная дыра». Франкфуртской и всегерманской «дыре» Гете и противопоставляет образ своего героя, свою «дань уважения памяти мятежника», как определил «Геца фон Берлихингена» Фридрих Энгельс.
Несколько слов о языке «Геца», который сам по себе является великим произведением искусства. Под влиянием плодотворной встречи с Гердером Гете раз и навсегда пришел к убеждению, что «поэзия — дар, присущий всему миру и всем народам, а не частное достояние отдельных тонких и образованных людей». Гете почерпал в немецком народном языке, уходящем корнями в глубинные пласты истории, поэтические средства для самых возвышенных своих творений. Язык «Геца» — совершенный сплав живой обиходной народной речи с речевыми оборотами, извлеченными из Лютерова перевода Библии, из хроник XVI и XVII веков, а также из «Истории жизни господина Геца фон Берлихингена, написанной им самим». Не перегруженный анахронизмами, этот язык доходчив, сразу же окунает нас в атмосферу отдаленной эпохи, обдает дыханием неподдельной старины.
Гец фон Берлихинген, каким его создал Гете, «муж, которого ненавидят князья и к кому обращены взоры всех угнетенных», борец за национальное сплочение Германии, — не реальное историческое лицо, а идеальный, то есть всего лишь «возможный» трагический герой мятежного XVI века. Исторического Геца, авантюриста, возглавившего Светлый отряд восставших крестьян и позднее их же предавшего, Энгельс никогда бы не назвал мятежником. Иными словами, гетевский Гец легендарен. Но именно эта легендарность, привнесенная поэтом в его драму, и сообщила ей внутреннюю историческую правду и обострила ее политическую актуальность. Ведь задача национального сплочения немецкого народа, которую тщетно пыталось разрешить в XVI веке низшее немецкое дворянство (наиболее «национальное сословие» империи в ту отдаленную эпоху, по определению Энгельса), в XVIII веке столь же неотступно стояла перед немецким бюргерством, оставаясь по-прежнему неразрешимой.
Драматическое действие в «Геце фон Берлихингене», говоря словами Гете, «вращается вокруг скрытой точки… где вся самобытность нашего Я и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого». Время («неизбежный ход целого») благоприятствовало торжеству своекорыстного княжеского сепаратизма, предрешало поражение и гибель Геца.
И все же, когда Гете заставляет своего героя воскликнуть перед смертью: «Какой небесный воздух! Свобода! Свобода!» — это не только риторическая драпировка, прикрывающая бесславную гибель, но также и ясновидение сердца героя, видение грядущего освобожденного мира. Гете верил, что «бесполезный подвиг» героя будет еще довершен человечеством, если благородный образ Геца сохранится в народной памяти. «Горе потомству, если оно тебя не оценит!» — таковы последние слова трагедии.
Бунт Геца фон Берлихингена, каким он обрисован в драме Гете, — не бунт ради бунта. Гец бунтует во имя новой законности, стремится своим рыцарским «кулачным правом» осуществить лучшее будущее. В этом его отличие от Вейслингена, типичного представителя немецкого дворянства, пошедшего в услужение к князьям и епископам, который мечтает о совсем иной «свободе» — о безвозбранной власти над бесправным народом, обретенной на княжеской службе. Осуждая Вейслингена, молодой Гете осуждает ту часть немецкого бюргерства, которая — по примеру немецких дворян XVI века — мирилась с порядками феодально-раздробленной Германии.
Создав своего «Геца», эту обширную историческую панораму эпохи Реформации и Великой крестьянской войны, Гете сразу же стал популярнейшим писателем Германии. Уже не всегерманскую, а всемирную славу принесло ему второе крупное его произведение — «Страдания юного Вертера», роман, в котором с потрясающей силой показана трагическая судьба одаренного юноши, вся гибельность (для народа, для отдельного человека) дальнейшего существования в Германии обветшавших феодальных порядков.
Быть может, лучше всего раскрывает суть злосчастной любви Вертера к «Лотте, бесценной Лотте» мысль, высказанная Стендалем в трагический миланский период его страстного увлечения Метильдой Висконтини: «Мне кажется, покончить с собой помешал мне тогда интерес к политике». На пути Вертера к самоубийству не было такой спасительной помехи. Трагедия «мятежного мученика», как назвал Вертера Пушкин, не только трагедия злосчастной любви, но и трагедия вынужденного бездействия (и притом политического).
Трудно назвать другое произведение немецкой литературы, вызвавшее при своем появлении такой страстный отклик в сердцах современников, немецких и зарубежных, как «Страдания юного Вертера». Гете не без гордости писал в своей автобиографии: «Действие моей книжечки было велико, можно сказать, даже огромно — главным образом потому, что она пришлась ко времени. Как клочка тлеющего трута достаточно, чтобы взорвать большую мину, так и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был столь велик потому, что юный мир сам уже подкопался под свои устои». «Вертер» переводится на все европейские языки, в том числе и на русский. Во Франции им зачитываются просвещенные аристократы и будущие участники Великой революции, а также Наполеон Бонапарт — тогда еще безвестный артиллерийский лейтенант. Он возьмет с собой «Вертера» и в свой египетский поход.
Историческое значение «Вертера» заключается прежде всего в том, что Гете удалось вместить в эту небольшую книжку некоторые центральные, наиболее жгучие проблемы его времени. Это не значит, конечно, что «Вертер» не является вместе с тем одним из замечательнейших романов о любви. Совсем напротив. До «Вертера» не было романа, так точно и проникновенно воссоздававшего психологию страсти, своеобычность женского и мужского чувства и — рядом со светлыми картинами преданной любви, а также теплого уюта простой бюргерской семьи (отчего дома Лотты) — столько бездн, столько мрачных искушений, одному из которых, самоубийству, и поддался мятежный страдалец.
В первой части романа повествуется об истории зарождения и развития любовного чувства Вертера к Шарлотте, невесте его друга Альберта. Не желая нарушить чужого счастья, смутить покой любимой девушки, Вертер находит в себе душевные силы оторваться от предмета своей несчастной страсти. Он уезжает, поступает на государственную службу, хочет уйти с головой в практическую деятельность.
Этот план терпит крушение. Способному, самолюбивому юноше приходится служить под началом придирчивого, недалекого педанта, который занимает должность посланника лишь по праву рождения. Этого мало: Вертер подвергается оскорблению в доме графа фон К., когда он простодушно засиживается после обеда у благоволящего к нему хозяина.
Только после крушения служебной карьеры Вертер вторично встречается с Лоттой. Теперь трагическая развязка неизбежна, ибо юноше некуда бежать от своей страсти: ведь он вполне убедился, что практическая деятельность для него сопряжена с постоянными унижениями. Вертер уходит в себя, всецело отдается снедающему его страстному чувству. Он видит также, что напрасно уступил Альберту возлюбленную. Вертер и Лотта предназначены друг для друга. Теперь, когда Лотта — жена Альберта, юноша сделал трагическое открытие, что и она его любит.
Вертер на каждом шагу убеждается в бесчеловечности и жестокости окружающей его действительности. Жертвой того же косного, беспощадного миропорядка на его глазах становится простой крестьянский парень, горячо полюбивший свою хозяйку. Быть может, она бы и ответила взаимностью своему батраку, но жадной мужниной родне, ждущей наследства от бездетной вдовы, удалось их поссорить. Парень терпит и это. Но когда любимая им женщина выходит замуж за другого — вполне к ней равнодушного, расчетливого человека, несчастный в приступе безотчетной ярости убивает своего соперника. Так из-за гнусных козней, из-за стремления жадной родни приумножить свое благосостояние, любовь и верность, лучшие человеческие чувства, привели к насилию и убийству. «Тебе нет спасения, несчастный! Я вижу, что нам нет спасения!» — мысленно говорит Вертер своему собрату по страданиям.
На столе в комнате самоубийцы лежала открытой «Эмилия Галотти» — пьеса Лессинга, в которой великий немецкий просветитель всего решительнее восстает против произвола тиранов. «Вертера похоронили около одиннадцати часов ночи, на том месте, которое он сам для себя выбрал… Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его».
В одном из первых отзывов на «Вертера» рецензент (Мерк), ссылаясь на небывалый успех романа Гете, утверждал, что и ничтожнейший клочок действительности должен изображаться на основании той же действительности, наблюдаемой вовне или внутри нашего существа. И правда, в «Страданиях юного Вертера» «все пережито», но, конечно, воссоздано не так, как это было в жизни, то есть в узколичном опыте автора романа.
Записавшись по приезде в Вецлар (в мае 1772 г.) адвокатом-практиком, Гете почти не заглядывал в здание судебной палаты. Большую часть времени он проводил в так называемом Немецком доме, куда его влекло чувство к Лотте Буфф, дочери управляющего экономиями Тевтонского ордена, невесте секретаря ганноверского посольства Иоганна Кристиана Кестнера, с которым Гете состоял в тесной дружбе. 11 сентября того же года Гете покидает Вецлар, решив вырваться наконец из унизительно-двусмысленного положения, в котором он очутился. Искренний друг Кестнера, он любит Лотту, и она не остается равнодушной к этому непонятному ей, но неизъяснимо обаятельному юноше.
И вдруг, ни с кем не простившись, Гете пишет им такую прощальную записку: «Он ушел, Кестнер! Когда вы получите эти строки, знайте, что он ушел… Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах». Мотивы отступничества остались, по сути, теми же, что и в случае с Фридерикой Брион; как тогда, так и теперь Гете не решался на счастье за невозможностью воспользоваться им. Это не делало новый разрыв менее болезненным и горьким.
Месяц спустя кончает самоубийством Иерузалем, влюбленный в жену своего сослуживца. Обстоятельный отчет Кестнера об этом событии приходит во Франкфурт в первых числах ноября. Гете потрясен настигшей его вестью. Кестнеровский отчет будет почти дословно воспроизведен в финале романа в виде «сообщения от издателя». Но «последним толчком, от которого вода в сосуде превращается в ледяную глыбу», как выразился Гете, весть о гибели Иерузалема все же не стала: «Вертер» был написан много позже, в 1774 году. Гете широко использовал в романе и свои вецларские письма к другу Мерку. Все это, как и позднейший эпизод его биографии: любовная дружба с Максимилианой Брентано, пресеченная ее ревнивым мужем, — вошло в его книгу.
Еще во Франкфурте, на вершине своей молодой славы, Гете не без горечи ощущал, что уже исчерпал себя как поэт, как писатель «Бури и натиска», что его мятежные творения не имеют под собой твердой исторической почвы. Предаваться и впредь беспоследственному призыву к действию в политически инертной Германии он не мог и не хотел. Для того чтобы уяснить себе, чем и как воздействовать на своих сограждан, надо было самолично заглянуть в реторту мировой истории.
А этого-то и нельзя было сделать, уступив своему влечению, своей любви к Лили Шёнеман, прелестной дочке франкфуртского банкира. Нет, надо бежать, и бежать немедленно! Тем охотнее, хотя и с израненным сердцем, откликнулся Гете на приглашение веймарского герцога Карла-Августа посетить его резиденцию — Веймар, где Гете суждено было прожить, лишь с малыми перерывами, всю свою позднейшую жизнь.
«Быстро, как бег саней, проносится моя жизнь! Звеня бубенчиками, летит она то туда, то сюда! Бог знает, что еще предназначено мне, прошедшему сквозь столько испытаний. Это последнее даст новый взлет моей жизни, и все обернется прекрасно», — таковы были первые строки Гете, написанные им из Веймара на исходе первых недель его пребывания, проходивших в беспрестанных увеселениях и в тесном дружеском общении с восемнадцатилетним герцогом. При первой же встрече с Гете Карл-Август предложил ему стать его ближайшим сотрудником и другом, на что тот незамедлительно согласился. «Герцогства Веймарское и Эйзенахское, — тотчас же отписал он Мерку, — как-никак достойное поприще для того, чтобы проверить, к лицу ли тебе историческая роль».
Поступая на веймарскую службу, Гете тешил себя надеждой добиться радикального улучшения на малом клочке немецкой земли, с тем чтобы проведенные им реформы стали бы прологом общенационального обновления немецкой государственности. Еще он верил тогда в дружескую поддержку герцога и в свое умение «перелукавить» противников задуманных им преобразований, «по виду им уступая», но «помня цель и на худой дороге», — как говорится в «Морском плавании», в котором поэт и веймарский легационный советник сравнивает себя со смелым мореходом в грозу и бурю.
Как ни мала была «реторта», в какую довелось заглянуть Гете, она все же отчасти приоткрыла ему «ход земных дел»: «Тяготеющее над нами проклятие — высасывать всю кровь из страны — лишает меня вожделенного покоя», — так писал он госпоже фон Штейн, с которой поддерживал любовную дружбу, на восьмом году своего пребывания в Веймаре, когда все задуманные им преобразования парализовались придворной камарильей. Его рассуждения о Карле-Августе становятся почти враждебными: «У герцога, в сущности, самые ограниченные воззрения. Решиться на отважный поступок он может разве лишь сгоряча. Напротив, провести в жизнь смелый и развернутый план он не способен…» «Лягушка хоть и может какое-то время попрыгать по Земле, но создана она все-таки для болота». «Счастлив я бываю, только когда мне удалось кое-что написать, и написать хорошо!» — признается он все той же госпоже фон Штейн.
Но на деле он пишет очень мало. И больше всего его волнует, что именно теперь, при нарастающем отвращении к делам службы, он не находит ключа к своим былым литературным замыслам, частично уже осуществленным, — к «Фаусту», к «Эгмонту» и «Мейстеру» (первоначально называвшемуся «Театральным призванием Вильгельма Мейстера»).
Ничто (даже прочная дружба с Шарлоттой фон Штейн) теперь не могло удержать его в герцогстве. Уже давно томило его желание бросить постылые обязанности первого министра и бежать в Италию. 3 сентября 1786 года Гете — тайно ото всех — совершает давно задуманное бегство. Почти два года проводит он в Риме, Неаполе, Сицилии, Венеции, общаясь с художниками, знакомясь с памятниками искусства, усердно работая над завершением «Ифигении» и «Эгмонта», пополняя новыми сценами «Фауста», вчерне заканчивая «Тассо» и свой научный труд «Метаморфоза растений».
Герцог вполне сознает, что, утратив Гете, он лишится славы своего княжения. Они договариваются: Гете соглашается вернуться в Веймар, но, сохранив звание первого министра, отныне в основном ведать только делами просвещения.
В Италии Гете не пишет лирических стихов. Лирическим итогом всей его «итальянской эпохи» являются его «Римские элегии» — цикл любовных стихотворений, обращенных к Христиане Вульпиус, девушке из народа, с 1806 года ставшей его законной женой.
Читая эти элегии, невольно приобщаешься к безоблачному роману, перенесенному фантазией и благодарной памятью поэта из маленького Веймара на стогны «вечного города». Столица языческого и христианского мира «весть о себе подает» в каждой строке этого искусно воссозданного «римского дневника». Современный город и предания языческой старины здесь как бы меняются местами: «поповское гнездо» кажется призрачной декорацией рядом со свободной чувственной страстью, охватившей обоих любящих, — страстью, в которой согласно античному воззрению «божественно все и все человечно».
Над «Римскими элегиями» Гете работает урывками с 1787 по 1790 год, но сам он неизменно датировал их 1788 годом — так не вязалось их интимно-личное содержание с новой эрой, возвещенной французской революцией 1789 года. Долгожданная, она не пробудила в поэте особого энтузиазма. Лишь гораздо позже открылась ему ее историческая плодотворность, и все же великий поэт и мыслитель тотчас же осознал, что отныне возможно рассуждать о смысле и цели истории человечества, только пристально всматриваясь в происходящую на его глазах перестройку европейского общества.
Гете, не веривший — и с полным на то основанием — в революционную готовность немецкого народа, видел в современности всего лишь переходный этап истории, ступень, ведущую к более достойному существованию людского племени. Однако подобная широта исторических воззрений у него уживалась с проповедью скромной, но плодотворной деятельности, направленной на удовлетворение «требований дня». Более того, он относился с недоверием, а порою и с неприязнью к тем, кто, не довольствуясь малым, стремился к быстрейшему ниспровержению социального зла современности. И это несмотря на то, что он во все периоды своей жизни отнюдь не отрицал революции как оружия для «разрешения неразрешимых конфликтов, коль скоро вся нация прониклась убеждением, что старая закваска должна быть выброшена и что впредь уже нельзя мириться со старой ложью, несправедливостью и пороками».
Но если Лессингу, сказавшему на склоне лет: «Неправда, что прямая линия всегда самая короткая!» — это отнюдь не помешало создать революционную драму «Эмилия Галотти», то Гете открыл классический период своего творчества драмой «Ифигения в Тавриде» (1787), в которой он ведет своего злосчастного героя от одержимости к умиротворению, от бунта к покорности. Ифигения спасает Ореста и его друга Пилада тем, что смиренно предает свою и их судьбу в руки царя Фоанта, отказывается от своеволия и снимает «праведным» своим смирением древнее проклятие, тяготевшее над ее родом. Так в «Ифигении» праведница одерживает нравственную победу над тираном.
Вслед за «Ифигенией» Гете закончил в Италии и «Эгмонта» (1788), начатого им еще во Франкфурте и снова переносящего нас в XVI век. Образ заглавного героя, графа Эгмонта, сложен и двойствен при всей цельности его характера. Двойственна и позиция, занятая им в борьбе нидерландских народов против испанских поработителей. Высокое положение испанского гранда и кавалера «Золотого руна», победы, одержанные Эгмонтом на службе королю Филипу II — все, казалось бы, накрепко связывало его с испанским двором и правительством. Но он любил свой народ и был его любимцем. Прежде всего потому, что в нем так ярко и обаятельно представлен фламандский характер. Он весел, щедр, храбр и беспечен. Он умеет запросто говорить с последним ремесленником и с беднейшим крестьянином. И народ охотно приписывает ему тайное сочувствие своим нуждам, своему религиозно-повстанческому движению. А это дает лишний повод герцогу Альбе видеть в Эгмонте одного из высокородных вождей народного бунта, с которыми суровый наместник короля порешил расправиться, чтобы тем легче покончить с мелкими бунтовщиками. Вся знать покидает Брюссель. Но Эгмонт остается. Даже настойчивые уговоры принца Оранского не могут сломить его беспечности. «У меня есть чудесное средство разгладить морщины раздумья», — говорит он.
Это средство — любовь к Клерхен. Эгмонт любит в ней девушку из парода, ее редчайшую чистоту и бескорыстие, как любит он безотчетно и свой народ. В привычных условиях он — всего лишь блестящий рыцарь и храбрый генерал — едва ли бы примкнул к восставшему народу. Но всему привычному пришел конец. Эгмонт в узилище. В гнетущем одиночестве каземата. Наутро казнь.
И тут героическая эпоха выявляет его лучшее Я. Теперь ему сполна открылось, какое значение возымеет его казнь на фоне надвигающейся беспощадной борьбы его народа за освобождение родного края от испанского ига. И Эгмонт (на фоне бессмертной музыки Бетховена, сопровождающей его монолог, — Гете запретил исполнять эту сцену иначе) с радостной отвагой идет навстречу «почетной смерти», призывая сограждан бесстрашно биться за свободу.
Как отличен этот конец от смерти Геца, омраченной сознанием безнадежности!
Другое дело «Торквато Тассо» (1790), где косное общество, напротив, побеждает мечтателя-поэта. «Тассо» еще при жизни Гете был назван «усугубленным Вертером». И действительно, любовные мучения Тассо переплетаются с социальным мотивом теснее даже, чем в юношеском «Вертере». Тассо, обласканный при дворе герцога Альфонса, наивно полагает, что допущен в этот «избранный круг» как равный. Когда же он убеждается, что нужен княжеской семье только как «украшение придворной жизни», он в душе восстает против своих бездушных покровителей, а сознание, что и любимая им принцесса Леонора не видит в нем равного себе, приводит его к безумию.
Финальный монолог Тассо проникнут высоким трагическим пафосом; каждый стих здесь горит и жжет. Вместе с тем Гете не дозволяет своему герою смотреть на постигшую его беду по-вертеровски — как на жестокий, ничем не заслуженный произвол небес и людей. Напротив, он дает ему осознать всю непреложность законов существующего общества, всю тщету, все безумие своей борьбы с ним.
Рядом с идеей восстания против несправедливого строя сменившая ее в эпоху классицизма идея «эстетического воспитания» кажется худосочно-либеральным рационализмом. Но она-то и легла в основу литературного сотрудничества Гете с Шиллером, хоть и не стремившихся к несбыточной тогда революции, но тем более к тому, чтобы человек — под воздействием искусства — научился «и в этой грязи быть чистым, и в этом рабстве свободным», дабы в час, когда рухнет старый миропорядок, «щедрый миг не застал бы неподготовленного поколения» (Шиллер).
Как бы то ни было, но тесная дружба двух величайших поэтов приносит прекрасные плоды: такие стихотворения, как «Прочное в сменах», «Душа мира» и другие, баллады «Коринфская невеста» и «Бог и баядера», поэма «Герман и Доротея» и, наконец, роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» (если говорить только о Гете).
Созданная в разгар борьбы Гете и Шиллера за воскрешение классической поэтики, поэма «Герман и Доротея» (1798) — отнюдь не слепое подражание Гомеру. Ее действие развивается эпически плавно, но вместе с тем с чисто драматической непрерывной последовательностью. Поэма подчинена ускоряющим ход событий пресловутым «трем единствам» античного театра, никогда в эпической поэме не применявшимся, чем лишний раз подчеркивается ее драматический характер.
Правда, пространство, на котором протекает действие поэмы, не сужено до малых размеров сценической площадки: оно обнимает городок и соседнюю деревню, где остановились бежавшие от Французов переселенцы (и вместе с ними избранница Германа Доротея). Это дает возможность воссоздать укромный уголок с наглядной тщательностью — то в пространстве, как широкую панораму, то во времени, как ряд длительных видоизменений, открывающихся глазам юноши и его милой спутницы по мере того, как он «по тропинке навстречу закатному солнцу» неторопливо ведет ее к дому своих родителей и, уже при свете луны, спускается и городу по садовой аллее, где не знакомая с местностью Доротея, оступившись, подвернула ногу, а «догадливый парень»,
Милую перехватив, заключил осторожно в объятья:
Грудь прижалась к груди, и щека к щеке прикоснулась.
Совершенно так же и время наполняется богатейшим содержанием и выразительной долготою, тем более что речь идет об одном из дней глубоко драматической эпохи, а это придает времени более емкий исторически насыщенный смысл. В действие, хотя это на первый взгляд и незаметно, вторгаются неотвратимые судьбы Франции эпохи Директории, что, по выражению Гете, «в своей совокупности возмещает Гомеровы образы древних богов», незримых участников всемирно-исторических событий.
С мягким юмором воссозданный быт провинциального мещанства, чудесная пейзажная живопись и высокая патетика — готовность Германа с оружием в руках отстаивать свою семью, свой дом и отечество от вторжения французских полчищ — сведены в прекрасное классическое целое.
Гете не без гордости отмечал, что немцы (то есть он сам) впервые отобразили бюргерский мир революционной эпохи, «тогда как французы остались верны своему классицизму». Но он сделал большее: ему удалось достаточно отчетливо запечатлеть перелом в настроении своих соотечественников, когда во Франции, после 9 термидора и казни Робеспьера, а также кровавой расправы — пулей, штыком и гильотиной — с двумя последними массовыми выступлениями парижской «голытьбы», ничто уже не препятствовало крупной буржуазии перенести «ограбление революции», ограбление собственной страны, также и за пределы Франции.
Наполеон, вся кипучая и кровопролитная деятельность которого служила обогащению французской крупной буржуазии, презрительно назвал плутократию, господство толстосумов, «наихудшей из аристократий». Гете держался примерно того же мнения. Так в «Геце», так — завуалированно — в «Германе и Доротее», так — всего отчетливее — в «Вильгельме Мейстере», в письмах и в устных высказываниях.
Мы привыкли по старинке относить великого поэта и мыслителя к эпохе, которую Гейне назвал «Kunstperiode» («художественный период»). Это по меньшей мере не очень точно. Как поэт, как автор повествовательной прозы, Гете не мог, конечно, быть равнодушным к судьбам искусства. Но он отнюдь не придавал искусству того исключительного значения, какое приписали ему романтики. Достаточно вспомнить, что Гете сказал устами Геца: «Писание — трудолюбивая праздность» (сравнительно с его политической борьбой). И еще — о гениальности, которая в глазах Гете превосходная степень всякой продуктивной деятельности: «Да, да, дорогой мой, не только тот гениален, кто пишет стихи и драмы. Существует и продуктивность деяний, и во многих случаях она стоит превыше всего». Гете мечтал о том, что он сам называл «истинным либерализмом», — о справедливых правительствах, способных своевременными улучшениями предупреждать недовольство угнетенного народа.
Видеть в Гете чуть ли не вождя и идеолога «художественного периода» мешает еще одно немаловажное обстоятельство: то, что он был вместе с тем и выдающимся ученым-естествоиспытателем. Ограничусь дословным пересказом заключительной части памятной мне речи академика Вернадского: «В те достаточно давние времена только для Гете существовала одна лишь действительность, один лишь реальный мир, говоря обыденным языком. Почему, по его убеждению, и средства для раскрытия «открытых тайн природы» следует почерпать только в ней, в действительности. Как бы далеко ни ушла и ни уйдет наука от воззрений Гете, за ним останется неоспоримая заслуга зачинателя сравнительной анатомии, морфологии, генетической биологии и т. д.». Наше Собрание сочинений Гете почти целиком отведено его художественным произведениям; для научных его трудов в нем не нашлось места, если не считать малой подборки высказываний в «Максимах и рефлексиях».
А теперь несколько слов о «Годах учения Вильгельма Мейстера» (1796). Не о художественных достоинствах романа речь и не о замечательной его экспозиции, способной поспорить своим выразительным лаконизмом со вступительными абзацами «Анны Карениной». Роман писался в 1794–1796 годах, но действие в нем происходит еще до революционного 1789 года. Некоторые толкователи романа отождествляли воззрения Вильгельма с воззрениями автора. «Бюргер (в отличие от дворянина. — Н. В.) не смеет спросить себя, кто он есть, а только: достаточно ли его состояние?» — пишет Вильгельм другу своей юности Вернеру. Молодой энтузиаст полагает, что нашел средство сравняться с дворянином, и это средство — театр: «…на подмостках всякий образованный человек окружен тем же блеском, что и представитель высшего класса и… может безвозбранно действовать на каком угодно поприще».
Едва ли Гете солидаризовался с этими рассуждениями своего героя. Тому противоречит уже само название романа — «Годы учения Вильгельма Мейстера». Но нас здесь в первую очередь интересуют политические воззрения самого Гете, отразившиеся в «Мейстере». Особенно отчетливо они проступают в восьмой книге романа — в разговоре Лотарио с Вернером, другом юности Вильгельма, типичным немецким бюргером. Распродав ценную коллекцию картин после смерти старого Мейстера, он приобретает на имя Вильгельма дворянское имение, не обложенное налогами: «Меня интересует не столько это приобретение, — говорит по этому поводу либеральный дворянин Лотарио, — сколько его правомерность». — «О, небо! — вскричал Вернер. — Да разве наше приобретение не вполне правомерно?» — «Не совсем». — «Разве мы за него не заплатили чистоганом?» — «Конечно, но мне не представляется вполне чистым, вполне правомерным любое приобретение, если оно не уделяет государству причитающуюся ему долю». — «Как? Вы предпочли бы, чтобы купленные нами земли были обложены налогами?» — «Да, в известной мере. Ибо только такое равенство с прочими владельцами вполне обеспечивает владение. В чем видит крестьянин нынешнего времени, когда сместились все понятия, главный повод считать права дворянина на землю менее обоснованными, чем его права? Только в том, что дворянин не отягощен повинностями, а сам отягощает ими его, крестьянина». Страх перед крестьянской революцией сделал из дворянина Лотарио реформиста, но это невдомек Вернеру. Его тревожат другие заботы: «А что будет с процентами на наш капитал?» — «Хуже не будет! — успокаивает его Лотарио. — Если государство за справедливые отчисления избавит нас от фокусов ленного права и позволит нам свободно распоряжаться нашим достоянием. К тому же государство будет иметь больше хороших граждан». — «Могу вас уверить, — сказал Вернер, — что я еще в жизни своей не думал о государстве…» — «Ну, я все же надеюсь сделать вас добрым патриотом».
Этот диалог типичен для Германии дореволюционных времен, когда во всей Европе распространились теории французских физиократов, ставивших во главу угла «идею земельной ренты», чуть ли не обоготворявшуюся ими. Гете, когда он еще мечтал о реформах в Веймарском герцогстве, склонялся к той же идее, правда, с существенным коррективом в пользу народа — с мыслью о прогрессивном подоходном налоге. Теперь же, как видно из приведенного диалога, он уже вполне уразумел, что «законная» капиталистическая эксплуатация крестьян мало чем будет отличаться от феодальной. Более того, он убедился и в том, что немецкое бюргерство не поддержит простой народ в его борьбе с аристократией, не решится на революцию, что и оно будет, подобно Вильгельму Мейстеру, думать только о том, как ему быть «при теперешнем положении вещей», и идти своим путем, не надеясь на какие-либо перемены.
Иными словами, Гете критикует и осуждает как «практика» Вернера, так и «идеалиста» Вильгельма Мейстера. А сам Гете, как он думает решать этот острый социальный конфликт? Мы знаем, в «Фаусте» сказано:
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Но кто возглавит этот бой? В бюргерство Гете не верит, и с полным на то основанием: революция 1848 года сполна подтвердила его правоту. Оставалось только утопическое «решение» вопроса — надежда на мудрое, чутко откликающееся на нужды парода правительство и другие беспочвенные утопии, многословно изложенные в «Годах странствий Вильгельма Мейстера» (1821–1829), книге раздумий и глубоких предвидений, служащей продолжением «Годов учения».
Та же критика господствующих классов Германии неприметно проходит и по страницам романа «Избирательное сродство», романа о физиологии или даже «химии» любви, которая тем легче порабощает людей, не поглощенных полезным деятельным служением обществу, народу.
В 1809 году Гете принимает решение написать свою знаменитую автобиографию «Из моей жизни. Поэзия и правда», внушенную мыслью, что все написанное, а главное, все неоконченные замыслы поэта должны найти себе место «под единой крышей». Ибо смерть уже не раз стучалась в двери его дома, и только беззаветная отвага верной спутницы его жизни спасла его в 1806 году, когда Наполеон разгромил прусскую армию, от погибели. В разграбленном и полуразрушенном Веймаре Гете обвенчался с Христианой и ввел ее в ранее для нее закрытое общество.
«Поэзия и правда» — первая автобиография, в которой образ собственного Я нерасторжимо воссоединен с образом сверстного ему времени. Первая часть «Поэзии и правды» была закончена в октябре 1811 года, когда «звезда Наполеона» еще ярко сияла на историческом небе; вторая — в ноябре 1812 года, когда первые вести о гибели Великой армии на необъятных просторах России уже стали просачиваться в отдаленный Веймар. Работа над третьей частью автобиографии совпала по времени с безнадежной борьбой Бонапарта против европейской коалиции, с его последними победами и уже непоправимыми поражениями.
Ни разноречивые слухи и неопровержимые вести с театра военных действий, ни даже грохот приближавшегося фронта не могли отвлечь писателя от упорного стремления осуществить свой грандиозный эпический замысел. Но вот война отгремела, теперь, казалось бы, и отдаться мирному труду, и завершить историю своей жизни. Но работа над «Поэзией и правдой» внезапно прерывается. Спокойствие, необходимая сосредоточенность, которые он так мужественно отстаивал в годы исторических испытаний, его покинули. Гете чувствует себя помолодевшим, обновленным. Пробужденный мудрой восточной поэзией Гафиза и нежданно-негаданно свалившимся на него чувством к Марианне фон Виллемер — прельстительной Зулейке его «Западно-восточного дивана», Гете вновь отдается лирическому наитию. Стихи текут, слагаются сами собой, ничем не похожие на все, что им создавалось раньше. Восток стал для Гете не только источником поэтического омоложения, поскольку он для него как поэта означал открытие новых областей, еще не занимавших его фантазии. Усвоив гафизовский тип поэзии, его искусную игру намеками, иносказаниями, двузначностью слова, Гете мог свободно выступать против поповствующей реакции, расцветшей на развалинах наполеоновской Европы.
Гете касается в «Западно-восточном диване» самых малых и самых великих явлений Природы и Духа, прибегая скорее к сниженному, чем к «высокому штилю». Он и на себя и свое чувство смотрит с благосклонной улыбкой мудреца, как на «феномен», подвластный — и в его случае — извечным законам мира и души человеческой.
В одном из стихотворений «Дивана» Зулейка сокрушается над гибелью роз, над тем, что
За флакон благоуханий,
Что, как твой мизинец, мал,
Целый мир существований
Безымянной жертвой пал…
Но не плачь! Из их печали
Мы веселье извлечем.
Разве тысячи не пали
Под Тимуровым мечом!
(Перевод В. Левика)
Такие сопоставления мимолетной горести возлюбленной с беспощадной суровостью исторических событий — встречались ли они когда в мировой любовной лирике Запада? Необыкновенная свежесть чувств в сочетании с полной непредвзятостью впечатлений и составляет неповторимое обаяние «Дивана».
Иные стихотворения этого цикла стоят в одном ряду с высшими образцами философской лирики Гете, с такими, как «Прочное в сменах» (1802) или его «Завет» (1829). Назовем в этой связи хотя бы такие бесподобные воплощения философской мысли в поэтическом слове, как «Воссоединение» (1815) или «Блаженное томление» (1814) с его знаменитой финальной строфой —
И доколь ты не поймешь:
Смерть — для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
Хозяином жизни является тот, кто живет жизнью всего людского племени — в его прошлом, настоящем и будущем, кто «гостит на земле», зная, что должен ее покинуть но от этого не перестает ее считать своим «вечным жилищем». Ибо, как сказано в «Завете»:
В ничто прошедшее не канет,
Грядущее досрочно манит,
И вечностью наполнен миг.
Совсем особое место в творчестве Гете занимает его «Мариенбадская элегия» («Элегия», 1824) — удивительный отклик семидесятипятилетнего старца на свою последнюю любовь к Ульрике фон Левецов, вопреки радужным надеждам кончившуюся трагически пережитым разрывом. Стройные стансы этой элегии дышат неподдельной страстью. Они поистине написаны человеком, стоящим над бездной, где «жизнь и смерть в борении жестоком»!
5
Но обратимся к произведению, уже не раз нами поминавшемуся, — к «Фаусту» Гете.
«Есть высшая смелость: смелость изобретения, — так писал Пушкин, — создания, где план обширный объемлется творческой мыслью, — такова смелость… Гете в Фаусте…»
Смелость этого замысла заключалась уже в том, что предметом «Фауста» служил не одни какой-либо жизненный конфликт, а последовательная неизбежная цепь глубоких конфликтов на протяжении единого жизненного пути, или, говоря словами Гете, «чреда все более высоких и чистых видов деятельности героя». Такой план трагедии, противоречивший всем принятым правилам драматического искусства, позволил Гете вложить в «Фауста» всю свою житейскую мудрость и большую часть исторического опыта своего времени.
Самый образ Фауста — не оригинальное изобретение Гете. Он возник в недрах народного творчества и только позднее вошел в литературу — в целый ряд «книжек для народа», написанных разными авторами. Одна из них попала в руки Вольфганга Гете еще в детские годы.
В эпоху немецкого Просвещения образ Фауста, быть может, в театрализованной обработке знаменитого английского писателя Кристофера Марло (1564–1593), привлек к себе внимание самого передового из писателей того времени Лессинга, который, обратившись к легенде о Фаусте, первый задумал окончить драму не низвержением героя в ад, а громким ликованием небесных полчищ во славу пытливого и ревностного искателя истины. Смерть помешала Лессингу кончить так задуманную драму, и ее тема перешла по наследству к поэтам «Бури и натиска». Почти все «бурные гении» написали своего «Фауста». Но призванным его творцом был и остался только Гете.
Гетевский «Фауст» — глубоко национальная драма. Национален уже самый душевный конфликт ее героя, восставшего против прозябания в гнусной немецкой действительности во имя свободы действия и мысли. Таковы были стремления не только людей мятежного XVI века; те же мечты владели умами поколения «Бури и натиска», вместе с которым Гете выступил на литературном поприще.
Гете начал работать над «Фаустом» с дерзновением гения. Сама тема «Фауста» — драма об истории человечества, о цели человеческой истории — была ему во всем ее объеме еще неясна, и все же он брался за нее, полагаясь на прямое сотрудничество с «гением века». Как жители песчаной кремнистой страны умно и ревностно направляют в свои водоемы каждый просочившийся ручеек, всю скупую подпочвенную влагу, так Гете на протяжении долгого жизненного пути с неослабным упорством собирал в своего «Фауста» — каждый пророческий намек истории, весь подпочвенный исторический смысл эпохи.
Будучи драмой о конечной цели социального бытия человечества, «Фауст» уже в силу этого — не историческая драма в обычном смысле слова. Это не помешало Гете воскресить в первой части драматической поэмы, как некогда в «Геце», колорит позднего немецкого средневековья.
Начнем с самого стиха трагедии. Перед нами — усовершенствованный стих Ганса Сакса, нюрнбергского поэта-сапожника XVI столетия. Гете сообщил стиху замечательную гибкость интонации, как нельзя лучше передающих и соленую народную шутку, и высшие взлеты ума, и тончайшие движения чувства. В текст трагедии щедро вкраплены проникновенные подражания старонемецкой народной песне — «Король жил в Фуле дальной…», «Что сталось со мною, // Я словно в чаду…» или надрывная песня обезумевшей Маргариты в последней картине первой части. Необычайно выразительны и ремарки к «Фаусту», воссоздающие пластический образ средневекового немецкого города.
И все же Гете в своей драме не столько воспроизводит историческую обстановку XVI века, сколько пробуждает для новой жизни заглохшие творческие силы народа, действовавшие в ту славную пору немецкой истории. Легенда о Фаусте — плод напряженной работы народной мысли. Такой остается она и под пером Гете: не ломая остова легенды, поэт продолжает насыщать ее новейшими народными чаяниями своего времени. Подвиг Гете, творца «Фауста», в том и состоял, что он сумел соединить просветительскую критику с идущим из глуби веков горячим правдоискательством немецкого народа.
Вступая в необычный мир «Фауста», надо привыкнуть к присущему этой драме обилию библейских персонажей. Господь и архангелы, Мефистофель и прочая нечисть — не более как носители извечно борющихся природных и социальных сил. В уста господа, каким он представлен в «Прологе на небе» (в котором дается завязка «Фауста»), Гете вкладывает собственные воззрения на человека — свою веру в благое разрешение человеческой истории. Когда Мефистофель, прерывая славословия архангелов, говорит, что на земле царит лишь —
…беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда, —
господь выдвигает, в противовес жалким, погрязшим в ничтожестве людям ревностного правдоискателя Фауста.
Мефистофель удивлен: в мучительных исканиях доктора Фауста он видит тем более веский залог его погибели. Убежденный в верности своей игры, черт заявляет господу, что берется отбить у него этого «сумасброда». Господь принимает вызов Мефистофеля. Он уверен не только в том, что Фауст —
Чутьем, по собственной охоте
…вырвется из тупика,—
но и в том, что Мефистофель своими происками лишь поможет упорному правдоискателю достигнуть высшей истины.
Тема раздвоенности Фауста, впервые походя затронутая Мефистофелем в «Прологе на небе», проходит через всю драму. Но эта «раздвоенность» не имеет ничего общего со слабостью воли или отсутствием целеустремленности. Фауст хочет постигнуть «вселенной внутреннюю связь» и вместе с тем предаться неутомимой практической деятельности, жить в полный разворот своих нравственных и физических сил. Фауст ненавидит свой ученый затвор именно за то, что, оставаясь в этом «затхлом мире», ему никогда не удастся ни то, ни другое. Разочарованный в мертвых догмах и в застойных схоластических формулах средневековой премудрости, он обращается к магии. На троекратный призыв Фауста является «дух земли», но тут же снопа отступает от заклинателя именно потому, что он еще продолжает рыться в жалком «скарбе отцов», питаясь плодами младенческой, незрелой науки. Фауст снова один, снова продолжает бороться со своими сомнениями. Они приводят его к мысли о самоубийстве. Но и эта мысль продиктована отнюдь не усталостью или отчаянием; Фауст хочет расстаться с жизнью лишь для того, чтобы слиться со вселенной и тем вернее, как он полагает, проникнуть в ее «тайну». Чашу с отравой от его губ отводит внезапно раздавшийся благовест. Знаменательно, однако, что Фауста возвращает «земле» не ожившее религиозное чувство, а только память о детстве, когда он в дни церковных торжеств так живо чувствовал единение с народом.
В живом общении с народом мы видим Фауста в следующей сцене — «У ворот». Но и здесь Фаустом владеет трагическое сознание, что и столь дорогая ему народная любовь им не заслужена; что он скорее вредил народу своим лекарским искусством. Так замыкается круг: обе «души», заключенные в груди Фауста, созерцательная и действенная, остаются в равной степени неудовлетворенными. В этот-то миг трагического недовольства собой к нему является Мефистофель в образе пуделя. Неутомимый доктор трудится над переводом евангельского стиха: «В начале было Слово». Передавая его как: «В начале было дело» — Фауст подчеркивает не только действенный, подвижно-материальный характер мира, но и собственную твердую решимость действовать. Более того, он уже смутно предчувствует свой особый путь действенного познания. Но еще смутно. И это поддерживает в Мефистофеле расчет на то, что он завладеет душою Фауста. Но обольщение строптивого доктора дается ему не так-то легко. Пока Мефистофель завлекает его земными усладами, Фауст остается непреклонным.
Увлеченный смелой мыслью развернуть с помощью Мефистофеля живую, всеобъемлющую деятельность, Фауст выставляет собственное условие договора: Мефистофель должен ему служить вплоть до первого мига, когда он, Фауст, успокоится, довольствуясь достигнутым:
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» —
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, — я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.
Мефистофель принимает условие Фауста. Неспособный на постижение «вселенной по весь объем», Мефистофель не допускает и мысли, что на него возложена некая положительная задача, что он и вправду «часть силы», вопреки ее воле «творящей добро». Более того, он верит не только в свою победу над одиноким правдоискателем, но и в конечную победу лжи над правдой, всемирного мрака над всемирным светом.
Маргарита — первое искушение на пути Фауста, первый соблазн возвеличить отдельный, прекрасный миг. Покориться чарам Маргариты означало бы так или иначе подписать мировую с окружающей действительностью. Бесспорно, в ней много хорошего, доброго, чистого. Но это пассивно-хорошее, пассивно-доброе само по себе не сделает ее жизнь ни хорошей, ни доброй. По своей воле она дурного не выберет, но жизнь может принудить ее и к дурному. Вся глубина трагедии Гретхен, ее горя и ужаса — в том, что мир ее осудил, бросил в тюрьму и приговорил к казни за зло, которое не только не предотвратил возлюбленный, но на которое он-то и имел жестокость толкнуть ее.
Фауст не принимает мира Маргариты, но и не отказывается от наслаждения этим миром. В этом его вина — вина перед беспомощной девушкой. Но Фауст и сам переживает трагедию, ибо приносит в жертву своим беспокойным поискам то, что ему всего дороже: любовь к Маргарите.
Фауст первоначально не хочет нарушить душевный покой Гретхен. Но его влечение к ней пересиливает голос разума и совести: он становится ее соблазнителем. В его чувстве к Маргарите теперь мало возвышенного. Низменные влечения явно вытесняют в нем порыв чистой любви. Всю глубину падения Фауста мы видим в сцене, где он убивает брата Маргариты и потом бежит от правосудия на Брокен, место сборища ведьм и сатанинской нечисти. И все же Фауст покидает Маргариту без ясно осознанного намерения не возвращаться к ней. Да он и вернется к ней, испуганный пророческим видением в страшную Вальпургиеву ночь:
Взгляни на край бугра,
Мефисто, видишь, там у края
Тень одинокая такая?
…Как ты бела, как ты бледна,
Моя краса, моя вина!
И красная черта на шейке,
Как будто бы по полотну
Отбили ниткой по линейке
Кайму, в секиры ширину.
Но за время отсутствия Фауста совершается все то, что совершилось бы, если б он пожертвовал девушкой сознательно. Гретхен умерщвляет ребенка, прижитого от Фауста, и в душевном смятении возводит на себя напраслину — признает себя виновной в убийстве матери и брата.
Мефистофелю не удалось отвлечь Фауста дьявольскими наваждениями от чувства к Гретхен. Он поспешает к ней на помощь. Фауст — свидетель последней ночи Гретхен перед казнью. Теперь он готов всем пожертвовать ей, быть может, и наивысшими своими устремлениями. Но она безумна. Она не дает себя увести из темницы. Гете избавляет Маргариту от выбора: остаться и принять кару или жить с сознанием совершенного греха. Многое в этой последней сцене первой части трагедии — от сцены безумия Офелии в «Гамлете», от предсмертного томления Дездемоны в «Отелло». Но здесь — пожалуй, впервые — поставлены друг перед другом эта полная беззащитность девушки из народа и это беспощадное полновластие карающего ее феодального государства. Слышать безумный, страдальческий бред любимой женщины и не иметь силы помочь ей — этот ужас каленым железом выжег все, что было в чувстве Фауста низкого, недостойного.
Теперь Фауст сознает безмерность своей вины перед Гретхен, равновеликой вековой вине феодального общества перед женщиной, перед человеком.
Одно бесспорно: сделать из Фауста беззаботного сластолюбца и тем отвлечь его от поисков высоких идеалов Мефистофелю не удалось. Таким путем пресечь великие искания героя оказалось невозможным. Мефистофель должен взяться за новые козни. Голос свыше: «Спасена!» — не только нравственное оправдание Маргариты, но и предвестник оптимистического разрешения трагедии.
Вторая часть «Фауста». Пять больших действий, связанных между собой не столько внешним, сюжетным единством, сколько внутренним единством драматической идеи и волевого устремления героя. Трудно сыскать в западной литературе другое произведение, равное ему по богатству и разнообразию художественных средств. В соответствии с частыми переменами исторических декораций здесь то и дело меняется и стихотворный язык. Немецкий «ломаный стих», основной размер трагедии, чередуется то с суровыми терцинами в стиле Данте, то с античными триметрами или со строфами и антистрофами трагедийных хоров, а то и с чопорным александрийским стихом, которым Гете не писал с тех пор, как студентом оставил Лейпциг, или же с проникновенно-лирическими песнями, а над всем этим торжественно звенит «серебряная латынь» средневековья, Latinitas argentata. Вся мировая история научной, философской и поэтической мысли — Троя и Миссолунги, Еврипид и Байрон, Фалес и Александр Гумбольдт — здесь вихрем проносится по высоко взметнувшейся спирали фаустовского пути (он же, по мысли Гете, путь человечества).
Вторая часть трагедии начинается с исцеления героя. Благодетельные эльфы стирают из памяти Фауста воспоминания о постигшем его ударе. То, с чем не может справиться наша совесть, могут одолеть жизненные силы, требующие душевной и телесной бодрости от человека, стремящегося к высокой цели. Фауст не раздавлен, а преображен былыми страданиями: вина перед Маргаритой и ее гибель остаются на нем. Но нет такой вины, которая пресекла бы стремление человека к правде.
Чем разнится умудренный Фауст от Фауста, знакомого нам по первой части трагедии? Прежде всего тем, что он осознал ограниченность возможностей отдельного человека, отдельной личности. Он уже не мнит себя ни богом и ни сверхчеловеком, а только человеком, и — как все люди — обречен всего лишь на посильное приближение к абсолютной конечной цели. Но эта цель и в преходящих ее отражениях причастна абсолютному и все ближе подводит человека и человечество к конечному, вернее же, к бесконечному — осуществлению всемирного блага, к решению загадок и заветов истории. Первые слова, произнесенные Фаустом во второй части трагедии, — это большой монолог, написанный терцинами, — одна из двух-трех величайших вершин «Фауста», где поэтическая гармония и философская глубина достигают полного слияния и предельного совершенства.
Пусть наш глаз не способен глядеть на солнце, но ведь он не видит и в полной тьме: зримый мир для нас существует, только поскольку он — скупо или щедро — озарен светом. Краски, согласно гетевскому «Учению о цвете», всегда — сочетание света и мрака. В этом монологе образ «потока вечности» вырастает во всеобъемлющий символ — радугу, не меркнущую в подвижных струях низвергающихся горных потоков. Водный фон обновляется беспрерывно. Радуга, отблеск вечного солнца, не покидает водной стремнины: «все минется, одна только правда останется» — залог высшей, грядущей правды, когда Человек — наконец-то! — «соберется вместе», как выражался Достоевский. Новый смысл, отныне влагаемый Фаустом в понятие правды как непрерывного приближения к ней, а не «моментального» ее захвата, затрудняет, а по сути, делает невозможным желанный для Мефистофеля исход договора, заключенного им с Фаустом.
Мефистофель не отказывается от своих «завлекательных» происков и новых соблазнов. Чем только он не соблазняет Фауста: и высоким положением при дворе императора; и приводом из Орка прекраснейшей женщины античного мира — Елены (здесь Фауст и вправду мог бы воскликнуть: «Повремени, мгновение», — если б не знал, что все это только обманчивый сон, дарованный Персефоной); и — славой великого полководца, спасшего императора от соискателя императорской короны.
Но строптивый Фауст покидает государственную службу, получив в награду клочок земли, которым думает управлять по своему разумению. Мефистофель усердно ему помогает. Он выполняет грандиозную «отрицательную» работу по разрушению здания и устанавливает бесчеловечную «власть чистогана». Для этого он сооружает мощный торговый флот, опутывает сетью торговых отношений весь мир; ему ничего не стоит с самовластной беспощадностью положить конец патриархальному быту поселян, более того — физически истребить беспомощных стариков, названных Гете именами мифологической четы — Филемоном и Бавкидой, о гибели которых возвещает зоркий Линкей:
Вот отполыхало пламя,
Запустенье, пепел, чад.
И уходит вдаль с веками
То, что радовало взгляд.
Словом, он выступает здесь как воплощение нарождающегося капитализма, его беспощадного хищничества и предприимчивости.
Однако и эта жизнь во имя обогащения не по сердцу Фаусту, вовлеченному в стремительный круговорот капиталистического развития, Фауст считает, что он подошел к конечной цели своих упорных поисков только в тот миг, когда, потеряв зрение, тем яснее увидел будущее свободного человечества. Теперь он — отчасти «буржуа» сен-симоновского «промышленного строя», где, как известно, «буржуа» является чем-то вроде доверенного лица всего общества. Его власть над людьми (опять-таки в духе великого утописта) резко отличается от традиционной власти. В его руках она преобразилась во власть над вещами, в управление процессами производства. Фауст прошел долгий путь, пролегший и через труп Гретхен, и по пеплу мирной хижины Филемона и Бавкиды, обугленным руинам анахронического патриархального быта, и через ряд сладчайших иллюзий, обернувшихся горчайшими разочарованиями. Все это осталось позади. Он видит перед собою не разрушение, а грядущее созидание, к которому и думает теперь приступить:
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.
Этот гениальный предсмертный монолог обретенного пути возвращает нас к сцене в ночь перед пасхой из первой части трагедии, когда Фауст, умиленный народным ликованием, отказывается испить чашу с ядом. И здесь, перед смертью, Фауста охватывает то же чувство единения с народом, но уже не смутное, а до конца проясненное. Теперь он знает, что единственная искомая форма этого единения — коллективный труд над общим, каждому одинаково нужным делом. Пусть задача эта безмерно велика, требует безмерных усилий, — каждый миг этого осмысленного освященного великой целью труда достоин возвеличения.
Фауст произносит роковое слово: «Я высший миг сейчас переживаю». Мефистофель вправе считать это отказом от дальнейшего стремления к бесконечной цели. Он вправе прервать его жизнь, согласно их старинному договору. Фауст падает. «Часы стоят… Упала стрелка». Но, по сути, Фауст не побежден, ибо его упоение мигом не куплено ценою отказа от бесконечного совершенствования человечества и человека. Настоящее и будущее здесь сливаются в некоем высшем единстве; «две души» Фауста, созерцательная и действенная, воссоединяются. «В начале было дело». Оно-то и привело Фауста к познанию высшей цели человеческого развития. Тяга к отрицанию, которую Фауст разделял с Мефистофелем, обретает наконец необходимый противовес в положительном общественном идеале. Вот почему Фауст все же удостоен того апофеоза, которым Гете заканчивает свою трагедию, обрядив его в пышное великолепие традиционной церковной символики.
Но почему Фауст в миг своего высшего прозрения выведен слепцом? Вряд ли кто-либо сочтет это обстоятельство случайностью.
А потому, что Гете был величайшим реалистом и никому не хотел внушить, что грандиозное видение Фауста где-то на земле уже стало реальностью. То, что открывается незрячим глазам Фауста, — это не настоящее, это будущее. Фауст видит неизбежный путь развития окружающей его действительности. И это видение будущего не лежит на поверхности, воспринимается не чувственно — глазами, а ясновидящим разумом. Перед Фаустом копошатся лемуры, символизирующие те «тормозящие силы истории… которые не позволяют миру добраться до цели так быстро, как он думает и надеется», как выразился однажды Гете. Эти «демоны торможения» не осушают болота, а роют могилу Фаусту. Но на этом поле будут работать свободные люди, это болото будет осушено, это море исторического «зла» будет оттеснено плотиной. В этом — нерушимая правда прозрения Фауста, нерушимая правда его пути, правда всемирно-исторической драмы Гете о грядущей социальной судьбе человечества.
Великий оптимизм, заложенный в «Фаусте», присущая Гете безграничная вера в лучшее будущее человечества — вот что делает великого немецкого поэта особенно дорогим всем тем, кто строит сегодня новую, демократическую Германию. И этот же глубокий, жизнеутверждающий гуманизм делает «величайшего немца» столь близким нам, советским людям.
22 июля 1831 года Гете закончил «Фауста», начатого еще в 1771 году. «Фауст» его сопровождал на протяжении всей жизни. «Образуясь, как облако», по выражению Гете, видоизменялся и замысел «Фауста», его идея, — как в годы, когда он над ним напряженно работал, так и в годы, когда он к нему не прикасался, никогда, однако, не забывая, что он — создатель «Фауста».
Некогда Гете сказал, что поэт, живописец, композитор обычно умирает, когда задача его жизни выполнена. Надо-де очистить поле для работы новых поколений. 16 марта 1832 года Гете простудился во время загородной прогулки в экипаже. Схватка со смертью была мучительна. Он задыхался, обливаясь холодным потом, Говорить он уже не мог, но все еще что-то писал указательным пальцем на одеяле. 22 марта его не стало. 26 марта гроб с телом Гете был водворен в герцогскую усыпальницу рядом с прахом Шиллера.
Н. Вильмонт
ПОСВЯЩЕНИЕ
Взошла заря. Чуть слышно прозвучали
Ее шаги, смутив мой легкий сон.
Я пробудился на своем привале
И вышел в горы, бодр и освежен.
Мои глаза любовно созерцали
Цветы в росе, прозрачный небосклон,—
И снова дня ликующая сила,
Мир обновив, мне сердце обновила.
Я в гору шел, а вкруг нее змеился
И медленно всходил туман густой.
Он плыл, он колыхался и клубился,
Он трепетал, крылатый, надо мной,
И кругозор сияющий затмился
Угрюмой и тяжелой пеленой.
Стесненный пара волнами седыми,
Я в сумрак погружался вместе с ними.
Но вдруг туман блеснул дрожащим светом,
Скользя и тая вкруг лесистых круч.
Пары редели в воздухе согретом.
Как жадно солнца ждал я из-за туч!
Каким встречать готовился приветом
Вдвойне прекрасный после мрака луч!
С туманом долго бой вело светило,
Вдруг ярким блеском взор мой ослепило.
А грудь стеснило бурное волненье,
«Открой глаза», — шепнуло что-то мне.
Я поднял взор, но только на мгновенье:
Все полыхало, мир тонул в огне.
Но там, на тучах, — явь или виденье? —
Богиня мне предстала в вышине,
Она парила в светлом ореоле.
Такой красы я не видал дотоле.
«Ты узнаешь? — И ласково звучали
Ее слова. — Ты узнаешь, поэт,
Кому вверял ты все свои печали,
Чей пил бальзам во дни сердечных бед?
Я та, с кем боги жизнь твою связали,
Кого ты чтишь и любишь с юных лет,
Кому в восторге детском умиленья
Открыл ты сердца первые томленья».
«Да! — вскрикнул я и преклонил колени.—
Давно в мечтах твой образ был со мной.
Во дни опустошающих волнений
Ты мне дарила бодрость и покой,
И в знойный день ты шла, как добрый гений,
Колебля опахало надо мной.
Мне все дано тобой, благословенной,
И вне тебя — нет счастья во вселенной!
Не названа по имени ты мною,
Хоть каждый мнит, что зрима ты ему,
Что он твоею шествует тропою
И свету сопричастен твоему.
С пути сбиваясь, я дружил с толпою,
Тебя познать дано мне одному,
И одному, таясь пред чуждым оком,
Твой пить нектар в блаженстве одиноком».
Богиня усмехнулась: «Ты не прав!
Так стоит ли являться мне пред вами!
Едва ты воле подчинил свой нрав,
Едва взглянул прозревшими глазами —
Уже, в мечтах сверхчеловеком став,
Забыв свой долг, ты мнишь других глупцами.
Но чем возвышен ты над остальными?
Познай себя — и в мире будешь с ними».
«Прости, — я вскрикнул, — я добра хотел!
Не для того ль глаза мои прозрели?
Прекрасный дар ты мне дала в удел,
И, радостный, иду я к высшей цели,
Я драгоценным кладом овладел,
И я хочу, чтоб люди им владели.
Зачем так страстно я искал пути,
Коль не дано мне братьев повести!»
Был взор богини полон снисхожденья,
Он взвешивал, казалось, в этот миг
И правоту мою и заблужденья,
Но вдруг улыбкой дрогнул светлый лик,
И, дивного исполнясь дерзновенья,
Мой дух восторги новые постиг.
Доверчивый, безмолвный, благодарный,
Я поднял взор на образ лучезарный.
Тогда рука богини протянулась —
Как бы туман хотела снять она.
И — чудо! — мгла в ее руках свернулась,
Душистый пар свился, как пелена,
И предо мною небо распахнулось,
И вновь долин открылась глубина,
А на руке богини трепетало
Прозрачное, как дымка, покрывало.
«Пускай ты слаб, — она мне говорила,—
Твой дух горит добра живым огнем.
Прими ж мой дар! Лучей полдневных сила
И аромат лесного утра в нем.
Он твой, поэт! Высокие светила
Тебя вели извилистым путем,
Чтоб Истина счастливцу даровала
Поэзии святое покрывало.
И если ты иль друг твой жаждет тени
В полдневный зной, — мой дар ты в воздух взвей,
И в грудь вольется аромат растений,
Прохлада вечереющих полей,
Утихнет скорбь юдольных треволнений,
И день блеснет, и станет ночь светлей,
Разгонит солнце душные туманы,
И ты забудешь боль сердечной раны».
Приди же, друг, под бременем идущий,
Придите все, кто знает жизни гнет,
Отныне вам идти зеленой кущей,
Отныне ваш и цвет, и сочный плод.
Плечом к плечу мы встретим день грядущий, —
Так будем жить и так пойдем вперед.
И пусть потомок наш возвеселится,
Узнав, что дружба и за гробом длится.
1784
СТИХОТВОРЕНИЯ
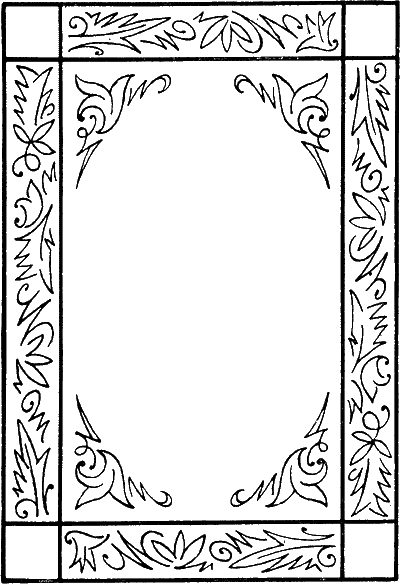
САМООПРАВДАНИЕ
Как странно мне читать глазами
Свой лепет, смолкнувший в былом…
А тут еще из дома в дом
Броди за беглыми листками!
Что в жизни разделял, бывало,
Далёкий, долгий переход —
Идя к читателю, попало
В один и тот же переплет…
Но прекрати пустые речи,
Сдавай-ка томик свой в печать:
Наш мир — клубок противоречий,
Тебе за них не отвечать!
1814
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЯМ
У поэтов нет секретов,
А воздержанных поэтов
Не найти и днем с огнем;
То, чего не скажем прозой,—
То само собой «под розой»
Мы — друзьям своим — сболтнем.
Где ты жил и где ты вырос,
Что ты выстрадал и вынес,
Им — забава и досуг;
Откровенье и намеки,
Совершенства и пороки —
Только в песнях сходят с рук.
1799
ИЗ РАННЕЙ ЛИРИКИ
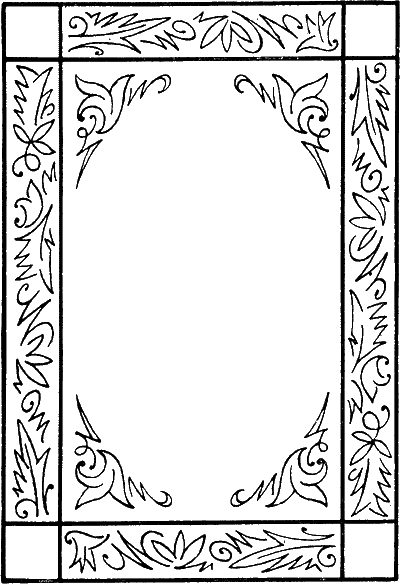
AHHETE
Венчались книги древних
Обычно именами
Богов и муз, но только
Не именем любимой.
А для меня в Аннете
Воплощены навеки
И божество и муза.
Пусть эта книга носит
Ее святое имя!
1767
КРИК
(С итальянского)
За милой крался я вчера.
Встал на ее пути.
Она грозит: «Не жди добра.
Кричать начну. Пусти!»
«Ну что ж, — сказал я ей, — кричи!
Мне нынче черт не брат!»
«Услышать могут нас, молчи.
Ведь сам не будешь рад».
1767
ПРЕКРАСНАЯ НОЧЬ
Покидаю домик скромный,
Где моей любимой кров.
Тихим шагом в лес огромный
Я вхожу под сень дубов.
Прорвалась луна сквозь чащи:
Прошумел зефир ночной,
И, склоняясь, льют все слаще
Ей березы ладан свой.
Я блаженно пью прохладу
Летней сумрачной ночи!
Что душе дает отраду,
Тихо чувствуй и молчи.
Страсть сама почти невнятна.
Но и тысячу ночей
Дам таких я безвозвратно
За одну с красой моей.
1767/1768
ПЕРВАЯ НОЧЬ
В покое брачном, в полумраке,
Дрожит Амур, покинув пир,
Что могут россказни и враки
Смутить постели этой мир.
Свечам урок священный задан —
Вам чистый трепет передать,
Разлит в алькове нежный ладан,
Пора любимую обнять.
Как сердце бьется в такт старинным
Часам, торопящим гостей.
Как хочется к устам невинным
Припасть всей силою своей.
Как долго ждал ты этой встречи
И таинств ласковых молил;
Амур, залюбовавшись, свечи
Наполовину пригасил.
Целуешь ты нетерпеливо
Лицо, и плечи ей, и грудь,
Ее неопытность пуглива,
Но страстью можно ли спугнуть?
Раздеть ее одним движеньем —
Быстрей, чем смог бы сам Амур!
И вот, лукаво, но с почтеньем
Глаза отводит бедокур.
1767
СМЕНА
Лежу средь лесного потока, счастливый,
Объятья раскрыл я волне шаловливой,—
Прильнула ко мне, сладострастьем дыша,
И вот уж смеется, дразня, убегая,
Но, ластясь, тотчас набегает другая,
И сменою радостей жизнь хороша.
И все же влачишь ты в печали напрасной
Часы драгоценные жизни прекрасной,
Затем, что подруга ушла, не любя.
Верни же веселье, мгновеньем играя!
Так сладко тебя расцелует вторая,
Как первая — не целовала тебя.
1768
К ЛУНЕ
Света первого сестра,
Образ нежности в печали,
Вкруг тебя туманы встали,
Как фата из серебра.
Поступь легкую твою
Слышит все, что днем таится.
Чуть вспорхнет ночная птица,
Грустный призрак, я встаю.
Мир объемлешь взором ты,
Горней шествуя тропою.
Дай и мне взлететь с тобою
Силой пламенной мечты!
Чтоб, незримый в вышине,
Соглядатай сладострастный,
Тайно мог я ночью ясной
Видеть милую в окне.
Созерцаньем хоть в ночи
Скрашу горечь отдаленья.
Обостри мне силу зренья,
Взору дай твои лучи!
Ярче, ярче вспыхнет он,—
Пробудилась дорогая
И зовет меня, нагая,
Как тебя — Эндимион.
1769
ПРОЩАНИЕ
Взором вымолвлю в молчанье,
Что уста не скажут ввек,
Трудно, трудно расставанье,
Пусть я — сильный человек!
Грустен будет в то мгновенье
Сам любви залог живой:
Томно рук прикосновенье,
Поцелуй не жарок твой.
Было время, ротик нежный —
Как он мог меня зажечь!
Так фиалочки подснежной
Нам мила простая речь.
Мне ж не плесть тебе веночек!
Не дарить, как прежде, роз.
Нас, Франциска, мой дружочек,
Средь весны убил мороз
1769
МОЕЙ МАТЕРИ
Пусть ни привета, ни письма от сына
Уже давно не получала ты,
Не дай в душе сомненью зародиться,
Не думай, что сыновняя любовь
Иссякла. Нет, как вековой утес,
Что бросил в море свой гранитный якорь,
Не сдвинется, хоть волны набегают,
То ласковы, то сумрачны и бурны,
Его громаду силясь расшатать,
Так нежность никогда уйти не может
Из сердца моего, хоть море жизни,
То шумно пенясь под бичом страданий,
То кротко зыблясь под лучами счастья,
Ее своим разливом захлестнуло
И не дает ей выглянуть на солнце
И, засверкав неомраченным светом,
Твоим очам явить, как безгранично,
Как глубоко тебе твой предан сын.
1767
ТРИ ОДЫ К МОЕМУ ДРУГУ БЕРИШУ
ОДА ПЕРВАЯ
Садовник! пересади
Этот прекрасный куст!
Жалко его оставлять
В почве бесплодной.
Крепок он от природы —
Этим одним и жив
Там, где земля скупится,
Там, где гноится воздух.
Взгляни! весной он весь
В серебристо-зеленых листьях,
Их апельсинный запах —
Яд для гнуса.
Его светоносных листьев
Гусеница не сгложет,
Червь не тронет —
Солнце куста коснулось!
Цветов его
Ждет невеста
От жениха,
На плоды надеются юноши.
Но взгляни на него и осенью —
Неуязвим по-прежнему,
И на выручку
Гусенице приходит паук.
Враг красоты, он спускается
С высокого тиса,
Паря в воздухе,
На куст благодатный.
И — пусть безобидный,
Но безжалостный —
Плетет на листьях
Серую, мерзкую сеть —
И, торжествуя, видит:
Невеста брезгливо,
Юноши, негодуя —
Отворачиваются…
Садовник! пересади
Этот прекрасный куст!
Будь благодарен, куст,
Доброму садоводу.
ОДА ВТОРАЯ
Пора! уходишь —
Иди! Так надо.
Тут не житье
Тому, кто честен.
Смрад от болот
И осенняя сырость
Тут слились —
Нераздельно, навеки.
Тут плодятся
Гады и гнусы;
Тут — разгул
Их разбойничьей злобы;
Тут — похотливый
Огнежалящий змий
Выполз на берег
Погреться на солнце.
Иди отсюда!
Но не лунной тропой —
На ней кишат
Ночные жабы.
Они безобидны,
Но мерзостны.
Тут не житье
Тому, кто честен.
ОДА ТРЕТЬЯ
Будь бесчувствен!
Да не дрогнет сердце
В этом и без того
Неверном мире.
Бериш! гони с лица
Улыбку весенних дней,
Чтоб не знавать ему
Свирепости зимних бурь.
Тщетной была б мечта,
Что от беды спасут
Вздох девичьей груди,
Рукопожатье друга.
Видишь на башне блеск?
Это зависть
Оборотила к тебе
Пристальный рысий взгляд.
Рысь — коварная тварь.
Прыгает сверху, сзади,
В плечи тебе вонзив
Острые когти.
Тощая тварь — а поди ж!
Крепче пантеры.
В ярости треплет тебя,
С места срывает.
Смерть — расставанье,
Но смерть втройне —
Расставанье
Без надежды на встречу.
Радостно бросил ты б
Этот проклятый край,
Нашей не будь дружбы —
Нашей цветочной цепи.
Порви ее! Что ж пенять.
Если один из двух
Узников убежал —
Легче другому.
Мысль о свободе друга —
Тоже свобода,
Единственная свобода
Темницы.
Ты уйдешь — я останусь.
Но ненадолго.
Пошла на последний подъем
Колесница унылых лет.
Я слышу, как вертится
Скрипучее колесо.
Скрипи, скрипи!
Скоро и я — свободен.
1767
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ БРАТА МОЕГО ДРУГА
В глухом лесу на дубе, что когда-то
Был громом свален и разбит,
Я твоего оплакиваю брата,
Чей прах от нас так далеко зарыт.
Он ждал, придя к поре осенней,
Награды за свои дела,
Но смерть, не зная сожалений,
Все унесла.
И ты не плачешь? — Долгое прощанье
Надежду отняло. Господь его, любя,
Взял на небо допреж тебя.
Ты видел — и завидовал в молчанье.
Но чей там скорбный крик? — Я сам
Лечу душой к его могиле.
О, не ее ли сердце там
Кричит — в его могиле?
Так безутешна, так бледна,
Лишась надежды, счастья, мира,
Лишь на тебя, господь, надеется она,
Красивейшая меж красавиц мира.
Кто прекратит ее мученье?
С небесной высоты взгляни
И смерть пошли ей в утешенье
Иль жизнь усопшему верни.
Дай ей опору в час ужасный,
Ты — милосердье, ты — любовь.
Ты видишь, вся вина несчастной —
Ее священная любовь.
Она к венцу была уже готова,
С любимым слив себя навек,
Но князь, едва взглянув сурово,
Их путь пресек.
Князь! Жизнью жертвовали люди,
Твоей покорствуя причуде
И все прощая злой судьбе.
Но чувство, мысль, но мощь рассудка
Замкнуть тобой! — иль это шутка?
Бог отомстит за них тебе!
Прекрасным сердцем так страдал он!
Впервые слова не сдержал он,
Он слова, данного любимой, не сдержал,
Хоть прежде, чем он дал ей слово,
Уже не мыслил он иного:
Уже он ей навек принадлежал.
Он говорил: пока насилье правит,
Мне на земле с тобой не быть.
Но смерть моя тебя избавит
От страха, что могу я разлюбить.
Прости! Найдя мой крест — я знаю, сердцем нежный,
Прольет слезу над верностью моей,
Но тирания тем скорей,
Хоть я простил ей неизбежный
Конец мой, повернет коня
И, злобясь, прочь поедет от меня.
1767
ИЗ ЛИРИКИ ПЕРИОДА «БУРИ И НАТИСКА»
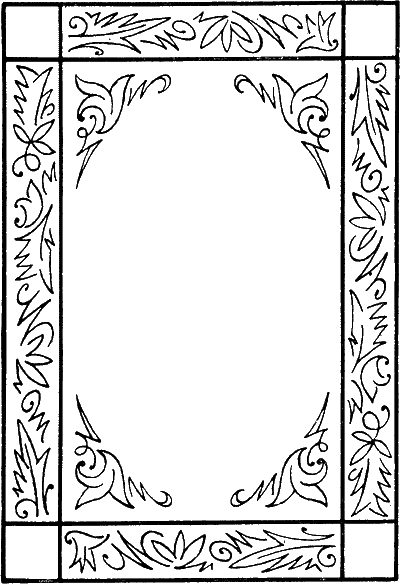
ЗЕЗЕНГЕЙМСКИЕ ПЕСНИ

ФРИДЕРИКЕ БРИОН
Проснись, восток белеет!
Как яркий день,
Твой взор, блеснув, развеет
Ночную тень.
Вот птицы зазвенели!
Будя сестер,
Поет: «Вставай с постели!»
Их звонкий хор.
Ты слов не держишь, видно,
Я встал давно.
Проснись же, как не стыдно!
Открой окно!
Чу! Смолкла Филомела!
Всю ночь грустя,
Она смутить не смела
Твой сон, дитя.
Но рдеет на востоке»
Вот луч зари
Твои целует щеки,
О, посмотри!
Нет, ты прильнула к спящей
Сестре своей
И грезишь вновь — тем слаще,
Чем день светлей.
Ты спишь! Гляжу украдкой,
Как тих твой сон.
Слезой печали сладкой
Я ослеплен.
И кто пройдет, спокойный,
Кто будет глух!
Чей может, недостойный,
Не дрогнуть дух!
Ты спишь! Иль нежной снится
О, счастье! — тот,
Кто здесь, бродя, томится
И муз клянет,
Краснеет и бледнеет,
Ночей не спит,
Чья кровь то леденеет,
То вновь кипит.
Ты проспала признанья,
Плач соловья,
Так слушай в наказанье,
Вот песнь моя!
Я вырвался из плена
Назревших строф.
Красавица! Камена!
Услышь мой зов!
1771
«Вернусь я, золотые детки…»
Вернусь я, золотые детки,
Не усидеть мне, видно, в клетке
Глухого зимнего житья.
У камелечка мы присядем,
На сто ладов веселье сладим,
Как божьих ангелов семья.
Плесть будем малые веночки,
Цветочки связывать в пучочки,
Ребенком стану с вами я.
1770
«Скоро встречу Рику снова…»
Скоро встречу Рику снова,
Скоро, скоро обниму.
Песня вновь плясать готова,
Вторя сердцу самому.
Ах, как песня та звучала
Из ее желанных уст!
Как надолго замолчала!
Долго, долго мир был пуст.
Мучусь скорбью бесконечной,
Если милой нет со мной,
И глубокий мрак сердечный
Не ложится в песен строй.
Только ныне чистым, старым
Счастьем сердце вновь полно.
Не сравнится с этим даром
Монастырское вино!
1771
С РАЗРИСОВАННОЙ ЛЕНТОЙ
И цветочки и листочки
Сыплет легкою рукой,
С лентой рея в ветерочке,
Мне богов весенних рой.
Пусть, зефир, та лента мчится,
Ею душеньку обвей;
Вот уж в зеркало глядится
В милой резвости своей.
Видит: розы ей убором,
Всех юнее роз — она.
Жизнь моя! Обрадуй взором!
Наградишь меня сполна.
Сердце чувства не избудет.
Дай же руку взять рукой,
Связь меж нами да не будет
Слабой лентою цветной.
1771
Назад: Иоганн Вольфганг Гёте СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Дальше: ПЕРВОЕ ВЕЙМАРСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

