Книга: Собрание сочинений в десяти томах. Том шестой. Романы и повести
Назад: ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Дальше: СКАЗКА
РАЗГОВОРЫ НЕМЕЦКИХ БЕЖЕНЦЕВ
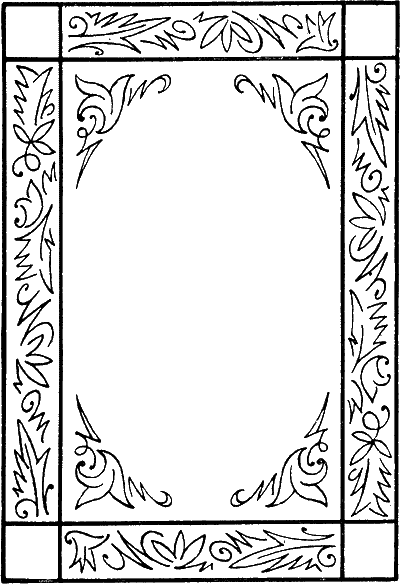
В те злосчастные дни, что имели столь печальные последствия для Германии, для Европы, да и всего остального мира, — когда в наше отечество сквозь оплошно оставленный зазор вторглась французская армия, — некое знатное семейство покинуло свои владения в пограничной области и переправилось на другой берег Рейна, дабы спастись от притеснений, грозивших всем именитым людям, коим вменялось в преступление, что они благодарно чтут память предков и пользуются благами, каковые каждый заботливый отец хочет предоставить своим детям и внукам.
Баронесса фон Ц., вдова средних лет, показала себя и теперь, во время бегства, к утешению ее детей, родных и близких, столь же решительной и деятельной, какой ее всегда знали дома. Многосторонне образованная и умудренная превратностями судьбы, она слыла примерной матерью семейства, и для ее подвижного ума всякое занятие было в отраду. Она стремилась быть полезной многим и благодаря обширному знакомству располагала такою возможностью. Теперь баронессе неожиданно пришлось стать предводительницей небольшого каравана, но она сумела справиться и с этой ролью, — заботилась о своих спутниках и старалась поддержать в них ту искру веселья, что нет-нет да и вспыхивает даже средь всех тревог и лишений. И в самом деле: хорошее настроение было не редкостью у наших беженцев, ибо неожиданные происшествия, непривычная обстановка давали их стесненным душам немало пищи для шуток и смеха.
При поспешном бегстве в поведении каждого замечалась своя особенность. Один поддался ложному страху, преждевременным опасениям, другой суетился по-пустому, и все случаи, когда кто-то оказался не в меру прыток, а кто излишне мешкотен, любое проявление слабости — будь то вялость или торопливость — давало впоследствии повод для взаимных издевок и насмешек, отчего печальное путешествие часто протекало веселее, чем в былые времена иные намеренно увеселительные прогулки.
Ибо подобно тому, как на представлении комедии мы, бывает, подолгу серьезно глядим на сцену, не смеясь нарочито веселым трюкам, и, напротив того, сразу же разражаемся хохотом, когда в трагедии происходит нечто неподобающее, так в действительной жизни несчастье, выводящее людей из равновесия, обычно сопровождается комичными подробностями, которые вызывают смех нередко тут же, на месте, и уж непременно потом.
Особенно доставалось Луизе, старшей дочери баронессы, — живой, вспыльчивой и, в хорошее время, властной девице, утверждали, будто она при первых же признаках опасности совсем потеряла голову и в рассеянности, витая мыслями где-то далеко, принялась упаковывать наибесполезнейшие вещи и будто бы даже приняла старого слугу за своего жениха.
Она защищалась, как могла, и не желала лишь терпеть никаких шуток, задевавших ее возлюбленного: ей и без того немало страданий причиняла мысль, что в армии союзников он каждодневно подвергается опасности и что заключение столь желанного брака из-за всеобщего неустройства свершится не так скоро, а быть может, и никогда.
Ее старший брат Фридрих, решительный молодой человек, последовательно и точно исполнял все, что предписывала мать; он сопровождал поезд верхом и был одновременно курьером, каретником и проводником. Учитель младшего, подающего надежды сына, весьма образованный человек, составлял общество баронессе в карете; кузен Карл вместе со старым священником, давним другом семьи, без которого она уже не могла обходиться, и с двумя родственницами — одной постарше, другой помоложе, ехал в следующем экипаже. Горничные и камердинеры следовали сзади в колясках; замыкали поезд несколько тяжело груженных возов, не раз отстававших в пути.
Нетрудно себе представить, что и все-то путешественники неохотно покинули свой кров, а уж кузен Карл уезжал с того берега Рейна с особенным неудовольствием; но не потому, что оставлял там возлюбленную, хотя это легче всего было бы предположить по его молодости, приятной наружности и пылкому нраву; дело обстояло иначе: он дал увлечь себя ослепительной красавице, каковая под именем Свободы сперва тайно, а затем и явно снискала себе стольких поклонников; весьма дурно обошедшаяся с одними, она с тем большею горячностью почиталась другими.
Подобно тому как все любящие бывают ослеплены своею страстью, так же случилось и с кузеном Карлом. Положение в обществе, благополучие, сложившиеся отношения — все обращается в ничто, меж тем как вожделенный предмет становится единственным, становится всем. Родители, близкие и друзья делаются для нас чужими, и мы почитаем своим то, что всецело занимает нас, делая чужим все остальное.
Кузен Карл со всем пылом предался своему увлечению и не скрывал его в разговорах. Он полагал, что тем свободнее может высказывать эти взгляды, что он дворянин и, хоть и второй сын в семье, со временем унаследует значительное состояние. Как раз те имения, что в будущем должны были отойти к Карлу, оказались теперь в руках врага, хозяйничавшего там не лучшим образом. Несмотря на это, Карл не мог питать вражду к нации, которая сулила миру столько благ и чей образ мыслей он оценивал по публичным речам и высказываниям отдельных ее представителей. Он нередко портил хорошее настроение всей компании, на какое она бывала еще способна, неумеренно восхваляя все, и доброе и злое, что происходило у французов, не скрывая удовлетворения их успехами, чем особенно выводил из себя остальных, ощущавших свои страдания еще болезненнее из-за злорадства их друга и родственника.
У Фридриха уже не раз происходила размолвка с Карлом, а в последнее время он и вовсе избегал с ним вступать в какие-либо разговоры. Баронессе искусным образом удавалось принуждать его к сдержанности, хотя бы только на время. Больше всех его донимала Луиза, так как она, пусть зачастую и несправедливо, брала под сомнение его ум и характер. Домашний учитель про себя признавал его правоту, священник про себя не признавал его правым, а горничные, которые находили его наружность обворожительной, а его щедрость достойной уважения, слушали его речи весьма охотно, ибо его убеждения, как они полагали, давали им право с чистой совестью поднимать на него свои милые глазки, которые они до сего времени скромно опускали долу.
Потребности дня, дорожные злоключения, неудобства ночлега обычно вынуждали путешественников заботиться лишь о насущных нуждах, но большое число немецких и французских беженцев, коих они встречали повсюду и чье поведение и судьба были весьма несхожи, невольно наводили их на размышления о том, сколь многое побуждает человека в такие времена вооружиться всеми своими добродетелями, особенно же добродетелью непредвзятости и терпимости.
Однажды баронесса заметила, что в такие моменты всеобщего бедствия и смятения яснее, чем когда-либо, можно увидеть, как невежественны люди во всех отношениях.
— Гражданское устройство, — говорила она, — напоминает корабль, который призван перевозить большое число людей, старых и малых, больных и здоровых, через гибельные воды, даже во время бури, но лишь в ту минуту, когда корабль терпит крушение, обнаруживается, кто умеет плавать; в таких обстоятельствах нередко идут ко дну и наилучшие пловцы. В большинстве случаев мы видим, как беженцы таскают с собой в своих скитаниях присущие им недостатки и дурацкие привычки, и этому изумляемся. Но подобно тому, как путешествующего англичанина во всех частях света неизменно сопровождает его чайник, так и остальной массе человечества повсюду сопутствуют гордые притязания, тщеславие, неумеренность, нетерпение, себялюбие, кривизна суждений, желание коварно учинить подвох своему ближнему. Человек легкомысленный радуется бегству, словно увеселительной прогулке, избалованный требует, чтобы и в этом, нищенском его состоянии все было к его услугам. Сколь редко доводится нам встретить воплощение чистой добродетели в человеке, который воистину стремится жить и жертвовать собою для других.
Покамест делались те или иные знакомства, дававшие повод для подобных размышлений, миновала зима. Счастье снова вернулось к немецкому оружию, французов снова оттеснили на другой берег Рейна. Франкфурт был освобожден, а Майнц взят в кольцо.
В надежде на дальнейшие успехи победоносного оружия и желая вновь вступить во владение частью своей собственности, означенное семейство отправилось в принадлежавшее ему и весьма живописно расположенное имение на правом берегу Рейна. Как же воспряли они духом, вновь увидев под своими окнами воды могучей реки, как рады были вновь заглянуть во все уголки милого дома, как тепло приветствовали старых знакомцев — мебель, картины и всевозможную утварь; как дорога была им каждая мелочь — все, что они считали уже потерянным, и как окрепли их надежды, найти в один прекрасный день все в прежнем виде и по ту сторону Рейна.
Но лишь только в окрестности разнеслась весть о прибытии баронессы, как все ее знакомые, друзья и слуги поспешили к ней, дабы поделиться с нею пережитым, поведать о событиях последних месяцев, а заодно испросить совета и помощи в разных делах.
Теснимая всеми этими гостями, баронесса была приятнейшим образом удивлена, когда к ней пожаловал с семейством тайный советник фон С., человек, для которого деятельность с юных лет стала насущной потребностью; человек, облеченный доверием своего государя и заслуженно им пользовавшийся. Он твердо придерживался определенных принципов и обо многих вещах имел собственное суждение. Неукоснительно точный в речах и поступках, он требовал такой же точности от других. Последовательное поведение представлялось ему наивысшей добродетелью.
Его государь, его страна, да и он сам немало пострадали от нашествия французов; он на себе испытал произвол нации, беспрестанно взывавшей к закону, и деспотические замашки тех, кто без конца разглагольствовал о свободе. Он убедился, что и в этом случае толпа оставалась верна себе, восторженно принимая слово за дело, видимость обладания за самое обладание. Последствия проигранной кампании, равно как и последствия распространившихся взглядов и убеждений, не укрылись от его проницательного взора, хотя нельзя отрицать и того, что многое он видел глазами ипохондрика и о многом судил предвзято.
Его жена, подруга детских лет баронессы, после стольких невзгод обрела в объятиях приятельницы покой и отдохновение. Они вместе росли, вместе воспитывались, — у них не было тайн друг от друга. Первые девические увлечения, треволнения супружеской жизни: радости, заботы и горести материнства — все, все привыкли они поверять друг другу, будь то устно или в письмах; сношения между ними никогда не прерывались. Только сумятица последних месяцев помешала им по-прежнему обмениваться новостями. Тем живее протекали их нынешние беседы, тем больше хотелось им поведать друг другу, между тем как дочери тайной советницы проводили время в обществе Луизы, находя его все более приятным для себя.
К несчастью, наслаждение чарующей природой тех мест нередко нарушалось грохотом пушек, доносившимся издалека то более, то менее явственно, в зависимости от направления ветра. Столь же неизбежными, как канонада, были, при множестве притекавших сюда новостей, разговоры о политике, сразу нарушавшие приятное настроение общества, ибо различные точки зрения и мнения высказывались их сторонниками с чрезвычайной горячностью. И подобно тому, как неумеренные люди не могут воздержаться от вина и тяжелой пищи, хотя и знают по опыту, что тотчас же поплатятся за это приступом дурноты, так и многие члены нашего общества не могли в этом случае себя обуздать, а поддавались неодолимому побуждению причинить боль другим, тем самым, в конечном итоге, уготовляя неприятные минуты и самим себе.
Легко себе представить, что тайный советник возглавлял партию, приверженную старой системе, а Карл выступал от имени противной, ожидавшей от предстоящих нововведений исцеления прежних нездоровых порядков.
Поначалу беседа велась еще с достаточной сдержанностью, особенно потому, что баронесса, тактично вступая в разговор, умела удерживать в равновесии обе стороны; однако с приближением критической поры, когда блокада Майнца грозила вот-вот перейти в осаду и люди все более тревожились о судьбе этого прекрасного города и остававшихся в нем жителей, все стали высказывать свои мнения с необузданным пылом. Чаще всего предметом общего разговора служили остававшиеся в Майнце клубисты, и каждый выражал надежду на их скорое наказание или освобождение — в зависимости от того, порицал или одобрял он их действия.
К числу первых принадлежал тайный советник, чьи доводы вконец рассердили Карла, когда тот решительно отказал этим людям в уме и обвинил их в полном незнании света и самих себя.
— В каком же ослеплении надобно пребывать, — воскликнул он однажды в послеобеденный час, когда беседа становилась вес более оживленной, — чтобы вообразить, будто сия чудовищная нация, которая ныне среди величайшей смуты воюет против самой себя, нация, которая и в спокойные времена не способна ценить никого, кроме себя одной, соблаговолит бросить на них сочувственный взгляд! Их будут рассматривать как орудия, будут некоторое время ими пользоваться, а в конце концов выбросят за ненадобностью или же, в лучшем случае, — забудут об их существовании. О, как они заблуждаются, ежели полагают, будто французы когда-либо примут их в свою семью!
Тому, кто велик и могуществен, ничто не кажется столь смешным, как притязания малого и ничтожного, который в ослеплении безумия, в неведении самого себя, своих сил и своего положения тщится с ним равняться. И неужто вы полагаете, что великая нация, после того как она была взыскана таким счастьем в войне, станет менее гордой и надменной, нежели любой победивший монарх?
Ведь многие из тех, кто ныне разгуливает с шарфом муниципального чиновника, станут проклинать этот маскарад, когда с ними, навязавшими своим соотечественникам новые мерзкие порядки, подло обойдутся при этих новых порядках те, на кого они возлагали все свои надежды. Да, мне представляется весьма вероятным, что при сдаче города, каковая теперь уж недолго заставит себя ждать, подобных людей выдадут нашим или оставят на произвол судьбы. И пусть они получат по заслугам, пусть испытают все унижение, коего достойны, сколь беспристрастно я бы их ни судил.
— Беспристрастно! — воскликнул Карл. — Как хотелось бы мне никогда более не слышать этого слова! Ну можно ли так огульно осуждать этих людей? Правда, они не посвятили себя с юных лет тому, чтобы в рамках укоренившегося порядка приносить пользу себе и другим привилегированным лицам. Правда, они не занимали немногих пригодных для жилья комнат старого здания, где могли бы проводить свою жизнь в неге и холе; скорее они испытывали все неудобства заброшенной части вашего государственного дворца; испытывали с тем большей остротой, что принуждены были сами влачить там свои дни в бедности и утеснении; они не могли считать за благо то, к чему были приучены смолоду, подкупленные механической легкостью привычных занятий; правда, им приходилось лишь исподтишка наблюдать ограниченность, нерасторопность, неуменье, небрежность, коими ваши государственные мужи все еще надеются снискать себе почет; правда, они лишь втайне могли мечтать о том, чтобы труд и наслаждение распределялись более равномерно! И кто же осмелится отрицать, что среди них найдется по меньшей мере десяток благомыслящих и дельных людей, которые хоть и не в силах добиться лучшего в настоящий момент, все же имеют счастье своим посредничеством смягчать зло и способствовать грядущему благу; и коль скоро там есть подобные люди, то как не пожалеть о них, когда близится миг, который, быть может, унесет с собой все их надежды!
Тайный советник в ответ на это не без горечи пошутил насчет молодых людей, склонных идеализировать тот или иной предмет; Карл же не пощадил тех, кто способен мыслить лишь по устаревшим шаблонам и, не задумываясь, отбрасывать все, что под них не подходит.
Каждый новый довод незамедлительно вызывал ответный, отчего спор постепенно разгорался, и обе стороны не преминули высказать все то, чему на протяжении последних лет суждено было расстроить не одну добрую компанию.
Тщетно баронесса пыталась установить если и не мир, то хотя бы перемирие; даже тайной советнице, которая благодаря своему обаянию обрела некоторою власть над душою Карла, не удалось на него воздействовать, тем менее, что ее супруг продолжал без промаха метать стрелы в неискушенное юношество и насмехаться над склонностью детей играть с огнем, с коим: они не умеют управляться.
Карл, который во гневе себя не помнил, не удержался от признания, что он желает всяческого успеха французскому оружию и призывает каждого немца положить конец былому рабству; что он убежден — французская нация сумеет оценить благородных немцев, ставших на ее сторону; она будет смотреть на них и обращаться с ними, как с равными, и не только не принесет их в жертву и не бросит на произвол судьбы, а, напротив того, осыплет почестями, наградами и залогами своего доверия.
Тайный советник возразил на это: смешно думать, что французы хоть на миг — при капитуляции или сходных обстоятельствах — задумаются об их участи; скорее всего эти люди попадут в руки союзников, и он надеется увидеть их всех повешенными.
Этой угрозы Карл не вынес и вскричал: а он надеется на то, что гильотина и в Германии найдет себе обильную жатву и не минует ни одной преступной головы. К этому он прибавил несколько очень резких упреков, задевавших самого тайного советника и во всех смыслах для него оскорбительных.
— По-видимому, — сказал тайный советник, — мне придется покинуть общество, где перестали чтить все то, что прежде считалось достойным уважения. Мне горестно сознавать что я изгнан вторично, и на сей раз — соотечественником, но я убедился, что от него меньше можно ждать пощады, нежели от самих французов; я вижу в этом подтверждение старой истины: лучше попасть в руки к туркам, чем к ренегатам.
С этими словами он встал и вышел из комнаты; его супруга последовала за ним; все молчали. Баронесса в немногих, но резких словах выразила свое неудовольствие; Карл мерял шагами залу. Тайная советница воротилась в слезах и сообщила, что ее супруг велел укладывать вещи и послал за лошадьми. Баронесса пошла к нему, надеясь его уговорить. Барышни тем временем плакали и целовались на прощанье, крайне опечаленные тем, что они вынуждены столь быстро и неожиданно расстаться.
Баронесса вернулась ни с чем. Стали понемногу собирать вещи, принадлежавшие гостям. Печальные минуты разлуки и прощания глубоко тронули всех. С последними картонами и ларцами, вынесенными из дома, всякая надежда пропала. Привели лошадей, и слезы полились рекой.
Карета отъехала, и баронесса поглядела ей вслед: в глазах ее стояли слезы. Она отошла от окна и села за пяльцы. Все притихли, всем было не по себе. Особенное беспокойство выказывал Карл, — он сидел в углу, листая книгу, но то и дело бросал поверх книги взгляд на тетку. Наконец он встал, взял шпагу и как будто собрался уходить, однако, дойдя до дверей, повернул назад, подошел к пяльцам и с благородной сдержанностью сказал:
— Я оскорбил вас, милая тетушка, и причинил вам огорчение; простите великодушно мою несдержанность. Я сознаю свою ошибку и глубоко в ней раскаиваюсь.
— Простить-то я тебя прощу и зла на тебя держать не стану, потому что человек ты добрый и благородный, но ты уже не в силах исправить то, что испортил. По твоей вине я вновь лишилась общества подруги, которую впервые увидела после долгой разлуки, — само несчастье свело нас вместе, и рядом с нею я порой забывала обо всех тех бедах, что нам пришлось и, быть может, придется еще претерпеть. Принужденная долгие годы скитаться вдали от дома, она едва успела немного отдохнуть я кругу любимых старых друзей, в покойной квартире, среди прелестной природы, и вот она снова идти в изгнание, я наше общество, таким образом, лишено интереснейшего собеседника в лице ее супруга, ибо, каковы бы ни были его чудачества, человек он прекрасный и честный и к тому же — настоящий кладезь всевозможных знаний о людях и о жизни, о событиях и обстоятельствах, коими он умеет так ненавязчиво, так приятно и занимательно делиться с другими. Вот скольких удовольствий лишил ты нас своею горячностью; чем можешь ты возместить эту потерю?
Карл. Пощадите меня, дорогая тетушка, я и без того живо чувствую свою ошибку, не рисуйте мне столь отчетливо ее последствий.
Баронесса. Наоборот: чем отчетливее ты будешь их видеть, тем лучше для тебя. Здесь речь не о пощаде; суть в том, сумеешь ли ты справиться с собой. Ведь ты уже не в первый раз совершаешь подобную ошибку и, видимо, не в последний. О люди! Неужели бедствия, согнавшие вас под одну крышу, в одну тесную хижину, не научат вас наконец быть терпимыми друг к другу? Разве мало тех ужасных событий, что так неудержимо надвигаются на вас и ваших близких? Отчего не можете вы сделать над собою усилия и вести себя сдержанно и благоразумно с теми, кто, в сущности, ничего от нас не требует, ничего не отнимает? Неужели ваш нрав должен проявлять себя столь же слепо и неудержимо, столь же разрушительно, как события мировой истории, как грозы и другие стихийные бедствия?
Карл ничего не отвечал на это, а домашний учитель отошел от окна, у которого все время стоял, и, приблизясь к баронессе, сказал:
— Он исправится, этот случай должен послужить ему, да и всем нам, предостережением. Мы будем каждодневно проверять себя, держа перед глазами причиненную вам боль, и постараемся доказать, что умеем властвовать собой.
Баронесса. Как легко удается мужчинам себя утешить, особенно в этом пункте! Слово «власть» имеет для них такую приятность, а желание властвовать собой звучит так благородно. Они говорят об этом с величайшим удовольствием и хотят заставить нас поверить, будто и впрямь намерены этого добиться, но желала бы я хоть раз в своей жизни увидеть мужчину, способного владеть собой даже в самом пустячном деле!
Когда им что-либо безразлично, они прикидываются очень суровыми, словно им трудно без этого обойтись, а уж чего им страстно хочется, то они умеют представить себе и другим как нечто превосходное, необходимое, обязательное и неизбежное. Я не знаю ни одного из вас, кто был бы способен отказаться хотя бы от самой малости.
Учитель. Вы редко бываете несправедливы, и я еще никогда не видел вас во власти такой досады, такого негодования, как в эту минуту.
Баронесса. Уж мне-то этого негодования стыдиться нечего. Стоит мне только подумать о моей подруге, о том, как она едет в наемной карете по тряским дорогам, со слезами вспоминая о грубо нарушенном гостеприимстве, — и я готова всем сердцем вознегодовать на вас всех.
Учитель. Я и при более тяжких несчастиях не видел вас такой взволнованной и гневной, как сейчас.
Баронесса. Малое несчастье, когда оно следует за большими, переполняет чашу; да ведь и утрата подруги — несчастье отнюдь не малое.
Учитель. Успокойтесь и доверьтесь нам — мы непременно исправимся и сделаем все возможное, дабы угодить вам.
Баронесса. Ничуть не бывало: ни одному из вас уже не снискать моего доверия, но отныне я буду требовать от вас повиновения, у себя в доме я намерена приказывать.
— Да, требуйте, приказывайте нам! — вскричал Карл. — И впредь вам не приведется жаловаться на паше непослушание.
— Ну, уж чрезмерно строга к вам я не буду, — с улыбкой возразила баронесса, взявши себя в руки, — мне не доставляет никакого удовольствия приказывать, в особенности таким свободомыслящим людям, как вы, но я хотела бы дать вам один совет и присовокупить к нему просьбу.
Учитель. И то и другое будет для нас законом.
Баронесса. Было бы глупо с моей стороны пытаться отвлечь в сторону тот интерес, что вызывают у каждого великие события, ныне совершающиеся в мире, события, жертвами коих, к несчастью, мы уже стали. Я не могу изменить взгляды, которые складываются у того или иного человека соответственно его образу мыслей и затем укореняются, развиваются, продолжая определять его поведение; столь же глупо и жестоко было бы требовать, чтобы он их не высказывал. Но одного я вправе ожидать от членов кружка, в котором живу, — что единомышленники будут держаться заодно и проводить время за приятной беседой, когда один говорит то, что другой уже подумал про себя. В своей комнате, на прогулке, в любом месте, где бы ни встретились эти люди, пусть они вволю изливают друг другу свои чувства, подхватывают то или иное мнение, упиваются пылкостью своих убеждений. Но в обществе, дети мои, не забывайте о том, сколь многим, дорогим и сокровенным, приходилось нам жертвовать и прежде ради светских приличий, еще до того, как возникли споры об этих предметах, и что пока существует мир, каждому придется ради светских приличий держать себя в рамках, хотя бы внешне. Итак, не во имя добродетели, а во имя самой обычной вежливости призываю я вас оказывать мне и остальным ту учтивость, которую вы — не будет преувеличением сказать — с малолетства привыкли оказывать первому встречному.
— Вообще я не понимаю, — продолжала баронесса, — что с нами сталось? Куда исчезло вдруг наше светское воспитание? Как мы, бывало, остерегались в обществе затронуть тему, которая могла бы оказаться неприятна тому или другому из присутствующих!
Протестант перед лицом католика избегал насмехаться над церковным обрядом; самый ревностный католик в присутствии протестанта никогда бы не обмолвился о том, что старая религия дает более надежную гарантию вечного блаженства.
Никто не стал бы хвалиться своими детьми в присутствии матери, потерявшей сына, и всякий чувствовал себя сконфуженным, ежели у него ненароком вырывалось неосторожное слово. Каждый, кто находился поблизости, старался загладить промах, — а что делаем мы ныне? Разве не постукаем мы как раз наоборот? Мы старательно выискиваем любой повод, дабы произнести нечто такое, что разозлит другого и выведет его из себя. О дети, друзья мои! Вернитесь же снова к прежним нашим привычкам. Нам довелось испытать уже немало горя, и, быть может, дым, что мы вдыхаем днем, и зарево, что видим ночью, предвещают нам близкую потерю наших жилищ и оставленного нами имущества. Так не будем же с таким ожесточением обсуждать эти новости в обществе, не будем частым повторением вслух еще глубже запечатлевать в душе то, что и само по себе причиняет нам довольно страданий в тиши.
Когда умер ваш отец, разве давали вы мне тем или иным образом, словами или знаками, вновь почувствовать горечь этой невосполнимой утраты? Разве не старались вы убрать с моих глаз все, что могло мне напомнить его в те горестные дни, и своей любовью, своей ненавязчивой заботой и услужливостью смягчить боль утраты и поскорее залечить рану? Разве не нужен нам теперь именно этот светский такт, который нередко действует вернее, чем неуклюжая помощь, пусть с самыми лучшими намерениями, теперь, когда не одного или двоих среди массы счастливых вдруг поражает несчастный случай и его горе вскорости тонет в благополучии остальных а когда среди неисчислимого множества несчастных только немногие в силу своих природных свойств или благоприобретенного умения наслаждаются случайным или искусственным довольством?
Карл. Вы уже достаточно отчитали нас, милая тетушка, не хотите ли снова протянуть нам руку?
Баронесса. Вот она, с условием, что отныне вы позволите ей вами управлять. Объявим амнистию! В такие времена чем быстрее люди решаются на примирение, тем лучше.
В этот миг в гостиную вошли другие женщины, успевшие уже хорошенько выплакаться после отъезда гостей и теперь избегавшие смотреть на Карла.
— Подойдите сюда, дети! — воскликнула баронесса. — У нас здесь состоялся серьезный разговор, и, как я надеюсь, он поможет нам восстановить мир и согласие, а также снова ввести тот хороший тон, которого нам долгое время недоставало. Быть может, никогда еще мы так не нуждались в том, чтобы сплотиться теснее и постараться рассеяться, хотя бы на несколько часов в день. Условимся же, что каждый раз, когда мы соберемся здесь вместе, всякие разговоры на злобу дня будут воспрещены. Как давно уже не вели мы поучительных и одушевляющих бесед, как давно не рассказывал ты нам, милый Карл, о дальних странах и царствах, об их устройства, жителях, обычаях и нравах, которые тебе так хорошо известны. Как давно уже не вещала вашими устами (так обратилась она к учителю) древняя и новая история и мы не слышали сравнительных описаний столетий и лиц! Где те прелестные, изящные стихи, что, бывало, так часто, к усладе общества, извлекались из записных книжек наших юных дам? Куда девались непринужденные философские размышления? Неужели у вас совсем пропала охота приносить, как прежде, с прогулок то примечательный камень, то какое-нибудь неизвестное — по крайней мере нам растение или причудливое насекомое, что раньше всегда подавало нам повод предаться возвышенным мыслям о взаимосвязи всех существ? Пусть все эти беседы, некогда возникавшие сами собой, теперь снова войдут у нас в обычай по принятому нами уговору, постановлению, закону; употребите все свои силы, чтобы эти беседы были поучительными, полезными и, в особенности, занимательными, — это понадобится нам, быть может, еще больше, чем теперь, ежели все окончательно пойдет прахом. Дети мои, обещайте мне это!
Они горячо обещали ей сдержать уговор.
— А теперь ступайте: сегодня чудесный вечер, пусть каждый насладится им, как ему благоугодно, а за ужином давайте впервые за долгое время вновь насладимся плодами дружеской беседы.
Все понемногу разошлись; только фрейлейн Луиза осталась сидеть возле матери; у нее все не проходила досада на то, что ее разлучили с подругой, и она весьма резко отказала Карлу, приглашавшему ее на прогулку. Мать и дочь уже некоторое время молча сидели рядом, когда в гостиную вошел священник, только что возвратившийся с долгой прогулки и потому не подозревавший о том, что произошло в доме. Он положил шляпу и трость, сел в кресло и хотел было что-то рассказать, однако Луиза, делая вид, будто продолжает разговор с матерью, сразу же перебила его:
— Все-таки для некоторых лиц только что принятый нами закон окажется весьма неудобным. Ведь и в прежнее время, когда мы живали в имении, нам подчас не хватало тем для разговоров, ибо это не то что в городе, где можно сегодня оклеветать бедную девушку, завтра набросить тень на молодого человека; однако до сих пор мы находили отдушину, рассказывая забавные анекдоты про ту или другую великую нацию, высмеивая как немцев, так и французов и объявляя то одного, то другого якобинцем или клубистом. Но если и этот источник будет закрыт, то кое-кто из нашего кружка станет немым.
— Этот выпад, милая барышня, по-видимому, нацелен в меня? — с улыбкой начал старик священник. — Ну да вы знаете, что я почитаю себя счастливым, когда меня время от времени приносят в жертву остальной компании. Ибо хотя вы, несомненно, в каждой беседе делаете честь вашей прекрасной воспитательнице и всякий находит вас обворожительной, любезной и милой, в вас тем не менее сидит этакий бесенок, с которым вы не всегда можете совладать, и за малейшее насилие, каковое вы над ним чините, вы, похоже, вознаграждаете его за мой счет. Скажите мне, милостивая государыня, обратился он к баронессе, — что произошло в мое отсутствие? И какие это разговоры отныне запрещены в нашем кружке?
Баронесса поведала ему обо всем случившемся. Он внимательно ее выслушал и заметил:
— Да ведь и при таком порядке некоторые лица найдут возможность развлекать наше общество, и, пожалуй, даже лучше, нежели в других обстоятельствах.
— Посмотрим, — сказала Луиза.
— В этом законе, — продолжал священник, — нет ничего тягостного для человека, который умеет занимать себя сам; напротив того, ему будет приятно, что отныне он может поделиться с окружающими тем, что до сих пор делал словно бы украдкой. Ибо не в укор вам будь сказано, барышня, но кто же создает сплетников, соглядатаев и клеветников, как не само общество? Редко доводилось мне видеть, чтобы чтение книги или рассказ об интересных предметах, способные затронуть ум и сердце, в той же мере захватили бы внимание слушателей, так же пробудили бы их душевные силы, как иная ошеломительная новость, в особенности, если она принижает какого-нибудь соотечественника или соотечественницу. Спросите себя, спросите других — что придает интерес событию? Не его важность, не влияние, которое оно оказывает, а его новизна. Только новое обыкновенно представляется важным, потому что оно вызывает изумление само по себе и на мгновенье возбуждает нашу фантазию, наши чувства едва задевает, а ум и вовсе оставляет в покое. Каждый человек способен совершенно без ущерба для себя принять живейшее участие во всем, что ново, и поскольку цепь новостей все время переключает его внимание с одного предмета на другой, то для толпы ничто не может быть более желанным, чем подобный повод для вечного рассеяния и подобная возможность дать выход своей злобе и своему коварству — всегда удобно, всегда по-новому.
— Ну вот, — воскликнула Луиза, — похоже, вы везде сумеете найтись: прежде от вас доставалось только отдельным лицам, теперь уж должен расплачиваться весь род людской!
— Я не требую от вас, чтобы вы когда-либо стали ко мне справедливы, возразил старик, — но одно я вам должен сказать: все мы, зависящие от общества, вынуждены с ним считаться и сообразоваться, более того, мы скорее можем себе позволить в обществе нечто неподобающее, чем то, что будет ему в тягость, а для него нет на свете ничего тягостнее, нежели призыв к размышлению и созерцанию. Всего, что направлено к этой цели, следует избегать, и только в тиши, наедине с собой, предаваться этому занятию, каковое запретно во всяком публичном собрании.
— Сами вы в тиши небось осушили не одну бутылку вина и не один часок соснули среди бела дня, — перебила его Луиза.
— Я никогда не придавал особого значения своим занятиям, — продолжал священник, — ибо мне ведомо, что в сравнении с другими людьми я изрядный лентяй, но между тем я собрал неплохую коллекцию, каковая, быть может, именно теперь могла бы доставить немало приятных часов нашему обществу при его нынешнем настроении.
— Что же это за коллекция? — спросила баронесса.
— Конечно, не что иное, как скандальная хроника, — вставила Лиза.
— Вы ошибаетесь, — сказал старик.
— Увидим, — ответила Луиза.
— Дай же ему договорить, — произнесла баронесса. — И вообще оставь привычку резко и недружественно нападать на человека, даже если он, шутки ради, и готов стерпеть эти нападки. У нас нет причин потакать таящемуся в нас злонравию, хотя бы и в шутку. Объясните мне, мой друг, из чего состоит ваша коллекция? Сгодится ли она для нашего развлечения? Давно ли вы начали ее собирать? Почему мы до сего времени ничего о ней не слыхали?
— Я вам представлю полный отчет, — отвечал старик. — Я уже давно живу на свете и всегда старался присмотреться к тому, что случается с тем или иным человеком. Я не нахожу в себе ни сил, ни решимости для обозрения всеобщей истории, а отдельные мировые события сбивают меня с толку; однако среди многочисленных историй из частной жизни, правдивых и ложных, которые обсуждаются в обществе или рассказываются друг другу на ухо, попадаются иногда такие, что обладают более истинной и чистой прелестью, нежели прелесть новизны. Одни способны развлечь нас благодаря остроумному повороту; другие на какие-то мгновенья открывают нам человеческую натуру и ее сокровенные глубины, а иные потешают нас забавными дурачествами. Из большого числа подобных историй, что в обыденной жизни тешат наше внимание и нашу злобу и столь же обыкновенны как и люди, с которыми они приключаются и которые их рассказывают, я отобрал те, что, на мой взгляд, особенно характерны, что занимают и трогают мой ум, мою душу и, когда я мысленно возвращаюсь к ним, дарят мне минуты спокойной и незамутненной радости.
— Мне очень любопытно, — сказала баронесса, — услышать, какого рода эти ваши истории и о чем в них, собственно, идет речь.
— Вы легко можете догадаться, что о судебных процессах и семейных распрях речь в них пойдет не часто. Дела такого рода большею частью интересуют лишь тех, кому они отравляют жизнь.
Луиза. А о чем же эти истории?
Старик. В них обыкновенно рассказывается, — не стану этого отрицать, — о тех чувствах, что связывают или разделяют мужчин и женщин, делают их счастливыми или несчастными, по чаще смущают и путают, нежели просветляют.
Луиза. Вот оно что! Значит, вы намереваетесь преподнести нам в качестве изысканного развлечения набор непристойных анекдотов? Простите мне, мама, это замечание, но оно напрашивается само собой, а ведь надо же говорить правду.
Старик. Надеюсь, вы не найдете в моей коллекции ничего такого, что я мог бы назвать непристойным.
Луиза. А что вы обозначаете этим словом?
Старик. Непристойные речи, непристойные рассказы для меня непереносимы. Ибо они представляют нам вещи низменные, не стоящие внимания и обсуждения, как нечто необыкновенное, нечто притягательное, и вместо того, чтобы приятно занять наш ум, возбуждают нечистые желания. Они скрывают от наших глаз то, что надо либо видеть без всяких покровов, либо не видеть вовсе.
Луиза. Я вас не понимаю. Вы ведь все же постараетесь изложить нам ваши истории поизящней? Неужели мы позволим оскорбить наш слух пошлыми анекдотами? Или у нас здесь будет школа, где наставляют юных девиц и вы еще потребуете за это благодарности?
Старик. Ни то, ни другое. Ибо, во-первых, ничего нового для себя вы не узнаете, в особенности потому, что, как я с некоторых пор замечаю, вы никогда не пропускаете небезызвестных статей в ученых журналах.
Луиза. Вы позволяете себе колкости.
Старик. Вы — невеста, и потому я вам не ставлю этого в упрек. Я только хотел вам показать, что и у меня найдутся стрелы, которые я при случае могу в вас пустить.
Баронесса. Я уже поняла, к чему вы клоните, объясните ей тоже.
Старик. Для этого мне пришлось бы лишь повторять то, что я уже сказал в начале нашего разговора, но что-то не похоже, чтобы у мадемуазель Луизы было желание прислушаться к моим словам.
Луиза. При чем тут желание или нежелание и все эти разглагольствования? Как бы на это дело ни смотреть, эти ваши истории наверняка окажутся просто скандальными, с той или иной точки зрения, вот и все.
Старик. Должен ли я повторять, милая барышня, что благомыслящему человеку может показаться скандальным лишь то, в чем он усмотрит злобу, высокомерие, стремление вредить ближним, нежелание помочь, так что ему и глядеть-то на это не захочется; напротив того, небольшие прегрешения и недостатки он находит забавными, особенно же его привлекают истории, где он видит хорошего человека в некотором противоречии с самим собой, со своими желаниями и намерениями, где упоенные собою глупцы бывают посрамлены, поставлены на место или обмануты, где всякого рода наглость наказывается случайным или естественным образом, где планы, желания и надежды либо исполняются не вдруг, нарушаются и вовсе идут прахом, либо неожиданно оказываются близки к осуществлению и в самом деле осуществляются. Охотнее всего он устремляет свой бесстрастный взор туда, где случай играет с человеческой слабостью и несовершенством, и ни одному из его героев, чьи истории он сохраняет в памяти, не приходится опасаться порицания или ждать похвалы.
Баронесса. Такое предисловие вызывает желание поскорее услышать что-нибудь на пробу. А я и не знала, что в нашей жизни (а ведь большую часть ее мы провели среди одного и того же круга) случалось много такого, что можно было бы включить в подобную коллекцию.
Старик. Конечно, многое зависит от наблюдателя и от того, что он сумеет извлечь из того или иного случая, но не стану отрицать: кое-что я позаимствовал из старых книг и преданий. Быть может, вам даже будет приятно встретить давних знакомцев в новом обличье. Но именно это дает мне преимущество, коим я отнюдь не намерен поступиться: ни к одной из моих историй не следует подбирать ключ!
Луиза. Но вы же не запретите нам узнавать наших друзей и соседей и, если нам вздумается, разгадать загадку?
Старик. Вовсе нет. Однако вы, со своей стороны, позволите мне тогда вытащить старинный фолиант и доказать вам, что история эта случилась или была сочинена за много столетий до нас. Равным образом вы позволите мне молча усмехнуться, если примете за старую сказку какую-либо историю, случившуюся в непосредственной близости от нас, но в том виде, в каком она рассказана, нами не узнанную.
Луиза. С вами не сговоришься. Будет гораздо лучше, если на сегодняшний вечер мы заключим мир и вы быстренько расскажете нам одну из ваших историй на пробу.
Старик. Позвольте мне вас не послушаться. Это удовольствие я приберегу до того времени, когда все общество будет в сборе. Нельзя лишать его хотя бы части моего запаса, и скажу вам наперед: все, что я могу вам предложить, само по себе никакой ценности не имеет. Однако если общество пожелает немного отдохнуть после серьезной беседы, если оно, уже насытясь отменной духовной пищей, начнет озираться в поисках десерта, вот тут-то я и подоспею со своими историями, и мне хотелось бы, чтобы они пришлись всем по вкусу.
Баронесса. Придется нам, стало быть, потерпеть до завтра.
Луиза. Я с большим нетерпением жду, что он нам преподнесет.
Старик. С большим нетерпением, мадемуазель, ждать не следует, ибо оно редко бывает вознаграждено.
Вечером после ужина баронесса сразу ушла к себе, но остальные не расходились, обсуждая только что доставленные новости и распространившиеся слухи. Как обычно бывает в такие моменты, никто не знал, чему верить, а чему нет.
Старый друг дома по этому случаю заметил:
— По-моему, самое удобное — поверить в то, что нам приятно, без обиняков отбросить то, что было бы неприятно, да и вообще счесть истинным то, что могло бы таковым быть.
Кто-то заметил, что люди обыкновенно так и поступают, и разговор постепенно свернул на решительную склонность нашей натуры верить в чудеса. Заговорили о романических ужасах, о призраках, и когда старик пообещал вскоре рассказать несколько занятных историй такого рода, Луиза попросила его:
— Вы были бы очень любезны, если б именно сейчас, когда у нас есть на то настроение, рассказали какую-нибудь историю, мы бы ее выслушали со вниманием и были бы вам весьма благодарны.
Не заставляя долго себя упрашивать, священник начал рассказ следующими словами:
— В бытность мою в Неаполе там случилась одна история, вызвавшая много толков, но судили о ней по-разному. Одни утверждали, что она полностью вымышлена, другие, что сама история правдива, но речь в ней идет о ловком обмане. Среди тех, кто придерживался второго мнения, тоже не было единодушия, они спорили о том, кто же мог быть обманщик. Третьи говорили: еще вовсе не доказано, что духовно одаренные натуры не могут влиять на тела и стихии, и не следует всякое чудесное происшествие считать непременно обманом и ложью. Ну, а вот и сама история.
Некая певица по имени Антонелли была в то время любимицей неаполитанской публики. Находилась она в расцвете лет, красоты, таланта, словом, обладала всем тем, чем только может женщина очаровать и увлечь толпу, а также прельстить и осчастливить избранный круг друзей. Нельзя сказать, чтобы она была нечувствительна к похвалам и к любви, однако, по натуре своей благоразумная и умеренная, она умела насладиться и тем и другим, не теряя власти над собой, каковая была ей столь необходима в ее положении. Все молодые, знатные и богатые люди увивались вокруг нее, но она принимала у себя лишь немногих и, хотя при выборе любовников полагалась больше всего на свои глаза и сердце, тем не менее в каждом из этих маленьких приключений выказывала столь твердый, решительный характер, что это расположило бы к ней самого сурового наблюдателя. Я имел возможность видеть ее в течение некоторого времени, так как был близок с одним из тех, кого она взыскала своей милостью.
Шли годы; ей довелось узнать многих мужчин, в их число немало фатов, людей слабых и ненадежных. По ее наблюдениям выходило, что любовник, который в известном смысле становится для женщины всем, чаще всего оказывается совершенно никчемным, когда ей особенно требуется поддержка, — в житейских треволнениях, в домашних неурядицах, при необходимости быстрого решения; а бывает и так, что он просто вредит своей возлюбленной, ибо думает только о себе и из себялюбия почитает за благо дать ей самый дурной совет и толкнуть на опаснейший шаг.
До сего времени при всех ее любовных связях ум ее оставался праздным, однако и он требовал себе пищи. Она хотела наконец-то завести себе друга, и едва лишь ощутила такую потребность, как среди людей, старавшихся с нею сблизиться, объявился некий молодой человек, на которого она возложила свои надежды, и он, по-видимому, во всех отношениях этого заслуживал.
Это был генуэзец, коего в то время привели в Неаполь важные дела его торгового дома. Обладая от природы незаурядными способностями, он получил самое заботливое воспитание. Познания его были весьма обширны, ум, равно как и тело, развиты до совершенства, поведение же могло бы служить образцом — то было поведение человека, который ни на миг не забывается, но постоянно забывает себя ради других. Торговый гений его родного города отметил его своею печатью: все, что бы он ни затевал, он делал с большим размахом. Однако положение его было далеко не блестяще: его торговый дом пустился в некие сомнительные спекуляции и был теперь втянут в опаснейшие процессы. С течением времени дела его все более запутывались, и гнетущая забота придавала ему налет грусти, который очень шел к нему, а прекрасную девушку воодушевлял искать его дружбы, ибо, как она полагала, и ему тоже нужна была подруга.
Доселе он видел ее лишь на людях, от случая к случаю: ныне же, по его первому слову, она открыла перед ним двери своего дома, более того, настоятельно приглашала его к себе, и он не преминул воспользоваться ее приглашением.
Красавица не замедлила выказать ему свое доверие и открыться в своих желаниях. Он был этим удивлен и обрадован. Она же настойчиво просила его оставаться всегда ее другом, не притязая на роль любовника. Она поведала ему, что как раз сейчас находится в некотором затруднении, он же, располагая обширными знакомствами, мог бы дать ей наилучший совет и предпринять наискорейшие шаги ей на пользу. Он, со своей стороны, посвятил ее в свое положение, и поскольку она умела развеселить и утешить его и в ее присутствии у него возникали мысли, которые в ином случае не могли бы сложиться так быстро, она тоже в некотором роде стала его советчицей, и вскоре между ними упрочилась дружба, основанная на высочайшем обоюдном уважении и благороднейшей потребности.
К несчастью, однако, соглашаясь на какое-либо условие, люди не всегда думают о том, насколько оно выполнимо.
Он обещал оставаться ей только другом, не притязая на роль любовника, но не мог не признаться себе в том, что повсюду встречает поклонников певицы, удостоенных ее милостью, и что они ему глубоко противны, даже невыносимы.
Особенно больно бывал он задет, если его подруга весело потешалась над добрыми и злыми качествами одного из этих людей и как будто бы знала наперечет все недостатки своего избранника, но иногда в тот же вечер, словно бы в насмешку над своим почитаемым другом, покоилась в объятиях недостойного.
По счастью или несчастью, но вскорости случилось так, что сердце девушки оказалось свободным. Ее друг, к своему удовольствию, это заметил и попытался убедить ее в том, что освободившееся место подобает ему более, нежели кому-нибудь другому. Она склонила слух к его мольбам, однако не без внутреннего протеста. «Боюсь, — говорила она, — что из-за своей уступчивости я потеряю самое ценное, что есть в мире, — друга». Ее предсказание сбылось: прошло совсем немного времени, что он состоял при ней в этом двойном качестве, как его капризы начали становиться все более и более тягостными; как друг он притязал на все ее уважение, как любовник — на всю ее нежность, а как умный и любезный человек не желал обходиться без ее общества. Это, однако, было отнюдь не по нраву живой и общительной девушке; она не испытывала склонности к самопожертвованию и не имела желания признавать за кем бы то ни было исключительные права на нее. По этой причине она постаралась самым деликатным образом понемногу сократить его визиты, видеться с ним пореже и дала ему понять, что ни за какие блага в мире не намерена поступиться своей свободой.
Едва он это заметил, как почувствовал, что на него обрушилось величайшее несчастье, но, к сожалению, то была не единственная постигшая его беда: его домашние дела принимали самый скверный оборот. Он корил себя за то, что с юных лет считал свое состояние неиссякаемым источником и забросил свои торговые дела ради того, чтобы путешествовать и разыгрывать из себя в свете человека более знатного и богатого, нежели это позволяли ему его рождение и его доходы. Процессы, на которые он возлагал все свои надежды, тянулись долго и требовали больших затрат. Ему пришлось по этим делам несколько раз ездить в Палермо, и во время последней его поездки умная девушка приняла меры, чтобы изменить распорядок своей жизни и понемногу отдалить его от себя. Вернувшись, он нашел ее на другой квартире, гораздо дальше от его собственной, и увидел, что маркиз де С., имевший в то время большую власть над публичными увеселениями и зрелищами, запросто бывает у его возлюбленной. Это окончательно сломило его, и он тяжко захворал. Когда известие о его болезни достигло его подруги, она поспешила к нему, окружила его заботами, вверила попечению надежных слуг и, поскольку от нее не укрылось, что состояние его финансов оставляет желать лучшего, предоставила ему изрядную сумму денег, могущую на ближайшее время удовлетворить его нужды.
Своим дерзким посягательством на ее свободу друг и так уже много потерял в ее глазах; но по мере того, как ее нежность к нему остывала, взгляд ее становился все зорче и под конец сделанное ею открытие, что в собственных своих делах он поступал весьма опрометчиво, внушило ей не самое благоприятное представление о его уме и характере. Он между тем: вовсе не замечал свершившейся в ней перемены; напротив того: ее заботы о его здоровье, терпение, с каким она по целым дням просиживала у его постели, казались ему скорее признаками любви и дружбы, нежели сострадания, и он надеялся по выздоровлении снова вступить в свои права.
Как глубоко он заблуждался! По мере того как к нему возвращалось здоровье и восстанавливались силы, ее расположение и доверие к прежнему другу словно таяли, и казалось, будто теперь он ей настолько же немил, насколько раньше был приятен. К тому же незаметно для него самого характер его за время этих перипетий ожесточился и сделался невыносимым; вину за свои беды, кои он навлек на себя сам, он перелагал на других, а себя ни в чем не винил. Себя он почитал безвинно преследуемым, оскорбленным, несчастным человеком и надеялся, что совершенная преданность его подруги вознаградит его за все горести и страдания.
С этими требованиями он и приступил к возлюбленной в первый же день, как только опять смог выйти на улицу и явиться к ней в дом.
Он хотел от нее ни много ни мало: чтобы она всецело принадлежала ему, рассталась с прочими друзьями и знакомыми, оставила сцену и стала бы жить с ним одним и ради него одного. Она доказывала ему невозможность исполнить его требования, доказывала вначале шутливо, потом серьезно и под конец была вынуждена открыть ему горестную истину, что с их прежними отношениями покончено. Он покинул ее, и больше они никогда не видались.
Он прожил еще несколько лет в очень узком кругу, вернее сказать, в обществе одной старой благочестивой дамы, жившей с ним в одном доме на небольшую ренту. К этому времени он выиграл один процесс, а вскоре за тем и второе; однако здоровье его было подорвано, а счастье утрачено навсегда. Довольно было самого пустячного повода, чтобы его снова свалила тяжелая болезнь; врач предсказал ему Слизкую смерть. Он безропотно выслушал приговор, лишь выразил желание еще раз увидеть свою прекрасную подругу и послал к ней того самого слугу, который в счастливые времена, бывало, не раз приносил ему благоприятный ответ. Он обращался к ней с просьбой — она отказала. Он послал к ней слугу во второй раз, заклиная ее прийти, — она упорствовала. Наконец, — был уже поздний вечер, — он послал к ней в третий раз; она была взволнована и поверила мне свое смущение, ибо я как раз в тот вечер ужинал у нее вместе с маркизом и еще несколькими друзьями. Я посоветовал ей, даже просил ее воздать другу эту последнюю дань любви; она как будто бы колебалась, однако, по некотором размышлении, решилась и отослала слугу с окончательным отказом; больше он не возвращался.
После ужина мы сидели за столом, продолжая дружески беседовать; все были оживленны и в приподнятом настроении. Примерно около полуночи где-то рядом с нами вдруг раздался крик — жалобный, пронзительный, тревожный и долго не смолкавший. Мы вздрогнули, переглянулись и стали озираться по сторонам, пытаясь угадать, что за этим последует. Крик, исходивший откуда-то из середины комнаты, казалось, замирал в ее стенах. Маркиз вскочил и подбежал к окну, а мы бросились к нашей красавице, лежавшей в глубоком обмороке. С трудом удалось нам привести ее в чувство. Едва лишь она открыла глаза, как пылкий ревнивый итальянец принялся осыпать ее жесточайшими упреками. «Если уж вы уславливаетесь с вашими друзьями о сигналах, — сказал он, — то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы они были не такими громкими и резкими». Она отвечала ему со свойственной ей находчивостью, что поскольку она имеет право во всякое время принимать у себя кого ей заблагорассудится, то едва ли стала бы предварять столь сладостные минуты такими заунывными и страшными звуками.
И поистине, в этом крике было нечто донельзя жуткое. В ушах у нас еще звенели его протяжные, гулкие отзвуки, отдаваясь во всех членах. Красавица была бледна, черты ее исказились, казалось, она все еще близка к обмороку; нам пришлось просидеть возле нее почти всю ночь. Голоса больше не было слышно. На следующий вечер то же общество собралось снова, не в столь веселом настроении, как накануне, но в довольно-таки благодушном, — и в тот же час раздался тот же непереносимый, ужасающий крик.
Мы между тем строили бесчисленные предположения о природе этого крика, о том, откуда он исходит, и просто терялись в догадках. Что тут долго распространяться? Всякий раз, когда она ужинала дома, крик раздавался, иногда громче, иногда тише, но, как утверждали, неизменно в одно и то же время. В Неаполе только и разговору было, что об этом происшествии. Вся челядь в доме, все друзья и знакомые живейшим образом его обсуждали, даже полиции дали знать. К дому были приставлены соглядатаи и сыщики. Тем, кто стоял на улице, казалось, что звук доносится откуда-то издалека, в комнатах же он слышался совсем близко. Когда она ужинала в гостях, голос молчал, но стоило ей остаться у себя, как он раздавался снова.
Однако и вне дома она не вполне была избавлена от этого злого провожатого. Ее красота и прелесть открыли перед нею двери самых знатных домов. Благодаря приятным манерам, она везде была желанной гостьей, и вот, чтобы избавиться от этого наваждения, она взяла за привычку проводить все вечера в гостях.
Как-то вечером один человек почтенного возраста и положения отвозит ее домой в своем экипаже. И вот в тот миг, когда она прощается с ним у дверей своего дома, между ним и ею вдруг раздается крик, и этого человека, которому история сия была известна ничуть не хуже, чем тысяче его сограждан, вносят в карету едва живого.
В другой раз некий молодой тенор, к которому она питала расположение, однажды вечером отправляется с нею в город навестить их общую приятельницу. Он слышал разговоры об этом странном феномене, но, будучи человеком жизнерадостным, считал подобное чудо едва ли возможным. По дороге они говорят об этой истории. «Я бы тоже хотел, — сказал он, — услышать голос вашего незримого спутника, вызовите его, ведь нас с вами двое, и нам нечего бояться». Уж не знаю, что ее толкнуло на это — легкомыслие или отвага, но только она вызвала духа, и в тот же миг в карете раздался громоподобный глас и, прозвучав три раза подряд, с жалобным отзвуком затих. Оба были найдены без чувств в карете возле дома их общей знакомой, и лишь с большим трудом удалось привести их и чувство и узнать, что же такое с ними приключилось.
Красавица не сразу оправилась после этого случая. Испуг, поражавший ее снова и снова, отразился на ее здоровье, и казалось, что крикливый призрак на время дал ей передышку, а поскольку его долго не было слышно, она даже возымела надежду, что избавилась от него навсегда. Но не тут-то было.
По окончании карнавала артистка затеяла в сопровождении одной из своих подруг и горничной увеселительную прогулку. Она намеревалась погостить в одном загородном имении, но так как ночь застала их в дороге, к тому же в экипаже случилась какая-то поломка, им пришлось заночевать на захудалом постоялом дворе, где они постарались расположиться поудобнее.
Подруга уже легла спать, а горничная, зажегши ночник, хотела было прилечь возле своей госпожи, как той вздумалось вдруг пошутить: «Мы здесь, можно сказать, на краю света, да и погода прескверная, так неужто он и тут нас найдет?» В тот же миг он подал голос, страшнее и громче, чем когда бы то ни было. Подруга решила, что в комнате не иначе, как разверзся ад, выскочила из постели и, в чем была, кинулась вниз по лестнице, переполошив весь дом. Никто в ту ночь не сомкнул глаз. Но зато это был последний случай, когда слышался голос. Однако, к несчастью, непрошеный гость стал отныне возвещать о своем присутствии еще более неприятным образом.
Некоторое время он не причинял беспокойства, как вдруг однажды вечером, в обычный час, когда она сидела за ужином со своими гостями, снаружи кто-то словно выстрелил в окно — из ружья или из хорошо заряженного пистолета. Выстрел слышали все, и все видели вспышку, но, внимательно осмотрев окно, не нашли на нем ни малейших повреждений, Тем не менее все присутствующие были очень обеспокоены происшедшим, — они полагали, что кто-то покушается на жизнь красавицы. Поспешили в полицию, обследовали соседние дома, но, не обнаружив ничего подозрительного, поставили там снизу доверху стражу. Тщательно обыскали также дом, где жила она сама, на улице расставили сыщиков.
Но все эти меры предосторожности оказались напрасными. Три месяца подряд в один и тот же час гремел выстрел в одно и то же окно, не повреждая стекла, и, что особенно примечательно, всегда незадолго до полуночи; дело в том, что в Неаполе живут по итальянскому времени, и полночь там особого значения не имеет.
Постепенно все привыкли к этому странному явлению, так же, как к предшествующему, и не ставили в укор привидению эти его безвредные выходки. Случалось даже, что выстрел нисколько не пугал собравшееся общество, не мешая ему продолжать беседу.
В один прекрасный вечер, пришедший на смену очень жаркому дню, красавица, позабыв, который час, растворила то самое окно и об руку с маркизом вышла на балкон.
Не успели они простоять там и несколько минут, как промеж них грянул выстрел, с силою отбросивший их обратно в комнату, где они без чувств повалились на пол. Когда они пришли в себя, то оба почувствовали боль, — он на левой, она на правой щеке, — как будто бы от сильной пощечины, но поскольку других повреждений у них не обнаружили, то это происшествие дало повод для всевозможных шуток.
С того дня выстрелов в доме больше не слыхали, и певица вообразила, будто избавилась наконец от своего преследователя, но однажды вечером, когда она вместе с другой дамой ехала в коляске, ее снова сильнейшим образом испугало одно неожиданное приключение.
Путь их вел через Кьяйю, где когда-то жил ее умерший возлюбленный. Ярко светила луна. Дама, сидевшая с нею рядом, спросила: «Вот, кажется, дом, где умер господин ****?» — «Сколько помню, это должен быть один из тех двух домов», — отвечала красавица, и в тот же миг из одного дома раздался выстрел, ударивший в коляску. Кучеру показалось, что пуля угодила прямо в него, и он погнал лошадей вскачь. Когда они приехали на место, обеих женщин вынесли из коляски замертво.
Но этот испуг был и последним. Незримый преследователь изменил свою методу: несколько вечеров спустя под окнами красавицы раздались громкие рукоплескания. Прославленная певица, артистка, она, разумеется, была более привычна к таким звукам. В самих звуках ничего пугающего не было, они легко могли исходить от какого-нибудь ее поклонника, и она не придала им значения. Однако ее друзья были более осторожны и, как в прошлый раз, выставили на улице посты. Те слышали звуки, но, сколько ни глядели, никого увидеть не могли, и многие уже надеялись, что вскоре все эти таинственные явления совершенно прекратятся.
Через некоторое время пропали и эти звуки, сменившись куда более приятными. Нельзя сказать, чтобы они были и впрямь мелодичны, но зато необычайно нежны и ласковы. У самых внимательных наблюдателей создавалось впечатление, будто музыка эта, рождаясь где-то за углом, на ближайшем перекрестке, несется по воздушным волнам прямо к окну певицы и там нежнейшим образом тает. Казалось, будто какой-то небесный дух пожелал очаровательной прелюдией возвестить мелодию, которою собирался исполнить. Наконец и эти звуки пропали и больше не возобновлялись; к тому времени сия удивительная история тянулась уже почти что полтора года.
Когда рассказчик на минуту умолк, слушатели стали высказывать свои суждения и сомнения касательно этой истории, — правдива ли она, да и может ли быть правдива?
Старик утверждал, что она несомненно правдива, коль скоро вызвала у них такой живой интерес, ибо для выдуманной истории она недостаточно искусна. Кто-то заметил: странно, почему никто не поинтересовался, что за человек был умерший друг певицы и при каких обстоятельствах он умер, — ведь это могло бы многое прояснить в данной истории.
— Это не преминули сделать, — ответил старик. — Я и сам после первого же странного явления отправился к нему в дом, исполненный любопытства, и под благовидным предлогом посетил ту даму, которая вплоть до его кончины пеклась о нем с поистине материнской нежностью. Она поведала мне, что ее друг питал необыкновенно сильную страсть к известной особе и в последние месяцы жизни только о ней и говорил, изображая ее то ангелом, то дьяволом.
Когда болезнь окончательно одолела его, он ничего не желал так страстно, как еще раз увидеть ее перед смертью, — возможно, в надежде вынудить у нее хоть одно нежное слово, признак раскаяния или какое-либо другое доказательство любви и преданности. Тем ужаснее был для него ее непреклонный отказ, и, несомненно, ее последнее решительное «нет» ускорило его кончину. В отчаянии он воскликнул: «Теперь ей ничто не поможет! Она избегает меня, но и после моей смерти я не дам ей покоя!» В таком ожесточении покинул он сию юдоль, а нам довелось воочию убедиться, что человек может сдержать свое слово и за гробом.
Собеседники принялись снова судить да рядить об этой истории. Под конец братец Фриц сказал:
— У меня есть одно подозрение, но я не стану его высказывать, пока еще раз не восстановлю в памяти все обстоятельства и как следует не проверю свои выкладки.
Когда же к нему со всех сторон приступили с просьбами, то он, пытаясь уйти от ответа, нашел лазейку, предложив, в свою очередь, рассказать историю, каковая, правда, по занимательности уступает предыдущей, но тоже такого рода, что ей никогда не могли дать удовлетворительного объяснения.
— У одного моего друга, достойного дворянина, жившего с семьей в старинном замке, воспитывалась сирота, и когда она подросла и достигла четырнадцатилетнего возраста, то была приставлена к хозяйке дома, чтобы во всем ей прислуживать. Ею были вполне довольны, да и она, казалось, не желала ничего лучшего, как только вниманием и преданностью изъявить признательность своим благодетелям. Она была недурна собой, и нашлось несколько молодых людей, желавших присвататься к ней. Ее воспитатели полагали, что вряд ли кто-либо из этих женихов мог бы составить счастье девушки, да и она сама не выражала ни малейшего желания изменить свое положение.
Однажды домочадцы заметили, что когда девушка ходит по дому, занимаясь своими делами, под ногами у нее то здесь, то там раздается какой-то стук. Вначале это сочли простым совпадением, но поскольку стук не прекращался, сопровождая ее почти на каждом шагу, она стала бояться и не решалась выйти из комнаты своей госпожи, ибо только там ее не преследовал этот стук.
Его мог слышать всякий, кто шел с нею рядом или стоял поблизости. Поначалу это курьезное обстоятельство служило поводом для шуток, но в конце концов сделалось для всех неприятным. Хозяин дома, человек пытливого ума, принялся сам его расследовать. Стук слышался не прежде, чем девушка делала шаг, но не в тот миг, когда она ставила ногу, а лишь когда поднимала ее, чтобы ступить. Однако удары иногда раздавались неравномерно и были особенно сильны, когда она пересекала одну из больших зал.
Однажды отец семейства зачем-то призвал в дом рабочих и, когда стук сделался особенно громким, приказал им разобрать пол в том месте, где она только что ступала. Под полом ничего не обнаружили, не считая того, что оттуда выскочило несколько больших крыс, и охота за ними наделала в доме много шуму.
Возмущенный всей этой историей и поднявшейся в доме кутерьмой, хозяин решил прибегнуть к суровой мере: он снял со стены самый большой свой хлыст и поклялся, что забьет девушку до смерти, если стук послышится еще хоть раз. С того дня она невозбранно расхаживала по всему дому и стука никто больше не слышал.
— Из чего ясно видно, — вмешалась Луиза, — что милая девочка сама и была своим собственным привидением: по какой-то причине она придумала себе эту забаву и потешалась над своими господами.
— Ничего подобного, — возразил Фриц, — те, кто приписывал это явление неведомому духу, полагали, что это дух-хранитель, и хотя он желал, чтобы девушка покинула этот дом, он не мог допустить, чтобы ей причинили зло. Другие поняли это более прозаично и считали, что один из ее поклонников был настолько искусен и ловок, что сумел вызвать эти звуки, дабы выманить девушку из дома и залучить в свои объятия. Как бы то ни было, милая девушка прямо истаяла от этого наваждения и стала похожа на печальный призрак, тогда как прежде была цветущей и жизнерадостной, а среди обитателей дома — самой веселой. Но и такое похудание может быть объяснено совершенно по-разному.
— Жаль, — заметил Карл, — что подобные случаи недостаточно пристально исследуются, и, обсуждая события, которые нас столь живо интересуют, мы колеблемся между различными предположениями, ибо подробности, коими сопровождаются подобные чудеса, вовремя не были подмечены.
— Если бы это вообще было доступно исследованию, — сказал старик, — и в ту минуту, когда случается подобное происшествие, удавалось бы уловить все его моменты, ведь самое важное, чтобы от нашего внимания не ускользнуло ничто такое, за чем может скрываться обман и заблуждение. Разве можем мы разгадать приемы фокусника, хотя и знаем, что он нас водит за нос?
Не успел он договорить, как из угла комнаты вдруг послышался сильный треск. Все вздрогнули, а Карл шутя спросил:
— Надеюсь, это не подает голос чей-то умирающий любовник?
Он тотчас пожалел о своих словах, потому что Луиза побледнела и призналась, что трепещет за жизнь своего жениха.
Чтобы отвлечь ее от этих мыслей, Фриц взял свечу и подошел к стоявшему в углу бюро. Его выпуклую крышку наискось прорезала трещина; итак, происхождение звука было ясно; и все же всем показалось странным, что это бюро — одно из лучших изделий Рёнтгена, простояв столько лет на одном месте, именно в этот миг почему-то треснуло. Его часто восхваляли и показывали гостям как образец превосходной и необыкновенно прочной столярной работы, и вдруг оно ни с того ни с сего треснуло, хотя в воздухе не ощущалось ни малейшей перемены.
— Ну-ка, — сказал Карл, — выясним сначала это обстоятельство и взглянем на барометр.
Ртутный столбик стоял на том же уровне, что и все последние дни, да и термометр показывал понижение не более обычного в часы, когда день сменяется ночью.
— Жаль, — воскликнул он, — что под рукой у нас нет гигрометра; именно этот инструмент был бы нам сейчас нужнее всего!
— Похоже на то, — заметил старик, — что всякий раз, когда мы хотим поставить опыт с духами, у нас под рукой не оказывается необходимейших инструментов.
Их рассуждения прервал поспешно вошедший слуга, который сообщил, что на небе виднеется яркое зарево, но не ясно, где горит — в городе или в его окрестностях.
Поскольку недавнее происшествие сделало всех более чувствительными к страху, то это известие поразило присутствующих больше, нежели могло бы поразить в другое время. Фриц поспешил в бельведер, где помещалось большое горизонтальное стекло, на которое была нанесена подробная карта страны, так, чтобы при ее помощи можно было даже ночью с точностью определить местоположение того или иного города. Прочие остались в гостиной, взволнованные и озабоченные.
Фриц вернулся и сказал:
— Я не могу вас обрадовать. Ибо скорее всего горит не в городе, а в имении нашей тетушки. Я точно определил направление и уверен, что не ошибся.
Все стали сетовать, что сгорит такой красивый дом, и принялись исчислять убытки.
— Мне, между прочим, пришла в голову удивительная мысль, — сказал Фриц, которая, по крайней мере, успокоит нас касательно странного явления с нашим бюро. Прежде всего надо точно заметить себе момент, когда мы услыхали треск.
Они отсчитали время назад, — видимо, это произошло около половины двенадцатого.
— А теперь можете смеяться надо мною, ежели вам угодно, — продолжал Фриц, — только я расскажу вам о своих догадках. Вам известно, что много лет тому назад матушка подарила нашей тете похожее, даже, можно сказать, совершенно такое же бюро. Обе вещи с великим тщанием изготовлены в одно и то же время, из одного и того же дерева, одним и тем же мастером; обе до сего времени прекрасно сохранились, но я готов биться об заклад, что в эту минуту вместе с загородным домом нашей тетушки гибнет в огне и второе бюро, и его брат-близнец при этом тоже чувствует боль. Завтра я сам отправлюсь туда, чтобы на месте по возможности уяснить себе этот странный факт.
На самом ли деле у Фридриха составилось такое мнение, или эту мысль подсказало ему желание успокоить сестру — мы решать не будем; довольно того, что общество воспользовалось поводом поговорить о неоспоримых тайных симпатиях и под конец нашло весьма вероятным существование таковых между предметами, сделанными из одного дерева, между произведениями, созданными одним художником. Они пришли к единодушному мнению, что и такие феномены могут быть причислены к явлениям природы, как и некоторые другие, вполне осязаемые и все же необъяснимые.
— Мне вообще кажется, — сказал Карл, — что всякий феномен, в равной мере, как и всякий факт, интересен сам по себе. Кто их объясняет или соотносит с другими происшествиями, делает это, собственно, лишь для забавы, а нас водит за нос, как естествоиспытатель и сочинитель историй. Однако отдельно взятое действие или происшествие интересно отнюдь не потому, что оно объяснимо или правдоподобно, а потому, что оно истинно. Если около полуночи пламя поглотило тетушкино бюро, то странное растрескиванье нашего в то же самое время для нас — истинное происшествие, пусть оно даже будет вполне объяснимо и соотносится с чем угодно.
Хотя была уже глубокая ночь, никто и не думал идти спать, и Карл вызвался, в свою очередь, рассказать историю, ничуть не менее интересную оттого, что ее, пожалуй, легче объяснить и понять, чем предыдущие.
— Ее рассказывает в своих мемуарах маршал де Бассомпьер, — добавил он, — я позволю себе говорить от его лица.
«На протяжении пяти или шести месяцев я замечал, что всякий раз, как случалось мне проходить по Малому мосту (Новый мост был в то время еще не построен), одна пригожая лавочница, чье заведение было особенно приметно благодаря вывеске с двумя ангелами, по нескольку раз низко и учтиво мне кланялась и глядела вслед до тех пор, пока я не скроюсь из глаз. Такое ее поведение меня поразило, и я тоже стад обращать на нее внимание и учтиво отвечать на ее поклоны. Однажды я возвращался верхом из Фонтенбло в Париж, и когда въехал на Малый мост, она вышла из своей лавки и, глядя, как я проезжаю мимо, громко сказала: «Ваша служанка, сударь!» Я ответил на ее приветствие и потом, оглянувшись несколько раз, увидел, что она перегнулась вперед, чтобы как можно дольше не терять меня из виду.
Меня сопровождали слуга и почтальон, коих я намеревался в тот же вечер отослать назад, в Фонтенбло, с письмами к нескольким дамам. По моему приказанию слуга спешился и зашел к молодой женщине, дабы передать ей от моего имени, что я заметил ее неизменное желание видеть и привечать меня, а ежели ей угодно познакомиться со мною поближе, я готов встретиться с нею там, где она пожелает.
Она отвечала слуге, что для нее не может быть вести приятнее и что она охотно придет туда, куда я укажу, но лишь с одним условием — что ей будет дозволено провести ночь под одним одеялом со мною.
Назад: ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Дальше: СКАЗКА

