Часть четвертая
Глава первая
Высокий, худощавый мужчина поднимается со своего места и идет через сцену к трибуне. В огромной аудитории стоит полная тишина: слышен лишь звук его шагов по потертым половицам. Он худ, почти прозрачен, изможден до мозга костей, черный смокинг висит на нем, и вообще он больше походит на пугало для ворон, чем на временно исполняющего обязанности главы Общества Содействия Продвижению Науки Монстрологии, каковым он только что был избран де-юре, хоте де-факто давно уже является его основной движущей силой и вдохновителем. А я, хранитель его души, сижу высоко в ложе, откуда слежу за ним, словно ястреб, парящий над пустошью в поисках добычи. Никто не хлопает, не приветствует нового председателя. А ведь это и есть тот самый триумф, который должен был увенчать его легендарную карьеру. Однако лишь подозрительность и печаль владеют его собратьями по науке, родственными душами в изучении самых жестоких шуток Господа. Сотни людей пришли в старый оперный театр, чтобы выслушать его – и бросить ему вызов. Вот Хайрам Уокер: он так подался вперед, вытянув лицо без подбородка и сощурив крохотные глазки, что стал удивительно похож на крысу. Только и ждет, когда ему представится шанс вскочить с вопросом: почему мы наняли преступников и бандитов для охраны величайшего сокровища, попадавшего в руки аберрантных биологов за последнее столетие? И чему мы научились на своей ошибке, если просим теперь тех же самых людей найти его для нас? Отчего погиб наш президент и возлюбленный Мастер? В хищной когтистой лапке Немезида Уортропа сжимает листок бумаги: говорят, это резолюция о пожизненном исключении Уортропа из рядов Общества. Монстролога лишат монстрологии, и кем же он тогда станет? Кем еще может быть Пеллинор Уортроп, как не этим и только этим?
Глубоко под землей, на столе-алтаре, догорает под присмотром Сэмюэля Исааксона новейшая жертва, невинная и обреченная. Исааксон, посредственность, так же не способен смотреть в лицо безликого и безымянного, как шлюха – вернуть свою девственность. Невинные гибнут. Глупые, банальные, злые продолжают жить.
– Повинуясь возложенному на меня долгу, – начинает говорить монстролог с трибуны, – хотя и с тяжелым сердцем… Объявляю сто тринадцатый конгресс открытым.
Он поднял церемониальный молоточек, и зал погрузился во тьму. Вдруг потрясенную тишину разорвал голос:
– Привет с Элизабет-стрит, ублюдки! – Дюжины пламенеющих шаров полетели из глубины зала. Одни врезались в сцену, распускаясь на миг огненными цветами и рассылая во все стороны пылающие осколки, другие, не долетев, падали в публику; поднялся страшный крик, и немногие услышали, как захлопнулись входные двери и лязгнули в ручках железные пруты – нас заперли снаружи. Огонь распространялся стремительно, люди, вскочив с мест, затаптывали друг друга в проходах, как взбесившийся скот, в попытке спастись от неизбежного. Старые ковровые дорожки, матерчатая обивка кресел, тяжелый занавес дамасского шелка вспыхнули сразу; густой удушливый дым быстро заполнял пространство зала. Прежде чем выскочить из ложи, я заметил объятую пламенем фигуру, которая мчалась к сцене: пронзительные вопли напоминали отчаянный писк серого грызуна, который тот издает, чуя неминуемую смерть.
Вниз по черной лестнице к приватному входу – неприметной дверке на задворках театра; вдруг они ее пропустили. Дверь не поддается. И ручка горячая. Каморра действовала с крестьянской основательностью и не ограничилась поджогом одного зала. Пламя объяло все здание.
Слезы текли по моему лицу. Дым разъедал легкие. Я ударил в дверь плечом. Огонь, снова огонь! Этого я не вынесу, ни во второй раз, и никогда больше. Снова и снова я сосредоточенно бью в центр двери. Внутри темно, сквозь слезы не видно, есть ли поблизости хоть один источник света. Удар, другой, третий. Дерево дает трещину. Перегретый воздух снаружи довершает дело, раскалывая дверь на две аккуратные половины по всей длине – лесоруб с топором, и тот не сработал бы лучше. Воздух врывается внутрь, отбрасывая меня назад так, что я ударяюсь головой о ступени. Пелена черного дыма заползает внутрь. Я закрываю ладонью нос и рот, зажмуриваюсь: мне не обязательно видеть, я знаю, куда иду.
Через зал, затопленный пламенем. В дверь, едва отличимую от стены, на винтовую лестницу, узкую, как змея, вниз, туда, где приветливо светят газовые рожки, и дуновение прохладного воздуха освежает мое лицо; там я открываю глаза и мучительно-длинным коридором бегу во весь дух к ее камере: я не выдержу твоих страданий, я не могу продолжать, – Исааксон бросается мне навстречу, а здание над нами горит и стонет – горю, горю! – пожираемое огнем заживо.
– Поздно, поздно, слишком поздно! – кричит он, подбегая ко мне. Хватает меня за рукав; я отвечаю ему ударом в висок, он валится на пол, как подкошенный. Я переступаю через его скорчившееся тело и бегу дальше.
В дверях я останавливаюсь. Дым здесь еще гуще – адская вонь тухлых яиц иссушает рот, раздирает легкие. Поздно: в панике он, должно быть, выплеснул на нее целое ведро. То, что было ею, с шипением растворяется прямо у меня на глазах; ее кровь кипит и превращается в пар; у нее уже нет лица; она словно хохочет надо мной застывшим в безмолвном крике ртом. Она была жива, когда он это сделал.
Пятясь, я отступаю до тех пор, пока не утыкаюсь в стену напротив.
Знаешь, как оно убивает, Исааксон? Человек находится в полном сознании, когда оно раскрывает пасть, чтобы проглотить его целиком.
Снова назад, туда, откуда я пришел; меня качает от стены к стене, а над моей головой огонь пожирает мир.
Чудовищное давление крошит кости… каждый дюйм тела жжет так, словно тебя опустили в чан с кислотой.
Вот он, лежит; не пошевелился. Моя рука ныряет в карман: нож все еще при мне. Я выпотрошу его. Будет жрать свои вонючие кишки. Сначала вырежу ему глаза, потом язык. Пусть жрет себя самого, свою глупую, тупую, злобную башку.
Но погоди-ка. Он же не один. Над ним склоняется другой, постарше, темноволосый. Через его плечо перекинут холщовый мешок, в нем что-то топорщится. Человек видит меня, вздрагивает, его глаза расширяются от ужаса.
– Уильям! – кричит Акоста-Рохас. – Нам надо уходить, но как? Через верх нельзя, надо найти другой путь. Здесь есть выход в канализацию или что-то в этом роде? Думаю, это последний…
Я бью его кулаком в кадык. Он заваливается назад, роняя мешок. Тварь в нем ворочается и извивается.
– Кто? – ору я ему. – Кто это сделал – ты или Уортроп? Или вы оба?
Он не может ответить. Я разбил ему дыхательное горло. Слезы боли и ужаса стекают по его лицу.
– Придумал все он, так ведь? – спрашиваю я. – Когда ты рассказал ему, что поймал тварь в Церрехоне. Ему нужна была вся слава – что же он оставил тебе?
Давясь звуками, он еле слышно сипит:
– Жизнь.
Я покачнулся, точно от удара. Плоская, а не круглая! Не мяч, а тарелка! И Михос, страж горизонта, сам рухнул с ее края.
Что-то в моем выражение лица заставляет его поднять руки, точно защищаясь; так маленький ребенок поднимает обе ручки, ожидая, когда на него наденут ночную рубашку. Я не обманываю его ожиданий: хватаю с пола живой мешок, переворачиваю его и напяливаю ему на голову вместе с содержимым. Извивающаяся тварь внутри наносит укус.
Акоста-Рохас взвизгивает; открытая нижняя часть его тела дергается и тут же костенеет. Его крики стихают, когда тварь сворачивается петлей вокруг его шеи. Она останется там до тех пор, пока жертва не задохнется; она еще не взрослая и не может проглотить человека целиком – пока.
Но я еще не закончил. Господь всемилостивый, разве я не человек в мискрокосме? Я выхватываю из кармана нож – щелк! – и возвращаюсь к Исааксону.
Он в сознании. При виде меня он выпучивает глаза.
– Уилл…?
– Ш-ш-ш, не спрашивай меня ни о чем, Сэмюэль, – шепчу я. – Есть вещи, на которые смертные не знают ответов.
– У меня не было выбора, – скулит он. В мольбе простирает ко мне руки. – Пожалуйста, Уилл. Я просто делал, что мне приказывали!
Ужасный грохот наверху сотрясает стены. Содрогается пол. Потолок трескается, проседает; с него летят камни и штукатурка: огонь дошел до газопровода. Гаснут рожки, погружая Монстрариум в непроглядную тьму. Исааксон воет так, словно и впрямь настал конец света. Я протягиваю вперед руку и хватаю его за воротник. Поднимаю. Он визжит, как свинья под ножом, – ждет последнего удара.
– Черт с вами со всеми, – рычу я ему в ухо. – С монстрами и с людьми. По мне, вы все одинаковые.
Здание над нами рушится; потолок вот-вот не выдержит; нам предстоит быть погребенными под тоннами бетона и мрамора. Выход только один – через канализацию, через слив в прозекторской. Акоста-Рохаса вел правильный инстинкт, вот только время он выбрал неудачное. Отшвырнув Исааксона, я, спотыкаясь, бегу по перекошенному полу: одна рука прикрывает голову, другая вытянута перед собой, нащупывает дорогу. Чувствую, как в мой пиджак впиваются сзади чьи-то пальцы: это Исааксон, он, как все посредственности, всегда найдет способ зацепиться за кого-нибудь и выплыть. Нет, не кроткие наследуют землю.
Слепой ведет слепого в брюхе погибающего чудовища, чьи кости с треском раскалываются на обломки и сыплются нам на головы. И надо же, чтобы единственным, кого я спас в тот день, кому оказал милосердие, был Сэмюэль Исааксон.
Остальные монстрологи погибли в пожаре, все до единого.
Но один-единственный все же выжил.

Глава вторая
И вот Земля совершила без малого семь тысяч оборотов, и крошки липнут к пузырящимся губам, а пряди сырых волос мотаются надо лбом.
Холод стискивает в объятиях, рука сжимает нож, выскребая им грязь из-под ногтей, охотник на чудовищ, учитель и его урок, причина и следствие сплелись в кольцо, у которого нет начала.
А еще запертая дверь и то, что за ней, неостывшие кости в баке для отходов, и мы, говорящие друг другу ложь, потому что правда невыносима.
Нет ни начала, ни конца, и ничего посередине. Время – ложь, мы – кольцо, а бесконечность – содержимое янтарного глаза.
Ты знаешь, что будет сейчас. Так неужели ты не отвернешься?
Конец всегда в начале.
Отвернуться или подойти посмотреть? Выбирай, делай свой выбор.
Я со стуком опускаю на стол нож. Уортроп вздрагивает, сидя на стуле, и отводит взгляд, когда я встаю. Он как будто съежился, превратился в точку: он – земля, а я – ракета, уносящаяся в космос. Я делаю шаг к двери в чулан. Он с отчаянным криком хватает меня за руку. Я выдергиваю ее. Я не знаю, что там, за дверью. Хотя, конечно, знаю.
Я нашел ее, Уилл Генри. Нашел ту самую тварь.
Я ударяю ногой в древнюю дверь – втрое старше Уортропа – и деревянное полотнище, удовлетворенно крякнув, раскалывается по всей длине, а за моей спиной монстролог вскрикивает так жалобно, как будто это его я расколол пополам. Голыми руками я срываю дверь с петель. Кислый, тошнотворный запах окатывает меня с головы до ног – это дыхание главной божественной ошибки, замурованной во льдах Джудекки, липкая вонь гниющей плоти той твари, той самой твари, как называет ее он.
Мои глаза привыкают к полумраку, к вечной тьме самой твари, только зачем он поднял пол? Да еще и покрасил его в мерцающий, обсидианово-черный цвет? Нет, это не пол, он шевелится. Он течет, как склизкая грязь, которая остается после мощного наводнения, когда схлынет вода. Он волнуется, и по нему идет блестящая рябь со вспышками павлиньего зеленого цвета.
И тут появляется голова: она не меньше пяти футов в поперечнике и совсем плоская, но живущий в ней древний мозг знает, для чего открывается дверь, и распахивает непристойно-беззубую пасть; я гляжу во влажную красную трубу ее глотки, как в огненную бездну, на дне которой ад, и не представляю, что мог бы увидеть свое отражение в ее лишенном век янтарном взоре. Мое тело заполнит ее пасть так же, как ее тело заполняет подвал. Но мощная голова с раскрытой красной пастью ложится на ступеньки, ведущие вниз, и не двигается: то ли от старости, то ли от того, что просто не пролезает в дверь; а может, над ней тяготеет какой-то запрет. Или она просто переросла свое вместилище. Но нет. Дело не в этом. Отраженный в ее янтарном взоре, я понял, что тварь потеряла смысл собственного бытия. Превратилась в скорлупу, в пустой мешок, у которого нет иной цели, кроме как прожить еще один пустой день.
– Ты должен понять меня, – бормотал за моей спиной ее близнец. – Ты понимаешь меня, Уилл? Не мог же я… Это же немыслимо… невозможно… Он ведь последний в своем роде. Последний!
– Он же погиб в Монстрариуме, – сказал я. Янтарный глаз по-прежнему завораживал.
– Нет. Я потом нашел его среди развалин. Тело Акоста-Рохаса спасло его от падающих обломков.
– Но вы же не сразу привезли его сюда.
– Нет, потом, когда ты уехал.
– И вы ничего мне не сказали.
– По той же причине, что и тогда. Он бесценен, и, чем меньше людей знают о нем, тем лучше – для них и для него, Уилл, для них и для него. Последний в своем роде! Когда Акоста-Рохас сказал мне, что нашел его…
– Да, да, – перебил его я, не в силах оторваться от янтарного глаза. – Он мне рассказывал. Вы вынудили его отдать находку вам – пригрозили, что убьете, если он не согласится.
– Нет! Я спас его… по крайней мере, пытался… так же, как пытался спасти Беатрис… и тебя…
– Меня? От чего? Хотя, неважно. Какая теперь разница? – Я содрогнулся от ненависти и омерзения, оставаясь пленником янтарного глаза. – Только на этот раз вам не отпереться, Уортроп. Я слышал все из его собственных уст. Вы предложили ему жизнь в обмен на находку.
– Я предложил ему спасение. Он был так глуп, что разболтал о своем трофее, и слухи достигли определенных кругов. Он испугался. А я испугался потери экземпляра. Его нельзя было потерять. Так разве у меня был выбор?
Я вырвался из плена и стремительно обернулся. В два шага пересек кухню. Схватил его за грудки, поднял в воздух; с грохотом упал стул. Уортроп почти ничего не весил, исхудал до костей, да и те были легки, как птичьи. Я мог бы отшвырнуть его на сто ярдов.
– Да! Кстати, о выборе. Она его видела? Вы поэтому ее убили? Чтобы она не разболтала о нем всему свету?
– Я не убивал ее! – завизжал он. – Эта нелепая женщина не совладала со своим любопытством – она открыла подвал и стала спускаться по лестнице. Она слишком далеко зашла, Уилл! Я вытащил ее буквально из его пасти, но было уже поздно. Поздно! Что мне было делать? Кому я мог рассказать? Нет, нет. Тут нет нашей вины, Уилл. Это она виновата. Это ее вина, только ее!
Я швырнул его на пол. Он свернулся калачиком; даже не пытался встать. Так нашли и его отца: он умер, свернувшись, точно зародыш в утробе матери. Кончил, как начал.
– Слишком поздно, – выдохнул я. Запах смерти наполнял комнату. Холод по-прежнему сжимал ее в своих объятиях. – Вы сказали, поздно. Поздно для чего?
– Выхода нет, – проскулил он. – Я не могу убить его – он последний в своем роде. Вернуть его в природу тоже не получится – с тварью таких размеров это просто невозможно.
– Вы можете его подарить. Есть сотни университетов…
– Нет! – выкрикнул он, ударяя кулаком по полу. – Никогда! Он мой! Он принадлежит мне!
– Вот как? – Я опустился рядом с ним на колени. Он лежал, опустив голову на сложенные руки. Глаза у него были большие и испуганные: так смотрит жертва, прячущаяся от охотника в кустах, или ребенок, которому не спится ночью. – Этот дом – тюрьма, но не для того, кто живет в подвале. Он вас уже проглотил.
– Та самая тварь, Уилл Генри. Та самая тварь! Та, на чей вопрос человек не знает ответа. Та, за которой я охотился много лет, которую ловил – пока она сама не поймала меня в ловушку!
Он схватил меня за запястье. Притянул к себе.
– Ты – тот, кто мне нужен. Ты всегда был тем, кто мне нужен. Ты видишь там, куда я боюсь даже смотреть. Ты – мои глаза в темноте. Так посмотри и скажи мне, что ты видишь.
Я кивнул. Кажется, я его понял. Я был его глазами. Что я видел? Пасть, раскрытую в ожидании. Белых ягнят с мечущимися черными глазками. И Сивиллу, проклятую своим даром. Чего ты хочешь?
Я поднял его с пола бережно, словно ребенка. Его свежевымытая голова прижалась к моему подбородку.
Он поднял руку и нежно коснулся моей щеки.
– Ты всегда был незаменим для меня.
Я поцеловал его сладко пахнущую макушку. Льды Джудекки треснули, сделались легче перышка. Творец дает прощение своей твари, а тварь отпускает грехи творцу.
Прощение существует. Как существует справедливость. И милосердие.
В самом конце и для них находится место.
Я спасу тебя. Я не буду стоять и смотреть, как ты тонешь.
А в конце спуска нас ждет тварь.
Я повернулся в последний раз и зашагал вниз по лестнице.
Глава третья
23 октября 1911Дорогой Уилл,Секретарь суда написал отчет, который я беру на себя смелость приложить к этому письму. Как видишь, в нем сказано, что пожар начался «по невыясненным, однако внушающим подозрение причинам». Глубоко сожалею, что не могу предложить тебе иного, более утешительного ответа, не только ради твоего, но также и ради моего собственного спокойствия. Мы с Пеллинором никогда не были особенно близкими друзьями, можно даже сказать, что мы вообще не были друзьями, но я всегда отдавал должное его уникальной натуре; осмелюсь сказать, что мир еще не скоро увидит гения подобного масштаба.На месте пожара я побывал дважды, второй раз специально для того, чтобы исполнить твою особую просьбу, и с сожалением сообщаю, что ничего такого, что можно сохранить, как память, на пепелище не нашлось. От дома осталась лишь печная труба. Уцелели вещи в сарае и в гараже, в том числе прекрасный старый автомобиль, к которому ты не проявил никакого интереса.Поминальная служба получилась очень трогательной, несмотря на то, что людей пришло совсем мало. Конечно, было бы гораздо приятнее разделить скорбь прощания с тобой, но я понимаю, что природа твоего бизнеса могла воспрепятствовать твоему личному присутствию на церемонии. Думаю, П. тоже понял бы.Единственное, о чем я не перестаю сожалеть, – только не подумай, будто я тебя в чем-то обвиняю, – это что ты так и не выбрался навестить его за последний месяц. Нет, вина целиком и полностью моя, ведь ты там. А я все это время был здесь, и теперь совесть будет вечно мучить меня за то, что я не колотил в его дверь до тех пор, пока он не открыл мне. Я так объясняю себе возникновение пожара: старый скряга не заплатил за электричество и вернулся к свечам и керосину, они и наделали беды.Возможно, когда работы у тебя станет поменьше, ты выкроишь немного времени и приедешь сюда, пройтись по старым местам. Все-таки ты не был у нас уже года два, а то и больше. Твой приезд повеселил бы мое старое сердце, и я лично попросил бы у тебя прощения за то, что не уберег того, кто был тебе так дорог.Всегда твой,Роберт МорганP. S. Если тебя в самом деле не интересует «Лозье», я освобожу тебя от него. Но не бесплатно! За разумную цену.
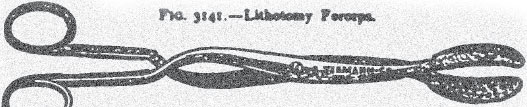
Глава четвертая
Вот мои секреты.
Иссохший старик.
Мальчик в потрепанной шапчонке.
И мужчина в запятнанном белом халате, чудовищный охотник за безымянными тварями.
Тот, кто меня благословил, и тот, кто меня проклял.
Тот, кто взрастил меня для того, чтобы я мог его прикончить.
Помни меня, сказал он. Когда все уже было прощено.
Я получил от него наследство. Он был одинок, и все, что имел, завещал мне.
Куда я отправился потом? Куда глаза глядят. Поски-тался по матушке-земле, утешительнице всех безутешных. Уехал из Штатов и оказался в Европе как раз, когда там пробудился монстр, упокоивший в своем огненном чреве тридцать семь миллионов душ. После войны купил домик на южном берегу Франции. Нанял местную девушку, которая готовила мне и стирала. Она была молодая и хорошенькая, возможно, я даже в нее влюбился.
Теплыми летними днями мы с ней ходили гулять по пляжу. Я любил океан. С его берега виден край света.
– Позволь спросить тебя, Эме. Мир круглый или плоский как тарелка?
Она смеялась и брала меня под руку. Думала, что это шутка.
Какое-то время я был счастлив.
Ее отец погиб под Верденом. Возлюбленный – на Сомме. Она повстречала другого и, когда он сделал ей предложение, просила, чтобы я отпустил ее замуж. Я дал согласие, хотя сердце мое было разбито. Когда она ушла, я не стал нанимать другую прислугу. Заколотил дом и вернулся в Штаты.
Сначала я остановился в Нью-Йорке. У меня сохранилась там квартира. Немного писал. Больше пил. Бродил по улицам. На месте сгоревшего оперного театра построили банк. Теперь там совсем другое общество. И другие правила охоты. Монстрология мертва, но все мы как были, так и остались монстрологами, и будем ими всегда. Днем меня часто можно было видеть в парке: одинокий мужчина на скамейке в окружении голубей – привычная картина. Ведь я по-прежнему сидел в стеклянной банке, я не перестал быть пленником янтарного глаза. Ты – моя память, повторял он мне одну бессонную ночь за другой. Так оно и было: я стал бессмертным, мешком, полным льда Джудекки.
Двадцатые годы двадцатого века закончились всеобщим банкротством, и однажды, открыв газету, я прочитал о самоубийстве человека, который прыгнул с Бруклинского моста. Его звали Натаниэль Бейтс. В заметке сообщалось также о месте и времени поминальной службы.
Бывалый охотник и следопыт, я решил, что она не заметит меня, но, когда гроб с телом ее отца опустили в землю, она меня все же увидела – я стоял за деревом. Прошли годы, она была уже не молода, но синева ее бездонных глаз оставалась беспримесно-чистой, как прежде.
– Уильям Джеймс Генри, – сказала она. – Нисколько не изменился.
– Я должен тебе кое-что сказать, – ответил я.
Высокий, широкоплечий мужчина посмотрел на нас от могилы. И нахмурился.
– Это твой муж? – спросил я у Лили.
– Последний. Обещай, что не станешь бить его под дых, потрошить или скармливать какой-нибудь твари.
– О, с этим покончено. Я давно перестал убивать людей.
– Как грустно ты это говоришь.
– Я не чудовище, Лили.
– Нет, ты больше похож на призрак. Пугающий, но бессильный. В чем дело?
– Какое дело?
– О котором ты хотел со мной поговорить.
– Ах, это. Да так. Ничего особенного.
– Помнится, ты еще сорок лет назад хотел поговорить со мной о чем-то – значит, все-таки что-то особенное.
Был чудный весенний день. Безоблачный. Нежаркий. Сикомор в дымке нежно-зеленых листочков. Мужчина у могилы следил за нами хмурым взглядом, но к нам не подходил.
– Как его зовут? Твоего последнего мужа?
Она ответила.
– Джеймс? – переспросил я, думая, что она не назвала его фамилию. – Как философ?
– Нет, Джеймс его второе имя.
– А. Значит, его родители восхищались обоими братьями.
– Какими братьями?
– Его брат писал романы.
– Чей брат?
– Того философа.
Она засмеялась – снова на серебряный поднос посыпались монеты.
– Пойдем куда-нибудь, – предложил я. – Выпьем.
Она перестала смеяться.
– Сейчас?
– Отпразднуем жизнь твоего отца.
– Но я не могу пойти с тобой сейчас.
– Ну, давай попозже. Вечером.
– Не могу.
– Почему нет? Он возражать не будет. – Кивок в сторону хмурого мужчины. – Я безобиден; ты же сама сказала. Безвредный призрак.
Она отвернулась. Ее профиль в тени сикомора был особенно очарователен.
– Не понимаю, зачем ты пришел сюда, – прошептала она, поднимая лицо к небу. Его синева померкла на фоне ее глаз.
– Я хотел тебе кое-что сказать.
– Так почему не говоришь и не уходишь?
Я вытащил из кармана старую фотографию. Увидев ее, она вдруг снова обрадовалась.
– Где ты ее взял?
– Ты сама дала ее мне. Не помнишь?
Она покачала головой.
– Какая я была толстая.
– Всего лишь детская припухлость. Ты тогда сказала – ты помнишь, что ты сказала? – «когда тебе будет одиноко».
– Правда? – И она опять засмеялась.
– И еще «на удачу». – Я убрал фотографию обратно в карман. Боялся, как бы она не забрала его у меня.
– Ну и как, помогло? – спросила она. – Принесло удачу?
– Она всегда со мной, – сказал я, имея в виду фотографию. – Он хороший человек? Не обижает тебя?
– Он меня любит, – сказала она.
– Если он когда-нибудь тебя обидит, приходи ко мне, я с ним разберусь.
Она покачала головой.
– Знаю я, как ты разбираешься.
– Я рад видеть тебя, Лили. Я боялся, вдруг тебя… не будет.
– С чего бы это?
– Я… нездоров.
– Ты болен?
– Заразной болезнью. Которая может передаваться с невиннейшими поцелуями.
– Ты это хотел мне сказать?
Я кивнул. Она сказала:
– Я здорова. Совершенно здорова.
Ее муж махал нам рукой. Я заметил, а она не обратила внимания.
Я сказал:
– Он мне нравится. У него хорошее лицо – не слишком красивое, но благородное. И имя у него приятное. Философ – писатель. Писатель – философ.
Она пристально посмотрела на меня. Может быть, я шучу?
Вдруг она поднялась на цыпочки и прижалась к моей щеке губами.
Самый невинный поцелуй.
Глава пятая
Вы знаете, кто я?
Незнакомец, что стоит за вами в очереди в кассу. Человек в поношенном пальто, которого вы видите, спеша по людной улице. Он спокойно сидит на скамье в парке, читает газету. Он двумя рядами позади вас в полупустом театре.
Вы не обращаете на него внимания.
Он бывалый охотник, и терпеливо сторожит свою добычу. Годы не в счет. Десятилетия проходят бесследно. Его добыча прячется в зеркалах. Она живет в одной десятитысячной доле дюйма от поля его зрения.
Это его секрет.
Он просыпается от тревожного сна, услышав свое имя. Кто-то зовет его. Он встает, шарит в темноте в поисках потрепанной шапчонки, которой нет рядом, хочет идти на зов, которого не было. Он – охотник, и он же – добыча. Козленок, привязанный к столбу.
Это его секрет.
Однажды – неважно, когда именно, – он оказывается на мосту через реку, – неважно, какую и где, – под ним течет черная, стремительная вода, на перилах каркают вороны; их целая стая, и все птицы смотрят на него черными пуговицами глаз, склоняя головы, чтобы лучше видеть поверх выдающихся клювов. Река несет свои воды к морю, солнце возвращает их к истокам: замкнутый круг. Вороны не спускают с него глаз. Словно застыв под прицелом их взглядов, он не решается вскарабкаться на перила. Чего ты хочешь? – спрашивают жесткие птичьи взгляды.
Появляется мальчик с ведром и удочкой. Он забрасывает наживку, и вороны отпускают человека, почуяв рыбу. По очереди они начинают подкрадываться к ведру, смешно, боком, подпрыгивая на ножках-палочках и хлопая время от времени черными крыльями. На мальчике потрепанная вязаная шапчонка на два размера меньше, чем нужно. У него веснушчатое лицо, светлая кожа, серьезная складка рта.
– Как улов? – спрашивает мужчина.
Мальчик пожимает плечами.
– Не жалуюсь. – На мужчину он не глядит. Его учили не разговаривать с незнакомцами.
– Хороший сегодня день для рыбалки, – продолжает мужчина.
Мальчик кивает. Он стоит, опершись на перила, и смотрит на поплавок в быстрой темной воде. Человеку приходит в голову, что он может вернуться на этот мост лет десять, а то и двадцать спустя, и снова увидеть мальчика с ведром и удочкой, и новое поколение ворон на перилах моста через реку, которая все так же будет нести свои воды к морю, а они – все так же возвращаться назад. И мальчик будет все тот же – изменятся только лицо и имя, – он стоит, удит рыбу, а вороны скачут у его босых ног, выпрашивая кусочек. Время – петля, а не прямая.
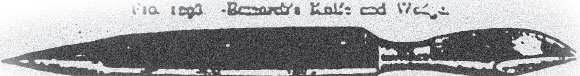
Мальчик еще много дней не идет из головы у мужчины. Веснушки, светлая кожа, серьезная складка рта, и поношенная шапчонка. Как-то раз он забредает в магазин подержанных вещей и видит там набор прекрасных старых гроссбухов в твердых кожаных переплетах. Бумага замечательного сливочного цвета, толстая и такая жесткая, что, когда страницы переворачивают, раздается рокот, словно где-то ворчит отдаленный гром. Тетради так нравятся ему, что он покупает их все и уносит домой.
Если бы он мог назвать то, у чего нет имени.
Дать вещи имя – значит получить власть над ней, как Адам в райском саду.
За того мальчика на мосту, думает человек, берясь за ручку. И за всех мальчиков, которые сотни лет, из поколения в поколение забрасывали удочки с моста в реку, надеясь поймать чудовищ, рыскающих в темной воде.
Это секрет.
…секрет…
…секрет…
…секрет…
Да, мое дорогое дитя, чудовища существуют.
Назад: Часть третья
Дальше: Эпилог

