Книга: Литературные сказки народов СССР
Назад: М. Е. Салтыков-Щедрин{132}
Дальше: Евгений Замятин{148}
Алексей Ремизов
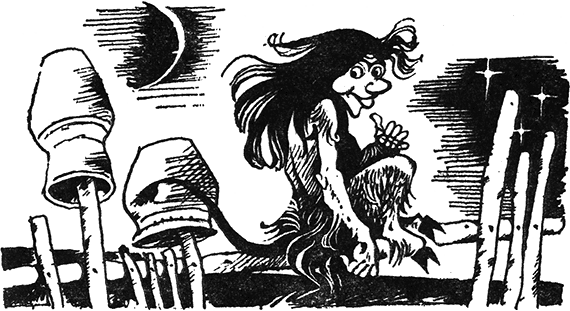
Кикимора
На петушке ворот, крутя курносым носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора уселась и чистит бережно свое копытце.
— Га! — прыснул тонкий голосок, — ха! ищи! а шапка вон на жерди… Хи-хи!.. хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намаяла я бока… Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула-мяукнула под поцелуи, хи!.. — Вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.
— Тьфу! ты, проклятая! — отплевывался прохожий.
— Га! ха-ха-ха! — И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять и до умору хохотать.
Зайчик Иванович
1
Жил человек, и у того человека было три дочери, — как одна, красавицы и шустрые, не знали они над собою страха.
Старшую звали Дарьей, середнюю Агафьей, а меньшую Марьей.
Изба их стояла у леса. А лес был такой огромадный, такой частый, — ни пройти, ни проехать.
Без умолку день-деньской шумел лес, а придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит лес грозно, волнуется.
Много страхов водилось в лесу, а сестрам любо: забегут куда — аукают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи.
Такие веселые, такие проворные, такие бесстрашные — Дарья, Агафья и Марья.
Как-то старшая Дарья мела избу, свалился с полки клубок, покатился клубок по полу, да и за дверь. Схватилась Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хворосту, привел в самую чащу и стал у берлоги.
А из берлоги Медведь тут как тут.
Как увидел Медведь Дарью, зубы оскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит:
— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.
Согласилась Дарья. Осталась у Медведя.
Вот живет она себе, поживает, ходит с Медведем по лесу, показывает ей Медведь разные диковины.
У Медведя терем. В терему три клетки.
Раскрыл Медведь первую клеть, а в ней серебро рекой льется. Раскрыл Медведь вторую клеть, а в ней живая вода ключом бьет.
Говорит Медведь Дарье:
— Третью клеть я не покажу тебе, и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.
Целый день нет Медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит.
Ходит Дарья у запретной клети, заглянуть смерть хочется.
А сторожит клеть Зайчик Иваныч.
Пробовала Дарья с Зайчиком Иванычем заговаривать, да отмалчивался бесхвостый, — хвостик Зайцу Медведь для приметы отъел, — отмалчивался Зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину.
И не раз вгорячах пхала Дарья Зайчика по чем ни попало, таскала за серебряные заячьи ушки. А отляжет сердце, примется целовать Зайца, а то и в пляс пустится. Зайчику — потеха, мяучит. И сам когда-то горазд был, да лапки уходились — не выходит.
Раз Зайчик Иваныч и прикурни на солнышке, заметила Дарья да в клеть. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась — в глазах помутнело: в огромной клети кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото, сунула она палец, и стал палец золотым.
Пришел Медведь, принес малины. Сели за стол. Пьют чай.
Медведь говорит Дарье:
— Что это, Дарья, у тебя палец-то золотой?
— Да так себе, — отвечает Дарья, — золотой сделался.
Тут Медведь из-за стола встал и съел Дарью, а косточки в угол бросил.
2
Тосковали сестры. Рыскали по лесу, по-птичьи кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала, — не слышит.
И год прошел, и другой прошел. Ни духу ни слуху.
Как-то середняя Агафья подметала избу, сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за клубком Агафья. Шла-шла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь — Медведь.
Стал на дыбы Медведь, щелкнул зубами и говорит Агафье:
— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.
Агафья и так и сяк, да ничего не поделаешь, осталась жить у Медведя.
Водил ее Медведь по лесу, деревья выворачивал, медом пичкал и всякие медвежьи шутки выкидывал.
У Медведя терем. В терему три клети.
Растворил Медведь клети. Глазела Агафья на серебро и живую воду.
— А третью клеть я не отворю тебе, — говорит Медведь, — и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.
Загрустила Агафья, ума не приложит, как бы так клеть посмотреть, чтобы Медведь не узнал. А тут этот Зайчик трется, глаз не сводит. Подходила Агафья к Зайчику Иванычу, щекотала ему малиновый ус, а Зайчик и в ус не дует: мяучит себе по-заячиному, ни слова путного.
Выбежал однажды Зайчик Иваныч на закат полюбоваться, а Агафья стук в клеть. Взглянула — остолбенела да в столбняке-то и ткни палец в золото, и стал палец золотым.
Охала и ахала Агафья: как быть, увидит Медведь — съест живьем. Побежала к Зайчику. Сидел Зайчик Иваныч, напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у Зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец.
Вот пришел Медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за стол.
— Что это у тебя, Агафья, с пальцем? — спрашивает Медведь.
— Ничего, — говорит Агафья, — набередила, вот и обвязала тряпочкой.
— Давай вылечу.
Поднялся Медведь, развязал тряпку. А под тряпкою золотой палец.
И съел Медведь Агафью, а косточки в угол бросил.
3
Убивалась Марья.
— Сестры, сестрицы мои родимые! — куковала Марья по-кукушечьи.
Только лес шумит, царь-лес!
Так год прошел и другой прошел. Нет сестер.
Как-то подметала Марья пол, скатился клубок и в лес. Шла Марья за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги.
Выскочил из берлоги Медведь, зарычал, ощетинился. Говорит Медведь Марье:
— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.
Не сразу далась Марья, заупрямилась. Диву дался Медведь и полюбил ее пуще всех сестер.
Ходит косматый по лесу, собирает цветы, венки плетет. А выйдет с Марьей гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берложные хитрости кажет. А то ляжет на спину, перекатывается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку медом вымазал.
У Медведя терем. В терему три клети.
Все показал Марье Медведь — и серебро и живую воду, а в третью клеть не повел.
— И ходить в эту клеть я тебе не велю, а не то я тебя съем.
— Съем! Съел один такой! — фыркнула Марья, а сама думает, как бы этак Медведя провести?
А Зайчик Иваныч ей глазом мигает. Зайчик Иваныч в Марье души не чаял.
Бывало, уйдет Медведь, а Марья к Зайчику:
— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, как мне быть, погибли сестры, погибну и я: заест меня Медведь.
А Зайчик Иваныч подопрется лапкою, лопочет что-то по-своему.
Так и проводили сны: сядут где на крылечке и сидят рядком, горе горюют.
Раз Зайчик Иваныч лучину щипал: самовар пить собирались.
Известно, примется Зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает, такая повадка у Зайчика.
Зайчик весь двор лучинкой закидал.
Марья пособляла Зайчику. И такая тоска на нее нашла, свету она невзвидела, пошли бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестер да с отчаяния туркнулась в запертую дверь. И ослепило ее золото, закружило голову. Да не сплоховала Марья: опустила лучинку в золото. А лучинка, как жар, горит.
— Сестры, сестрицы мои, мои родимые! — всплакнула Марья.
Запрятала Марья золотую лучинку в красный сафьяновый башмачок, отдала башмачок Зайчику. Пошел Зайчик в погреб за молоком да дорогой и сунул башмачок в свою старую норку.
Пришел Медведь. Сели брагу пить, все честь честью по-хорошему. И пошла жизнь по-прежнему.
4
Пораскидывал умом Зайчик Иваныч, горе горюя с Марьей на крылечке.
Раз и говорит Зайчик:
— Не умею я по-человечьему сказывать, а то бы сказал.
Тем разговор и кончился.
Бродит Марья по терему, плачет над костями сестер, заглядывает то в одну, то в другую клеть.
И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полон рот живой воды, вспрыснула сестрины кости. И встала перед ней Агафья — жива-живехонька.
Что делать, куда деваться? Марья к Зайчику, так и так, говорит.
— Хорошо, — говорит Зайчик, — сию минуту.
Взял Зайчик Агафью за руку да в дупло и запрятал, а сам ей принес туда груш да яблоков и всякого печенья. И дело с концом.
Пришел Медведь. Стал к Марье ластиться. А Марья и говорит:
— Рычун, мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу.
— А ты наперед скажи, что тебе сделать, а то ты, может, третью клеть посмотреть хочешь, так я тебя съем.
— Батя мой завтра именинник, хочу пирогов ему испечь, а ты снесешь.
— Это можно, пеки.
Обрадовалась Марья да опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто и, когда все было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами.
Говорит Агафье:
— Сядет Медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты и скажи: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».
Чуть только солнышко взошло, взвалил Медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу.
Полднем вздумалось Медведю поотдохнуть маленько, свалил он мешок наземь, стал развязывать.
— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — как закричит из мешка Агафья.
Вскочил Медведь, повел ухом.
«Ишь, — подумал, — и голос же у моей Марьи, все видит, и сесть тебе не полагается!..»
И пустился Медведь дальше. А как добежал до избы, шваркнул мешок у калитки да во все лопатки домой обратно.
Долго ли, коротко ли, ни много ни мало, а год, другой прошел.
Вспрыснула Марья сестрины кости. И встала перед вей Дарья жива-живехонька. Опять Марья к Зайчику. Запер Зайчик Марью в чулан.
А вечером Марья говорит Медведю:
— Мамушка моя именинница, испеку я ей пирогов в день ангела, снеси ты их, косолапушка.
А сама Дарье шепнула:
— Как рассядется Медведь, ты ему крикни: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».
Все так и случилось. Сел было Медведь посидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок и опять домой восвояси.
5
— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, что мне делать, не могу больше у Медведя жить, хочу к сестрицам!
А Зайчик Иваныч и рад бы что посоветовать Марье, да сказать-то ничего Зайчик не может. А уж так привязался, так привязался он к Марье, на шаг от себя не отпустит. Прямо влип.
Что наработал за долгую зиму, все Зайчик отдал Марье, какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марье. Летось к Медвежьему дяде за тридевять земель скакал, выпросил у старого хрустальную туфельку да жемчугов горстку, все Марье отдал.
Когда с весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала Зайчику Марья:
— Ну, Зайчик Иваныч, придумала! Уйду я от Медведя.
Зайчик насупился.
А Медведь вечером спрашивает Марью:
— Что ты, красавушка, что ты такая веселая?
— А как мне веселой не быть, батю с матушкой во сне видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Еще дрыхнуть ты будешь, я затворюсь в терему, подымусь на вышку, буду следить за тобой, а как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь, ты не зови меня, я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь.
Послушал Медведь, лег спать спозаранку. А Марья испекла пирогов, позвала Зайчика, сказала Зайчику:
— Прощай, Зайчик Иваныч, прощай, миленький!
Насупился Зайчик, не пускает Марью, уцепился лапками за передник, на глазах слезы.
И вдвоем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у Зайчика норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб Зайчиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна.
И плакал Зайчик Иваныч, и о каких-то лисятах поминал сквозь слезы… Он ли их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.
На рассвете юркнула Марья в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнес Зайчик Иваныч мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крылечке караул держать.
И когда Медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался Зайчик в свою старую норку, вынул из кованого ларчика красный сафьяновый башмачок, поставил к себе на столик и залился горькими слезами:
— Сестрицы, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние заячьи дня одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сестры, сестрицы мои родимые!
А Медведь шел, шел, задумал присесть, развязал мешок:
— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — закричала из-под пирогов Марья.
— Слышу, слышу! — рявкнул Медведь и во всю прыть дальше помчался.
А как добежал до калитки, шлепнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге.
Лев-зверь
Ехал богатырь по чистому полю, конь у него и пал. И пошел богатырь пешком на своих на двоих.
Видит богатырь: на дороге дерутся Змея и Лев-зверь, разбродили землю и ни который побить не может.
— Эй, богатырь, — кричит Змея, — пособи мне Льва-зверя победить!
— Эй, богатырь, — ревет Лев-зверь, — пособи мне Змею победить!
Подумал, подумал богатырь и решил заступиться за Льва-зверя. «Змея змеей и будет, нечего от нее ждать мне!»
И пособил богатырь Льву-зверю.
Бросил Лев-зверь Змею на землю, разорвал ее надвое.
Убили Змею.
Лев-зверь спрашивает богатыря:
— Что тебе, богатырь, за услугу хочется?
— У меня коня нет, — говорит богатырь, — а пешком я на своих на двоих не привык ходить, подвези меня до города.
— Садись да, знай, держись крепче, — согласился Лев-зверь.
Сел богатырь на Льва-зверя, и побежал Лев-зверь по чистому полю, по темному лесу, — где высоки горы, где глубоки ручьи, — все через катит.
Выбежал Лев-зверь на зеленые луга и у заставы стал.
— Никому не сказывай, что на Льве-звере ехал, — говорит Лев-зверь, — не то съем. Я сам — царь! На себе возить мне людей невозможно. Я тогда и царем не буду.
И пошел Лев-зверь в чистое поле, а богатырь в город.
* * *
Пришел богатырь к товарищам, а те над ним смеются, что пешком ходит.
Богатырь отпираться:
— Конь, — говорит, — пал.
А потом как выпил да стал пьян-весел, и рассказал, как было:
как он на самом Льве-звере приехал!
Посидел богатырь с товарищами и пошел себе коня искать.
И только это вышел он за город, а Лев-зверь тут как тут:
бежит Лев-зверь к богатырю,
пасть открыта, зубы оскалил.
— Зачем ты, — говорит, — похвастал, что на мне ехал? Говорил я тебе, ты не послушал, съем!
— Извини, — говорит богатырь, — я тобою не хвастал.
— Как так не хвастал! Да ты же говорил, что на Льве-звере ехал!
— Нет, Лев-зверь, говорил, да не я, хмель говорил.
— Какой хмель?
— А вот попробуй, так и сам увидишь.
Лев-зверь согласился.
Выкатил богатырь вина три бочки сороковых.
Лев-зверь бочку выпил, другую выпил, а из третьей только попробовал и стал пьян:
уж бегал-бегал, бегал-бегал, упал
и заснул.
А богатырь, пока Лев-зверь пьяным делом-то валялся, вкопал в землю столб да туда на самую вышку и поднял Льва-зверя.
* * *
Проснулся Лев-зверь, очухался, — диву дается:
и как это его угораздило на такую
высоту поднялся, а главное дело —
спуститься не может.
— Вишь ты, хмель-то куда тебя занес! — говорит богатырь, — что, узнал теперь, каков этот хмель?
— Узнал, узнал, — сдается на все Лев-зверь, — только спусти, пожалуйста, а то чего доброго еще сорвусь да и неловко: народу сколько!
Снял богатырь Льва-зверя.
И побежал Лев-зверь в чистое поле: будет хмель помнить, — срам-то какой!
Горе злосчастное
Жили два брата, один бедный брат, другой богатый. Бедного звали Иваном, богатого — Степаном.
У богатого Степана родился сын.
Позвал Степан на крестины знакомых, приятелей, да и бедного брата не забыл, позвал и Ивана.
Справили честь честью крестины, напились, наелись гости, пьяны все, веселы, все довольны.
Напился и брат Иван.
Идет Иван домой пьяный от Степана, пьяный, затянул бедняк песню.
Поет песню, знать ничего не хочет, не желает! — и вдруг слышит, ровно ему подпевает кто тоненько, да так, тоненьким голоском, да и жалобно так, что дитё.
Оборвал Иван песню, стал, прислушался.
Да нет, ничего не слышит, нет никого, —
или и тот замолчал?
— Кто там? — окликнул бедняк.
— Я.
— Кто «я»?
— Нужда твоя, горе — горе злосчастное.
Затаращился Иван, хвать — стоит…
старушонка стоит, крохотная, от земли не
видать, сморщенная, ой, серая, в лохмотьях,
рваная, да плаксивая, жалость берет.
— Ну, чего? — посмотрел Иван, посмотрел, — чего тебе зря топтаться, садись ко мне в карман, домой унесу.
Закивала старушонка, заморгала, ощерилась, — обрадовалась! — да в карман Ивану скок и вскочила, да на самое дно.
Тут Иван захватил рукой карман, перевязал покрепче.
— Не выскочит!
И пошел и пошел, песню запел.
Поет песню Иван — пьяным-пьяно-пьян.
И она в кармане его там, старушонка тощая, нужда его, горе его, горе злосчастное — и тепло же ей, и покойно ей! — в кармане его там подпевает ему тоненько, да так, тоненьким голоском, жалобно так, что дитё.
Еле-еле дотащился до дому Иван, развезло, разморило его.
И прямо завалился спать, захрапел и забыл все, все таковское, горе свое злосчастное, нужду.
А она сидит у него, — она ничего не забыла, она никогда ничего не забудет! — согрелась в теплушке, старушонка дырявая, согрелась, морщинки расправляет, щерится:
погулять ей завтра, попотешиться, развеселит
она товарища пьянчужку пьяницу, беднягу
своего злосчастного.
— Миленький! Миленькой мой, ай! — щерится, лебезит паскудная.
Очухался наутро Иван, поднялся, да как вспомнит про вчерашнюю находку свою, что в кармане сидит за узлом, и скорее на выдумки:
как бы так изловчиться, от товарища
от таковского навсегда избавиться.
Думал себе, думал Иван и надумался.
Достал бедняк дерева, взялся делать гробик.
— Что это ты делаешь? — увидала, спрашивает жена.
— Молчи, нужду поймал, злосчастье наше, а схороним нужду, заживем хорошо.
И сделал Иван гробик, выстлал гробик соломой, развязал карман, запустил тихонько руку, поймал старушонку, поймал да в гробик ее на сено.
— Ничего, бабушка, ничего, тут поспокойнее будет!
Да хлоп крышку, прижал кулаком.
А жена уж и гвоздики держит.
И забили вместе гробик — горе, злосчастье свое, нужду:
ей теперь совсем покойно, и! — никто тебя
в гробу не тронет.
Завязал Иван в платок гробик, подхватил под мышку и на кладбище.
Там вырыл могилку у дядиной могилы, спустил гробик, закопал могилу и домой налегке.
«Баба с воза, кобыле легче! Довольно, помыкался, будет уж, много я обид стерпел, ну, вот и избыл нужду, теперь повалит мне счастье!»
Идет Иван с кладбища, свистит, сам с собой разговаривает, и легко ему, способно идти
— нет горя злосчастного, нет нужды,
в могиле старая, не выскочит, не пристанет
старушонка плаксивая!
Глядь, а на дороге что-то поблескивает.
Нагнулся Иван, — а на земле золотой, сто рублей — золотой.
Вот оно где счастье!
Поднял Иван золотой и прямым путем на ярмарку.
Купил себе корову, купил коня и уж с коровой и конем в дом — к жене с гостинцами.
И зажил Иван хорошо — копейка к копейке идет. Стал Иван деньгу наживать.
И сделался скоро богатым, богатей своего брата, богатого Степана.
* * *
Слышит богатый брат Степан, что перемена в делах у брата, и позавидовал Степан Ивану.
Пришел Степан в гости к брату, говорит Ивану:
— Давно ли ты, Иван, жил бедно? Объясни мне, сделай милость, отчего все так вышло, ты лучше меня зажил?
А Иван — теперь ему легко без нужды, осматриваться-то нечего, ему и невдомек совсем, что на мыслях у брата, да все начистоту брату и выложил о старушонке, о бывшем горе своем злосчастном, о нужде, которую заколотил в гроб накрепко.
— У могилы дядиной на кладбище могилу выкопал, похоронил старушонку, не вылезет! — весело, беззаботно говорил Иван Степану.
Слушал Степан счастливого брата, ничего не сказал и пошел, не домой пошел, а на кладбище, к могиле дядиной.
И там, на кладбище, откопал гробик старухин, крышку открыл, выпустил старуху.
— Поди, — говорит, — бабушка, на старое место к брату Ивану.
А она, — ой, исхудала как, еще жальче стала, чернее еще, все-то волосы повылезли — один голый толкачик торчит, вся одежда сотлела…
— Не пойду я к Ивану, — пищит старушонка, ежится, — еще сшутит шутку Иван, шалый! В гробу-то лежать не сладко: не повернись, не подожмись, отлежала всю спину, руки-ноги омлели. Ты, Степан, ты добрый, ты меня ископал на волю, пойду-ка я к тебе, Иваныч!
Да на плечи к Степану как вскочит.
Степан заступ наземь, бежать.
Бежит с кладбища, а она на плечах у него, старушонка лысая, пищит ему в уши:
— Ты добрый, Иваныч, кормилец, освободил ты меня из ямы, вывел на волю, на свет божий, уж отдышусь у тебя, поправлюсь, и заживем, эх, Иваныч, дружно, милый, Степан Иваныч, миленький, миленький мой, ау!
Без ума вломился Степан к себе в избу, трясет головой.
А старушонка скок с плеч да на печку, с печки за печку, в тараканью норку забилась, сидит — у! проклятая! — дышит.
— Я тут, — пищит старушонка, — здравствуй, Иваныч!
Степан туда-сюда, а нет ее нигде, нет старушонки, не видит.
Рассказал жене, вместе искать принялись, шарили, шарили и так и с огнем, а нет нигде старушонки.
Да, нет, конечно, нет старушонки.
Затушили огонь и спокойно легли спать.
А в ночь сгорел дом, и много денег пропало, едва сами выскочили, едва вынесли сына.
Вот она где беда!
Кое-как в уцелевшем амбаре примостился Степан с женою.
«Ну, — думает, — теперь довольно, будет сыта, проклятая, эх, горе мое!»
А она и в амбаре, ей у Степана вольготно, куда хочет идет:
все выест, все на дым спустит, сам откопал,
сам на свой век несчастный.
Пал у Степана конь, пала корова. Дальше да больше, все в провод, все в проед.
Собрал Степан последние, оставались еще кое-какие деньжонки, да на последние и купил коня.
Без коня какое хозяйство, конь — первое дело.
Купил Степан коня, а привел домой, — кобыла оказалась.
Вот она где беда!
Заела Степана нужда, а с нуждой пошла незадача, вот куда зашла ему нужда!
«И зачем было выкапывать ее, старушонку, нужду прожорливую, позавидовал, на брата напустить хотел, позавидовал, и что взял?»
Вот она где беда!
* * *
Приходит к Степану брат Иван.
— Что это, брат Степан, что так бедно у тебя?
— Да что, брат, беда: беда за бедой.
Пожалел Иван брата, потужил с братом.
Пришло время домой уходить, стал прощаться Иван, а Степан ему в ноги.
— Прости, — говорит, — меня, грешного, выкопал я твою старушонку-нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла, позавидовал я!
— Так вот отчего ты беден так!
— Забралась она в дом и везде прошла — и к скоту и в деньги, что поделаешь, прости меня, Иван!
Вынул Иван полный кошель, высыпал на стол все до копейки и говорит:
— Деньги мои, а кошель твой будет, и хоть пустой, да не с нуждой.
А она услышала, старушонка-то, горе, горе злосчастное, нужда, да как выскочит из щелки да бух в кошель.
— Я и здесь есть! — пищит, — я и здесь есть!
Тут Иван взял да концы у кошеля и задернул.
— Ты и тут есть, ну, так и сиди!
Завязал концы крепко, привязал к кошелю камень, да с богом на речку.
Притащили братья кошель к речке, там пустили его на воду.
И пошел кошель ко дну, потопили нужду-старушонку.
И зажили оба богато.
Скоморох
Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать.
И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали,
какой никто не слыхивал:
«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»
Полцарства и царевну!
Да этакой сказки сказать никто не находится.
А был у царя ухарец — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов! — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке.
Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.
— Что ж, Лексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — подымают на смех, гогочут.
Подзадорили скомороха царской наградой:
была не была, хоть шубе на рыбьем меху,
да уж впору ему царю сказку сказывать.
* * *
Приходит из кабака скоморох к царю во дворец:
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.
Всполошились царские слуги, собрались все малюты скурлатые, вышла и царская дочь — Лисава, царевна прекрасная.
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.
А как был у меня батюшка —
богатого живота человек;
и он состроил себе дом,
там голуби по крыше ходили,
с неба звезды клевали;
у дома был двор —
от ворот до ворот
летом меженным днем,
голубь не мог перелетывать —
Слыхали ли этакую сказку?
— Нет, не слыхал, — сказал царь.
— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.
Потупилась царевна Лисава прекрасная.
— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра, по вечеру.
Встал скоморох и ушел.
* * *
День не видали скомороха на улице, не сидел скоморох в кабаке.
Вечером явился к царю.
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.
И опять собрались все скурлатые, вышла и царевна, Лисава прекрасная.
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.
А как был у меня батюшка —
богатого живота человек;
и он состроил себе дом,
там голуби на крыше ходили,
с неба звезды клевали;
у дома был двор —
от ворот до ворот
летом меженным днем,
голубь не мог перелетывать;
и на этом дворе был вырощен бык:
на одном рогу сидел пастух,
на другом — другой,
в трубы трубят
и в роги играют,
а друг другу лица не видно
и голоса не слышно —
— Слыхали вы такую сказку?
— Нет, не слыхал, — сказал царь.
— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.
Вспыхнула царевна Лисава прекрасная.
— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая!
Шапку взял да и за дверь.
Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам:
— Что, мои верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.
— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.
Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались,
что слыхана сказка, все ее слышали.
Тем дело и кончилось.
* * *
С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.
— Что ж, Лексей, — подзадоривала голь, — полцарства и царскую дочь?
— Не допустят! — каркала кабацкая голь.
В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить-накормить, я вам буду сказки сказывать.
А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили:
так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, —
хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей.
Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная.
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.
А как был у меня батюшка —
богатого живота человек;
он состроил себе дом,
там голуби по крыше ходили,
с неба звезды клевали;
у дома был двор —
от ворот до ворот
летом меженным днем,
голубь не мог перелетывать;
и на этом дворе
был вырощен бык:
на одном рогу сидел пастух,
на другом — другой,
в трубы трубят
и в роги играют,
а друг другу лица не видно
и голоса не слышно;
и была еще на дворе кобылица:
по три жеребят в сутки носила,
все третьяков-трехгодовалых;
и жил он в ту пору весьма богато;
и ты, наш великий царь,
занял у него
сорок тысяч денег —
— Слыхали ли этакую сказку?
— Слыхал, — сказал царь.
— Слыхали! — гаркнули скурлатые.
— Слыхали? — сказал скоморох, — а ведь царь до сих пор денег мне не отдает!
И видит царь, дело нехорошее:
либо полцарства и царевну давай,
либо сорок тысяч денег выкладывай.
И велит скурлатам денег сундук притащить.
Притащили скурлаты сундук.
— На, бери, — сказал царь, — твое золото.
Поклонился скоморох царю,
поклонился царевне,
поклонился народу.
— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без отдарка!
И пошел в кабак с песнями.
А царевна Лисава прекрасная стоит бела, что березка белая.
Потихоньку, скоморохи, играйте,
потихоньку, веселые, играйте,
у меня головушка болит,
у меня сердце щемит!
Медведчик
Шел медведчик большой дорогой, вел медведей.
С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога насладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи медвежью душу.
За Филиппов пост наголодался медведчик, нахолодался.
Плохо нынче скомороху!
И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрутся, и скомороха не надо.
Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, позднее время!
А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик хозяина пустить на ночлег.
А хозяин и слышать не хочет.
Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту на дворах. И была хозяину грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки.
Вот хозяин, кто б ни попросился, всем и отказывал.
— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю: обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.
А работник и говорит:
— Хозяин, — говорит, — отведу я их в баню: в предмыльник поставят медведёв, а сами в бане.
Уперся хозяин: и то и другое, и неудобно, и что губернаторские кони услышат медвежий запах, и будут пугаться.
А уж ночь охватывает, ночь — звезды, крепкий мороз.
Просит медведчик: медведей ему жалко — звезды, как льдинки, горят, крепкий мороз!
Ну, хозяин и согласился.
— Отведи их в баню с медведями, — сказал работнику, — да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!
Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.
* * *
Остался медведчик с медведями в бане.
И тепло ему и медведям тепло, да все неспокойно — и сам не спит, и медведи не спят:
Миша лапу сосет, а медведица Акулина
ноздрями посвистывает.
Не мертво, никак не уснуть: то Акулину погладит, то Мишу потреплет.
О чем медведица думала, невдомек медведчику, только недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла?
Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню пчелок поломать! — охотник был до меда медведь, лапу сосал.

Встал медведчик, потрепал лапы, потрогал медвежьи уши.
«Постой, — подумал, — прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»
— Мать сыра земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Акулине.
Мать, сыра земля,
ты железу мать,
а ты, железо,
поди в свою матерь землю,
а ты, дерево,
поди во свою матерь дерево,
а вы, перья,
подите в свою матерь птицу,
а ты, птица,
полети в небо,
а ты, клей,
побеги в рыбу,
а ты, рыба,
поплыви в море,
а медведю Мише,
медведице Акулине
было бы просторно по всей земле!
Железо, уклад, сталь, медь,
на медведя Мишу,
на медведицу Акулину
не ходите,
воротитесь ушьми и боками!
Как метелица
не может летать прямо
и приставать близко
ко всякому древу,
так бы всем вам не мочно
ни прямо, ни тяжко падать
на медведя Мишу,
на медведицу Акулину!
Как у мельницы
жернова вертятся,
так бы железо, уклад,
сталь и медь
вертелись бы круг
медведя Миши,
медведицы Акулины,
а в них не попадали!
А тело бы медвежье
было не окровавлено,
душа не осквернена;
а будет мой приговор
крепок и долог.
И только что медведчик заговор кончил, слышит, колокольчик у ворот брякнул, — да все резче и громче.
* * *
Слышит работник, звонят у ворот, поднялся.
И хозяин поднялся, тоже услышал.
— Беги, — говорит, — скорей, отворяй!
Работник к воротам, отворил калитку посмотреть, а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер, да к хозяину.
А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали ворота, да в дом.
И сейчас же — овса, сена коням, а себе вина и закуски.
Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается угодить гостям:
и вина и хлеба-соли полон стол наставил.
А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!
— Довольно, — говорят, — тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно!
Да за сундук и взялись.
Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику:
помощи попросить медведями.
Работник в баню к медведчику, рассказал медведчику, какая беда у хозяина.
Мигнул медведчик Мише, мигнул Акулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.
Акулина сердитей и сильнее Миши, — велел ей медведчик в дом идти и управляться, насколько есть мочи, — да чтобы маху не давала.
А Мише приказал в сенях ждать.
— Случаем тронутся утекать молодцы, — сказал медведчик, — маклашку давать им немилосердную!
Поклонились медведи медведчику:
рады, дескать, приказание исполнить!
Стал Миша в сенях.
Поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.
А разбойники деньги все обобрали и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали.
Да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня! — от страха так и ужаснулись.
Ну, Акулина не робкая, не заробела, давай их ломать во все свои силы —
кому руку прочь, кому ногу прочь,
кому черепанку взлупила.
Разбойники за ножи, а нож не берет —
погнулись в кольцо ножи,
невредима медведица.
Видят, не сладить, и давай уходить.
А Миша в дверях.
И кто в сени выскочил, так тут и пал.
Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.
— Собакам собачья честь! — сказал хозяин, забрал себе двенадцать разбойничьих коней и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.
А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей.
До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.
Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда — не настоящая.
Жулики
Ходил вор Васька по Петербургу:
было ему на роду написано и богом
указано воровать.
Начал Васька сызмала, и хорошо ему воровство далось, развернулся и пошел вовсю:
где лавку пошарит, где магазин почистит,
и капиталами не брезговал.
Ваську Неменяева все сыщики уважали.
Идет Васька по Миллионной, несут покойника.
А за гробом человек десять молодцов с дубинами, бьют в гробу покойника.
— Что такое, за что бьете? — остановил Васька.
— Должен много, за то его так и провожают, — ответили вору.
— Оставьте, — сказал Васька, — не троньте покойника, я за все заплачу.
Обратил народ внимание, бросили дубинки, пошли за Васькой.
И всех до одного расчитал Васька, как следует, — публика осталась довольна.
* * *
Сидит Васька у себя на Фонтанке, пьет вино бокал за бокалом.
Пьет Васька, попивает и не заметил, как усидел четверть, — и хоть бы что, ни в одном глазе: крепкий.
Хозяйка доклад делает: человек какой-то спрашивает, видеть вора хочет.
Велел Васька пустить гостя.
А тот, как стал на пороге, так и стоит, зяблый, щербатый такой, в драном сером кафтанишке, не садится.
— Нельзя ли, — говорит, — мне ночевать, ночлегу нету.
— Чей и откуда? — спрашивает Васька.
— Мы деревенский вор Ванька, воровать в деревне нечего, в Петербург пришли, где денег больше.
— А мы городской вор Васька Неменяев.
Ну, вор на вора не доказчик, признались, выпили и стали друг с другом тайный совет держать:
куда воровать идти.
— А что тебе тут знакомо? — спросил деревенский вор Ванька приятеля Ваську.
Васька и давай ему рассказывать: у такого-то купца денег много, а у этакого еще боле, в одном месте еще больше, а в этаком и счет потеряешь, перебрал купцов со всех улиц, и с Сенной, и с Гостиного, и апраксинских, и александровских.
— Не годится купца обижать, — говорит Ванька, — а лучше вот что: пойдем-ка в царский банк, возьмем денег, сколько надо.
Поднялись воры спозаранку, наняли чухонскую телегу и поехали, пока что, с похмелья поразмяться.
Ехали почтовым трактом, выбирали, где пристать лучше.
За Озерками выпрягли воры лошадь, сами сели под елку, развели огонек, закусили и сидят себе, о воровском деле рассуждают.
И вдруг, как зарычит над ними с елки птица — попугай-птица!
Васька за лук:
натягивает тугой лук, полагает калену
стрелу, пускает в птицу.
Не упала птица с елки, обронила железные ключи.
— Ключи нам и нужны, — подхватил ключи Ванька, — а ты нам вовсе не нужна, лети, куда знаешь!
Вечером вернулись воры с находкой на Фонтанку, поужинали и — на работу.
* * *
В полночь приходят воры к царскому банку:
у калитки крепкий караул дежурит.
— Нельзя ли отворить калитку! — подступил к караулу Ванька.
А стражи человек двадцать и на всякого по ста рублей просят.
Выдал Ванька деньги.
Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.
Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась у шара резиновая лестница.
Поднялись они по лестнице, взял Ванька мел-камень, обкружил дыру на крыше — и открылся ход.
— Ты подержи бечевку, а я спущусь, — сказал Ванька приятелю и полез в банк.
И в банке Ванька недолго копошился, отпер попугайным ключом шкап, забрал денег, сколько влезло, и опять на крышу.
Мел на крыше стер — срослась по старому крыша чисто.
И стали спускаться.
Спустились воры наземь, свернули лестницу в шар, да к калитке.
Пропустила их стража.
И пошли они к себе на Фонтанку, делить деньги.
Васька и говорит:
— В Петербурге я вор первый и все сыщики меня уважают, только до этакого дела я своим умом не дошел бы.
— Пойдем завтра, царь банк пополнит, — сказал Ванька.
И опять снарядились воры на работу. Опять в полночь приходят они к царскому банку.
А стража уже другая, ту царь сменил, хитрая, не сдается.
— Без того, — говорят, — мы вас не пустим, по двести рублей надо.
Выдал Ванька деньги.
Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.
Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница.
Поднялись они по лестнице, омелил Ванька круг на крыше — и открылся ход.
— Вчера я, сегодня ты иди, — сказал Ванька и стал спускать приятеля на бечевке в банк.
А уж там догадались, и приготовлен был чан с варом.
Ванька бечевку ослабил, Васька туда и попал, в этот вар.
И сидит по плечи в вару, никак высвободиться не может.
Видит Ванька, дело плохо, прикрепил бечевку, полез за Васькой.
И так, и сяк, и туда повернет, и сюда повернет, вертел, вертел, — не может снять приятеля.
Взял да и снес ему голову.
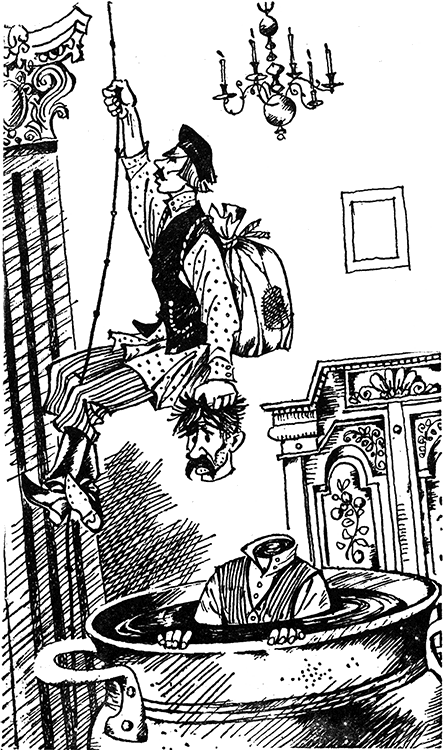
Да с головою на крышу, мел стер, бросил лестницу наземь, спустился.
Отворила стража калитку, вышел Ванька на улицу и прямо на Фонтанку к Васькиной хозяйке.
Схохонулась Маруха:
— Где, — говорит, — мой вор, Васька Неменяев?
— Голова его тут, а его самого нету, поминай как звали! — ответил Ванька.
Достал у Марухи Ванька банку с вареньем, умял варенье, Васькину голову в середку всунул, завязал банку, поставил банку в уголок под образы для сохранности и стал ждать, что будет.
* * *
А в царском банке о ту пору поднялась тревога:
пошел царь банк проверять и видит,
в чану с варом, около шкапа, тулово
торчит при часах и цепочке.
Взяло царя раздумье:
«Что это за вор — одно тулово при часах и цепочке?»
И велит царь привести к себе старого вора — сидел на Выборской в Крестах старый вор Самоваров.
Привели Самоварова к царю из тюрьмы.
Царь говорит Самоварову:
— Что, старый вор, старинный, можешь ты знать, кто ограбил банк?
— Был вор не простой, — ответил старик, — был вор деревенский. Городской вор глупый, он и в вар попал — его тулово.
— А как бы деревенского вора найти? — спрашивает царь.
— Деревенский вор в Петербурге, — учит старый вор Самоваров, — если он украл деньги, унес он и голову, унес голову, унесет и тулово. Вези ты чан на площадь, прикажи двенадцати генералам караулить тулово, ловить деревенского вора.
* * *
Как сказал старый вор, так царь и сделал.
Повезли тулово на площадь, погнали двенадцать генералов караул держать, ловить деревенского вора.
Три дня стоит чан на Суворовской площади, — в чану тулово при часах и цепочке, круг чана генералы ходят, караулят тулово.
Три дня Ванька околачивается на Суворовской — подступиться нет возможности.
На четвертый день догадался Ванька: покупает Ванька бочку вина и прямиком на площадь.
Подъехал он к тулову да и сковырни бочку наземь, будто нечаянно.
Потекло вино, орет Ванька:
— Пособите, товарищи, поднять, добро пропадает!
Жаль добра, — генералы и давай подымать бочку, всем миром понадсели, да с божьей помощью и взвалили ее на телегу.
Крепко уморились.
Ванька отблагодарить хочет, цедит вина, потчует генералов.
Сначала-то генералы отпирались, ну, а потом согласились, чтобы только подкрепиться и мужика не обидеть.
Выпили они по одной — зашумело в голове, просят по другой.
Ванька поднес по другой — загудело у них в голове, просят по третьей.
А уж после третьей на разные голоса запели, вот как!
Ванька сейчас бочку наземь, чан с туловом на телегу, да и был таков.
А приятель-то Васька сильно облип весь, в вару-то стоя, обмочалилось его тулово, на чем только часы и цепочка держатся, и узнать нельзя, — одна труха.
Приехал Ванька на Фонтанку, вытащил тулово, будто тушу, омелил у тулова шею, вынул из банки голову, приставил голову к тулову.
И срослась голова по-старому.
Взялся Ванька за попугайные ключи, поднес к Васькиным губам.
И ощерился Васька.
— Ну, — говорит, — чуть не захлебнулся, больно сладко.
Тут на радостях Ванька пустился то да сё, и как Васька в вару завяз, и как на Суворовской площади три дня без головы своим туловом народ пугал, и как потом все срослось по-старому.
За рассказом, за беседою выпили.
Васька, знай, все облизывался.
За выпивкой задремали. И пошел храп на всю Фонтанку улицу.
* * *
А на площади тем временем поднялась тревога: поехал царь проверять караулы, смотрит, на площади лежат генералы влежку круг бочки, мертвецки пьяны, — нет ни чана, ни тулова.
Царь вне себя:
— Куда, — говорит, — девалось тулово? На что, — говорит, — вы поставлены: бочку с вином стеречь? Где тулово? Подать сюда тулово!
Повскакали генералы, — а ноги-то уж не держат! — упали генералы царю в ноги.
— Не вино нас винит, винит нас пьянство. Куда хочешь клади нас, а тулово с варом потеряно, увезено с площади, неизвестно кем!
Велел царь казнить генералов. И опять потребовал к себе с Выборской старого вора Самоварова.
Привели Самоварова из темницы к царю, поставили перед царем.
— Ну, старый, — спрашивает царь, — рассуди наше дело, как словить вора: приезжал вор на площадь, увез чан с туловом.
— А вот как, — учит старый вор Самоваров, — обряди ты своего именного козла в парчовую одежду, да пошли за караул твоих самых верных телохранителей, и пусть они ведут козла на серебряной цепочке по Петербургу: если вор в городе, обдерет он козла, как пить даст.
* * *
Как сказал старый вор, так царь и сделал.
Обрядили в парчу именного козла, повели козла царские телохранители на серебряной цепочке по Петербургу.
Ведут козла по Невскому, а вор Ванька навстречу, кланяется:
— Пожалуйте, — говорит, — ко мне на Фонтанку, жена у меня Маруха именинница, охота ей именного козла посмотреть в день ангела, глупая баба, осчастливьте, сделайте милость!
«Уж не это ли сам вор деревенский?» — думают себе телохранители.
И повернули козла на Фонтанку, да с козлом к Ваньке, будто в гости.
А Ванька и говорит:
— Что это вы скотину-то понапрасну мучаете; поставьте-ка козла в сарай, у нас во дворе сарай теплый.
Упираются телохранители: боятся козла из рук выпускать.
Да раздумались:
«Что, в самом деле, скотину понапрасну мучить, козла не убудет, а вор от нас не уйдет, скот надо миловать!»
И поставили телохранители козла в сарай, сарай на замок замкнули, ключ главному на эполету повесили.
Тут давай Ванька угощать гостей:
и подарки-то им подносить и вином-то
их поить, и словами улещает.
А как размякли гости, оставил их Ванька на Ваську — пускай зубоскалит, — а сам будто в квасную за папиросами.
И пока зубоскалил приятель с телохранителями, прибежал Ванька к сараю, отпер попугайным ключом теплый сарай, ободрал козла догола, придушил козла да на кухню.
И подносит гостям на блюде именную козлятину, вареньем обложена:
— Покушайте, любезные гости, козлятины, самая свежая!
Едят гости именную козлятину, брусничным вареньем закусывают, а сами себе думают:
«Ну, уж теперь вору не уйти от нас, он самый и есть вор деревенский, попался голубчик!»
Да на радостях и приналегли на козлятину, да на радостях и расхвастались:
кто что, да кто как, и о всяких знаках
отличия.
Пришло время прощаться, расходиться пора, о козле они и не спрашивают, вышли вон на улицу, да на Ванькиных воротах мелом и написали:
Мы тут были, козлятину ели.
А Ванька выждал немного, да за ними по их следу, письмо их стер на воротах, да где попало, в местах десяти, ту же надпись и написал:
Мы тут были, козлятину ели.
А во дворце тем временем поднялась тревога: явились к царю телохранители — козла нет.
Говорят телохранители:
— Мы вора поймали! — и ну хвастать.
Царь сейчас в коляску.
Выехал царь на Фонтанку.
Едет царь по Фонтанке, туда посмотрит, сюда посмотрит, — на одном доме надпись, и на другом надпись, и на третьем, и на десятом, и все одно и то же мелом написано:
Мы тут были, козлятину ели.
Повернул царь коляску, махнул рукою:
— Козлятина, — говорит, — козлятина одна!
И пока там новый караул снаряжали ловить деревенского вора, Ванька с Васькой зря на Фонтанке не торчали, глаз не мозолили, а взяли чухонскую телегу, забрали золото, серебро и распростились с Петербургом.
* * *
Стал белый, светлый день, как приехали воры к морю.
Лошадь и телегу воры продали, купили пароход, сели на пароход и поплыли тихо и смирно в иностранные земли.
Приезжают воры к иностранному королю Молокиту.
А у того короля Молокиты была дочь царевна Чайна-прекрасная.
И влюбился Васька в Чайну-царевну. Посылает Васька сватов к королю.
Чайне люб Васька, а король Молокита не хочет:
— Выстрой, — говорит, — русскую церковь в трое суток, тогда и бери Чайну, а не то голову долой.
А Ваське что: ему Ванька поможет, Ванька к этому делу привычен, Ванька — деревенский.
И взялся Васька в трое суток русскую церковь строить.
День Ванька строит — выше окон,
другой строит — вывел к потолку,
на третьи сутки накрыли всю крышу.
— Принимайте, собор готов, — говорит Васька королю Молокиту.
И точно, — видит король, собор построен, от слова не отпирается.
И при освящении собора Ваську с царевной и повенчали.
Велел король Молокита нагрузить им двенадцать кораблей и с дарами отправил их в море.
И пали им попутные ветры — приятная погода.
Целы и невредимы вернулись они в Петербург.
Целую неделю выгружали корабли, да неделю пир пировали.
После пира стал вор Ванька прощаться с приятелем, а прощаясь, раскрыл ему свою тайность:
он и есть тот самый покойник,
которого на Миллионной в гробу дубинками
били — вор Ванька.
— Пожалел ты меня, выкупил, послужил и я тебе верою, правдою и неизменою! — сказал вор Ванька.
И пошел себе, ничего не взял, только попугайные ключи да мел-камень, все золото, серебро оставил приятелю.
И остался Васька Неменяев с своей молодой женой вдвоем без приятеля, и стали жить по-хорошему при всей обличности и удовольствии.
Хлоптун
Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться.
Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.
Трудно было одной Марье.
Кое-как она перебилась, к осени полегче стало.
Ждет мужа, — нет вестей от Федора.
Ждать-пождать, — не едет Федор.
Да жив ли?
А тут говорят, помер.
Бабы от солдата слышали, что Федор помер.
Ну, а Марья в слезы, убивается, плачет.
— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок!
Так Марья плачет, так ей скучно.
Прожила она в слезах осень, все тужит:
без мужа скучно.
А Федор вдруг на святках и приезжает.
И уж так рада Марья, от радости плачет:
вот не чаяла, вот не гадала!
— А мне говорили, что ты помер!
— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы! И стали они поживать, Федор да Марья.
* * *
Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом, — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа, — век вместе жили.
Все по-прежнему шло, как было.
Все… да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:
«А что, как он мертвый?»
Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою,
а он, чтобы идти к покойнику смотреть,
нет, никогда не пойдет.
Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала — покойник-то очень уж богатый был, — насилу уговорила.
И пошли, вместе пошли.
Приходят они туда в дом, где покойник:
покойник в гробу лежал,
лицо покрышкой покрыто.
Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника.
Тут и все потянулись:
всякому охота на покойника посмотреть.
С народом протиснулась и Марья.
Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.
«И чего же он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.
Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.
Дорогой она его и спрашивает:
— Чего ты, Федор, смеялся?
— Так, ничего я… — не хочет отвечать.
А она пристает: скажи да скажи.
Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:
— Вот как покрышку с него сняли, а черти к нему так в рот и лезут.
— Что ж это такое?
— А хлоптун из него выйдет.
— Какой хлоптун?
— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто, и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной и за людей принимается.
И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.
— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья…
— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-обороть и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.
Вернулись они домой, легли спать.
Заснул Федор.
А Марья не спит, боится.
«А что, если он хлоптун и есть?»
Боится, не спит Марья —
не заснуть ей больше,
не прогнать страх и думу.
* * *
Куда все девалось, все прежнее?
Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего.
Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.
Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.
«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной за людей принимается!»
И как вспомнит Марья, так и упадет сердце.
И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.
— Не сын ваш Федор… хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.
— Как так?
— Так что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала, — последний год живет, кончится год, съест он нас.
Испугались старики.
— Съест он нас!
* * *
Всем страшно, все на стороже.
И стали за Федором присматривать.
Глядь, а он уж на дороге коров ест.
Обезумела Марья.
Трясутся старики.
Достали они от жеребца узду-обороть, подкараулили Федора, — подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут…
Упал Федор.
— Сгубила, — говорит, — ты меня!
Да тут и кончился.
Тут и все.
Назад: М. Е. Салтыков-Щедрин{132}
Дальше: Евгений Замятин{148}

