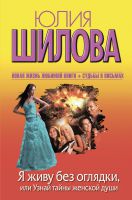* * *
Районный детский врач Виктор Петрович — молодой человек с внешностью разночинца — сидел, ссутулившись, и прослушивал очередную пациентку. Он передвигал стетоскоп по её голой спинке, говорил: «Дыши… не дыши…», потом замолкал, глядя куда-то в угол.
Мать стояла здесь же, в кабинете, держа в руках детские одёжки, с тревогой смотрела на врача, пытаясь определить по его лицу дальнейшую судьбу своей дочери. Но по лицу ничего понять было невозможно. У Виктора Петровича было такое выражение, будто ему десять минут назад позвонила жена и сказала, чтобы он больше не приходил домой. Либо только что вызвал главный врач детской поликлиники и потребовал, чтобы Виктор Петрович написал заявление об уходе.
Девочка послушно дышала или не дышала, с восторгом косилась на мать. Она была тщеславным ребёнком и любила находиться в центре событий.
Виктор Петрович выдернул из ушей костяшки стетоскопа и сказал медсестре:
— Пишите рецепт.
Медсестра сидела по другую сторону стола в белом халате и красной мохеровой шапке. Казалось, будто она не на работе, а просто зашла посидеть. Шла мимо и зашла.
— Как зовут? — спросила медсестра.
— Меня? — переспросила мать. — Лариса.
— При чем тут вы? — обиделась медсестра.
— Маша Прохорова, — вмешалась девочка.
— Одевайтесь, — велела медсестра.
Лариса торопливо стала натягивать платье на Машу. Платье не шло, потому что волосы намотались на пуговицу. Лариса спешила. Маша кряхтела. Виктор Петрович ждал с вежливым отвращением.
— Следующий! — вызвала сестра.
Вошла следующая пара: бабушка и внучек. Оба принаряжены, с радостными, торжественными лицами, будто пришли в гости и не сомневаются, что им очень рады.
— Раздевайтесь! — предложил Виктор Петрович, обречено глядя в окно.
Лариса и Маша справились наконец с платьем, забрали рецепт и вышли из кабинета.
Трехлетняя Дашка сидела на стуле и честно поджидала. Увидев своих, она слезла со стула и вложила свою руку в руку матери. Лариса взяла Дашку за одну руку, Машу — за другую и повела их вниз по лестнице.
Маша шла возле стены, а Дашка — по другую сторону, везла руку по перилам, сгребая в ладонь все существующие в районе микробы.
— Убери руку, — приказала Лариса.
— Почему? — спросила Дашка.
— Потому что потому, все кончается на "у", — ответила Лариса.
Такой ответ был непедагогичным, но Лариса знала свою дочь: отсутствие логики действовало на неё гипнотически. Так и сейчас: она сняла с перил руку и даже сунула её за спину.
Маше наоборот — все нужно было объяснять подробно, выделяя причины и следствия и их взаимосвязь.
Когда наконец добрались до раздевалки, то выяснилось, что пропал номерок.
Стали искать в сумке и по карманам, не желая верить и не мирясь с пропажей. Потом ещё раз прошуровали все отделения сумки, все карманы и кармашки. Номерка не было нигде.
— Потеряли, — созналась Лариса, виновато глядя на гардеробщицу в синем халате.
— Ищите! — постановила гардеробщица и, считая аудиенцию законченной, ушла в глубь своего царства.
Лариса взяла дочерей за руки, и все трое побрели обратно, напряжённо глядя в пол, прочёсывая глазами каждый сантиметр сиреневато-бежевого паркета.
В районе уборной Даша нашла большую чёрную пуговицу с четырьмя дырками, а в кабинете Виктора Петровича — блестящий фантик из-под конфеты «Чародейка». Эти трофеи они принесли гардеробщице, но не заинтересовали её.
— Не нашли, — сказала Лариса, и её лицо стало жалостливым и виноватым. А девчонки смотрели нахально и весело, будто ничего и не случилось.
— Вот так и будут все терять, — обиделась гардеробщица. — А я отвечай!
— Я заплачу! — обрадовалась Лариса. — Сколько стоит номерок?
— Рубль, — официально объявила гардеробщица.
Лариса помнила, что, отправляясь в поликлинику, не взяла с собой денег. Но рубль мог оказаться в сумке. Она снова прошуровала глазами и пальцами все отделения. Ей попались четыре монеты по 15 копеек, три — по десять, пятак и ещё пять копеечных монет.
В это время к гардеробу подошла пожилая дама с ленточкой в волосах. Волосы сзади и с боков были забраны под эту ленточку в аккуратный валик. Такую причёску носили перед самой войной, и дама осталась верна этой моде. О ней нельзя было сказать: бабушка. Именно — дама. Брови у неё были подрисованы чёрным карандашом. Причём линии — естественная и искусственная — имели разное направление. Своя бровь шла вниз, а рисованная вверх.
Дама подозрительно оглядела Ларису, её брюки, подпоясанные ремнём, дремучую чёлку до середины зрачков. Потом посмотрела на детей — тоже в брюках и с чёлками, и в её глазах выразилось беспокойство за современную молодёжь и за будущее всей планеты, которую придётся передавать в руки таких вот. Так же, наверное, чувствовал себя Леонардо да Винчи в глубокой старости, когда не видел вокруг себя ни одного достойного ученика, кому можно было бы передать свои кисти.
По законам времени, по биологическим законам, Лариса с детьми должна была жить после неё и вместо неё и от этого не нравилась ещё больше. Дама с брезгливым недоверием посмотрела на Ларису, а потом на гардеробщицу, как бы делясь с ней своими сомнениями.
Лариса тоже покосилась на даму и приказала детям подвинуться, чтобы не загромождать собой пространство. Все было вполне вежливо и пристойно, но извечный конфликт поколений серой тенью пролетел над гардеробом.
Лариса ещё раз пересчитала копейки и протянула гардеробщице тяжёлую горсть. Этот жест последовал сразу после обмена взглядами, и гардеробщице было неловко принять деньги из неуважаемой руки.
— Не возьму я твои деньги, — строго сказала гардеробщица.
— Почему? — растерялась Лариса, держа протянутую руку на весу.
— А зачем они мне? Мне номерок нужен, а не деньги.
Дама тем временем оделась и ушла, но гардеробщице было уже неудобно отменять принятое решение.
— А кому же мне их отдать? — спросила Лариса.
— Отнеси сестре-хозяйке…
Лариса сомкнула пальцы, сжала мелочь в ладони и пошла в конец коридора. Дети побрели следом, держась поодаль, как чеховские нахлебники.
На белой двери висела табличка: «Сестра-хозяйка».
Лариса постучала и, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет.
Сестра-хозяйка в белом халате и белом колпаке, похожая на булочницу, рылась в ящике своего стола, видимо, что-то разыскивая, и была очень сосредоточена на этом занятии.
— Простите, мы потеряли номерок, — сказала Лариса.
— Ну и что? — сестра-хозяйка отвлеклась от своего ящика.
— Вот. — Лариса разжала ладонь и показала монеты — жёлтые и светлые, большие и маленькие — почти все образцы, имеющиеся в денежном обращении.
— Ну и что? — не поняла сестра-хозяйка.
— Деньги, — объяснила Лариса.
— А я при чем?
— В гардеробе сказали, что я могу вам отдать.
— Почему мне? — неприятно удивилась сестра-хозяйка. В ней была задета щепетильность малооплачиваемого человека.
— А кому?
— Где потеряли, там и отдайте.
Сестра-хозяйка снова стала искать в ящике то, что ей было нужно.
— Извините, — смущённо проговорила Лариса и вышла из кабинета. Закрыла за собой дверь.
— Я кушать хочу, — пожаловалась Даша.
— А я пить… — поддержала Маша.
— Кто держал номерок? — с раздражением спросила Лариса.
— Она. — Даша показала на сестру.
— Не я, — отреклась Маша.
— И это дети… — горько заключила Лариса. — Раззявы. Халды. Почему у других дети никогда не простужаются и ничего не теряют? Вот сдам вас на пятидневку.
Даша и Маша выслушали. Поверили. На их души опустилось горе.
— Не ходите за мной! — приказала Лариса. — Стойте здесь. На этом месте.
Она ускорила шаг и пошла к гардеробу.
Возле барьера уже выстроилась порядочная очередь, и гардеробщица орудовала в поте лица.
— Сестра не взяла, — сказала ей Лариса через головы.
Гардеробщица промолчала. Она тащила охапку пальто, взвалив её на свой живот.
— Может, все-таки возьмёте? — Лариса протянула через головы кулак с мелочью.
— Не лезьте, — попросила женщина. — Тут с детьми стоят.
— Я уже стояла, — объяснила Лариса.
— Ни стыда, ни совести, — отозвалась другая, из середины очереди. — Им плюй в глаза, а они скажут: дождь идёт.
Гардеробщица продолжала молча выдавать пальто, делая вид, что не знает Ларису. Видит первый раз.
Ларису оттеснили от гардероба.
Она выглянула в коридор. Дети стояли там, где она их оставила, под плакатом о вреде алкоголя. Маша тихо плакала. А Даша рассматривала плакат: у неё была потрясающая способность: моментально приспосабливаться к новым обстоятельствам и ни о чем не сожалеть.
— Что ты ревёшь? — спросила Лариса, подходя. — Ну, что ты ревёшь?
Маша нырнула головой, вытянула губы и зарыдала ещё вдохновеннее, поскольку было кому показать своё горе.
Маша плакала абсолютно так же, как тётя Рита. У них в роду была дальняя родственница, старая дева, окончившая свою жизнь в доме для престарелых. Так вот, когда тётя Рита плакала, у неё складывались губы и дрожали брови — абсолютно так же, как у Маши. Вернее, у Маши так же, как у тёти Риты, и было непонятно: через какие тайные пути передались природе эти сочетания хромосом…
— Давай мириться, — предложила Лариса и присела перед Машей. Та навалилась на мать своим тяжёлым тельцем и сладко обрыдала её лицо, горячо дыша в щеку.
— Ну, все, — сказала Лариса, целуя мокрое личико.
— Все?
Маша кивнула, продолжая источать слезы, но не горькие, как прежде, а лёгкие и просветлённые. Брови и щеки были в красных нервных пятнах.
Даша стояла рядом как истукан, с интересом рассматривая нарисованного неаккуратного дядьку с красным носом.
«Вся в Прохоровых, — подумала Лариса. — Прохоровская порода».
Из кабинета вышла сестра-хозяйка.
— Простите… — начала Лариса, но сестра-хозяйка прошла мимо, как проходит генерал мимо новобранца. Потом она вернулась и заперла кабинет, и её широкая спина как бы говорила: «Ходят тут… ещё пропадёт что-нибудь…»
— А куда мне обратиться? — спросила Лариса, глядя в недоступную спину.
— Обратитесь к своему лечащему врачу, — ответила сестра-хозяйка заученными интонациями.
Видимо, все мамаши обращались к ней с медицинскими вопросами, и она всех отсылала к своему лечащему врачу.
Виктор Петрович передвигал стетоскоп по детской спинке, говорил: «дыши», «не дыши». Потом вытащил из ушей костяшки стетоскопа и посмотрел на вошедшую Ларису.
— Ну что? — спросила мама мальчика, беря в плен глаза Виктора Петровича.
— То же самое, — ответил Виктор Петрович, осторожно выводя свои глаза из плена её зрачков. — А что может быть другого?
Женщина промолчала. Надежда в её сознании не мирилась со здравым смыслом, а Виктор Петрович стоял на стороне здравого смысла.
— А если не делать операцию? — тихо спросила женщина.
— Но ведь мы уже говорили об этом, — мягко напомнил Виктор Петрович. — Что я могу сказать нового? Я могу повторить только то, что уже говорил.
Женщина молчала. Она стояла со спокойным лицом, но Лариса видела, что это спокойствие опустошения, когда все вычерпано изнутри, осталось только оболочка. В кабинете установилась неподвижная душная тишина.
— Вам что? — Виктор Петрович посмотрел на Ларису.
— Ничего…
Лариса вышла в коридор. Вокруг ходили люди, но Лариса не замечала. Она существовала в капсуле чужого несчастья, как косточка в виноградине, и не могла двинуться с места.
Очередь разошлась. В гардеробе было пусто. Гардеробщица сидела на табуретке и вязала на спицах. Сестрахозяйка стояла перед ней, облокотившись о барьер, и смотрела на её руки.
— Значит, пятьдесят две петли. Запомнила? — спросила гардеробщица.
— Пятьдесят два раза считать? — спросила сестрахозяйка.
Теперь её не поняла гардеробщица, и обе некоторое время напряжённо смотрели друг на друга.
— Пятьдесят две лицевых и пятьдесят две изнаночных или всего пятьдесят две? — выясняла сестра-хозяйка и в это время увидела Ларису с детьми. — О! Тащатся… Фудзиямы…
Почему «фудзиямы», Лариса не поняла. Может быть, от их тёмных волос и тёмных глаз отдалённо веяло Востоком.
— Я кушать хочу, — напомнила Даша.
— И я, — поддержала Маша.
— Я вас очень прошу: дайте нам пальто. Пожалуйста. Я больше не могу… — тихо пожаловалась Лариса.
— Никто вас и не держит, — удивилась сестра-хозяйка. — Давайте номерок и идите домой.
Она обладала властью над Ларисой и, должно быть, испытывала некоторое тщеславие и не хотела с этим расставаться.
— Вы же знаете, что номера нет. Нам что теперь, раздетыми идти?
— А как мы найдём ваши пальто? — поинтересовалась сестра-хозяйка.
— Я сама найду.
— Ты-то найдёшь… — неопределённо сказала гардеробщица, намекая на то, что Лариса может прихватить с вешалки чужие вещи, охраняемые непотерянными номерками.
— Вы мне не верите?
— А почему мы должны кому-то верить, а кому-то не верить? — спросила сестра-хозяйка, и это было резонно.
До тех пор, пока в обществе существуют воры, — существуют номерки и гардеробщики. Воры, по всей вероятности, необходимы в общем вареве жизни — для того, чтобы люди умели отличить Добро от Зла, ценить одно и противостоять другому. Воры существовали ещё при рабовладельческом обществе и ничем не отличались от обычных людей — до тех пор, пока что-нибудь не крали.
— Но что же делать? — растерялась Лариса. — Не ночевать же тут…
— Зачем ночевать? Ночевать не надо. — Сестра-хозяйка забрала у гардеробщицы клубок и спицы. — Всего пятьдесят две или всего сто четыре? — вернулась она к прежней теме.
— Почему сто четыре? Пятьдесят две. Вяжи вот такой кусок, — гардеробщица развела пальцы — большой и указательный на всю ширину. — А потом, как петли скидывать, я тебе закончу. Тут главное: макушка.
Сестра-хозяйка воткнула спицы в клубок.
— Которые пальто останутся, отдашь без номерка, — распорядилась она и пошла.
— Как останутся? — не поняла Лариса.
— Будем закрывать, все пальто разберут, а ваши небось останутся.
— А когда закрывать?
— В восемь часов.
— Значит, я до восьми должна стоять и ждать?
В этот момент сестра-хозяйка проходила мимо Ларисы. Лариса испугалась, что она сейчас уйдёт и ничего нельзя будет изменить. Гардеробщица, как более низкий чин, не посмеет ослушаться и отменить распоряжение.
— Подождите! — Лариса схватила сестру-хозяйку за рукав.
Сестра-хозяйка вздрогнула и выдернула руку. Тогда Лариса схватила сильнее, чтобы удержать во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Хотя бы ценой собственной жизни.
А далее произошло то, что бывает во время опытов по физике в физическом кабинете, когда между двумя сближенными шарами сверкает разряд.
Грянул гром, сверкнула молния, и Лариса вдруг почувствовала, что летит в угол к аптечному ларьку, скользя по паркету на напряжённых ногах. Далее она запомнила себя сверху мягкого тела сестры-хозяйки, а потом оказалась внизу, ощущая лопатками жёсткий линолеум, в глазах все было белым от халата. Монеты, жёлтые и серебряные, со звоном раскатились по всему гардеробу.
Аптекарша выглянула из ларька и сказала:
— Надо милиционера позвать. Пусть ей пятнадцать суток дадут.
Маша и Даша дружно заревели, широко разинув рты, и так зашлись, что даже посинели. Гардеробщица испугалась, что дети не продохнут и погибнут от кислородной недостаточности. Она метнулась к тёмным гроздьям пальто и, вернувшись, бросила на барьер две белых болгарских шубки и перекрашенную дублёнку Ларисы.
Мамаши с детьми подходили к гардеробу, но боялись ступить в опасную зону. Успех был переменным. Сестрахозяйка превосходила массой, а Лариса — темпераментом.
Несколько добровольцев бросились в середину сражения и растащили женщин по разным углам, как на ринге. Они стояли и тяжело дышали и не могли слова молвить.
— Хулиганка, — сказала аптекарша.
— Это что ж, — поддержала сестра из регистратуры, — если каждый будет приходить и бить персонал, что же от нас останется…
Гардеробщица тем временем торопливо одевала Машу и Дашу. Застегнула на шубках все пуговицы, надела пуховые башлыки, затянула шарфики, чтобы дети не простудились и не пришли опять со своей мамой.
Лариса высвободилась из рук добровольцев. Взяла свою дублёнку и пошла к дверям, одеваясь на ходу, теряя из рукавов перчатки и платок. Кто-то подобрал и отдал ей.
Дети молча поплелись следом, в одинаковых шубках и пуховых башлыках.
На улице выпал снег. Земля была белая, нарядная. Небо — мглистое и тоже белое.
Раньше, десять лет назад, на этом месте стояла деревня с кудрявыми палисадниками, вишнёвыми деревьями. Сейчас здесь выстроили новый район, но снег и небо остались деревенские.
На тротуаре стоял старик и смотрел себе под ноги. Лариса тоже посмотрела ему под ноги, там валялся огрызок яблока. Старик поднял голову и сказал:
— Знаете, я съел яблоко, а в середине червяк. Я вот уже полчаса стою и за ним наблюдаю. Какое все-таки удивительное существо: червяк…
Лариса кивнула рассеянно и пошла дальше. И вдруг остановилась, пытаясь понять: как она, молодая женщина из хорошей семьи, кандидат наук, мать двоих детей, понимающая толк в литературе и музыке, — вдруг только что разодралась, как хулиган на перемене, и её чуть не сдали в милицию. Приехал бы милиционер, отвёз в отделение и спросил:
— Ты что дерёшься?
— Скучно мне, — сказала бы Лариса. — Скучно…
Была юность. Прошла. Была любовь к Прохорову. Прохоров остался, а любовь прошла. Все прошло, а жить ещё долго. И до того времени, когда можно будет просто созерцать червяка, как этот старик, должно пройти ещё по крайней мере тридцать лет. Тридцать лет, в которых каждый день — как одинаковая тугая капля, которая будет падать на темя через одинаковые промежутки.
Пойти, в сущности, некуда. А было бы куда — не в чем.
Мода все время меняется, и для того, чтобы соответствовать, надо на это жизнь класть. А было бы в чем и было куда — все равно скучно. Душа неприкаянная, как детдомовское дитя…
Милиционер спросил бы:
— А пятнадцать суток дам, не скучно будет?
— Все равно…
— Ладно, — скажет милиционер. — Привыкнешь.
— Не привыкну.
— Привыкнешь. Куда денешься…
Лариса нырнула головой. Брови её задрожали, и она ощутила на своём лице выражение тёти Риты.
Дети медленно тащились следом, притихшие, удручённые. Дорога под снегом обледенела. Девочки то и дело скользили, но не падали, а только сталкивались плечами.
В три часа закончилась смена, и сестра-хозяйка вышла на бетонное кольцо.
С трех начинался приём грудников, вся площадь перед поликлиникой была сплошь заставлена детскими колясками.
Подошла ещё одна мамаша с коляской, стала доставать своего человечка. Человечек был в комбинезоне, весь круглый, как шарик, с круглым личиком. Под поясок комбинезона попала пелёнка, покрывающая матрасик коляски и потащилась, как шлейф за царевичем. Надо было отделить этот шлейф, но руки заняты, и женщина как можно выше понесла своего царевича на вытянутых руках. Пелёнка отделилась и опала, но женщина не опускала руки. Она держала ребёнка над головой, смеялась и жмурилась в его личико, глупела и слепла от счастья. А тот висел в воздухе, безвольно свесив ручки и ножки, и ничего не выражал: ни страха, ни радости. Ему было надёжно в материнских руках и привычно в материнской любви. Так было с первого дня его жизни, и он не представлял, что может быть по-другому.
Сестра-хозяйка загляделась на эту пару. Думала: если бы у неё был такой вот тёплый круглый человечек — она ничего бы больше для себя не просила и никогда никому не сказала бы ни одного грубого слова. А эта… — вспомнила Ларису, — шкрыдла… двоих имеет. А дерётся…
Было не холодно, но ветер все же задувал в ажурные дырки платка.
Рядом с поликлиникой стоял кинотеатр «Витязь», и мужественный витязь из листового железа просматривал с фасада вверенный ему микрорайон.
Назад: Виктория Токарева Плохое настроение
На главную: Предисловие