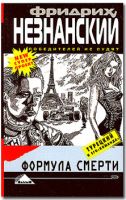Книга: Я есть. Ты есть. Он есть
Назад: Виктория Токарева Я есть. Ты есть. Он есть
На главную: Предисловие
* * *
Анна ждала домой взрослого сына.
Шел уже третий час ночи. Анна перебирала в голове все возможные варианты. Первое: сын в общежитии с искусственной блондинкой, носительницей СПИДа. Вирус уже ввинчивается в капилляр. Еще секунда – и СПИД в кровеносной системе. Плывет себе, отдыхает. Теперь ее сын умрет от иммунодефицита. Сначала похудеет, станет прозрачным и растает как свеча. И она будет его хоронить и скрывать причину смерти. О Господи! Лучше бы он тогда женился. Зачем, зачем отговорила его два года назад? Но как не отговорить: девица из Мариуполя, на шесть лет старше. И это еще не все. Имеет ребенка, но она его не имеет. Сдала государству до трех лет. Сдала на чужие руки – а сама на поиски мужа в Москву. А этот дурак разбежался, запутался в собственном благородстве, как в соплях. Собрался в загс. Анна спрятала паспорт. Чего только не выслушала. Чего сама не наговорила. В церковь ходила. Богу молилась на коленях. Но отбила. Победа. Теперь вот сиди и жди.
Нервы расходились. Надо взять себя в руки. Надо поговорить с собой.
«Перестань, – сказала себе Анна. – Что за фантазии? Почему в общежитии? Почему СПИД? Может, он не у женщины, а с друзьями. Пьют у кого-нибудь на кухне. Потом разойдутся».
А вдруг пьяная драка? Он ударит, его ударят, и он валяется, истекает кровью. А может, его выбросили в окно и он лежит с отсутствующим лицом и отбитыми внутренностями. Господи… Если бы он был жив, позвонил бы. Он всегда звонит. Значит – не жив. Не жив – это мертв.
Анна подошла к телефону, набрала 09. Спросила бюро несчастных случаев. Ей продиктовали.
– Але… – отозвался сонный голос в бюро.
– Простите, к вам не поступал молодой мужчина? – спросила Анна.
– Сколько лет?
– Двадцать семь.
– Во что одет?
Анна стала вспоминать.
– Валь, – сказал недовольный голос в трубке, – ну что ты заварила? Я, по-твоему, это пойло пить должна?
«У людей несчастье, а они про чай», – подумала Анна. И в этот момент раздался звонок в дверь.
Анна бросила трубку. Метнулась к двери. Открыла.
Сбылось и первое, и второе. И женщина, и пьяный. Правда, живой. Улыбается. Рядом – блондинка. Красивая. Анне было не до нее, глянула краем глаза, но даже краем заметила – красавица. Можно запускать на конкурс красоты.
– Мамочка, знакомься, это Ирочка. – Олег еле собирал для слов пьяные губы.
– Очень приятно, – сказала Анна.
При Ирочке неудобно было дать сыну затрещину, но очень хотелось. Прямо рука чесалась.
– А можно Ирочка у нас переночует? А то ей в общежитие не попасть. У них двери запирают.
«Так. Общежитие, – отметила Анна. – Еще одна лимитчица».
– А из какого вы города? – спросила Анна.
– Из Ставрополя, – ответил за нее Олег.
Та из Мариуполя, эта из Ставрополя. Греческие поселения.
Анна посторонилась, пропуская молодую пару. От обоих пахло спиртным.
Они просочились в комнату Олега. Оттуда раздался выстрел. Это рухнул диванный матрас, Анна знала этот звук. Потом раздался хохот, как в русалочьем пруду. Шабаш какой-то.
Тяжело иметь взрослого сына. Маленький – боялась, что выпадет из окна, поменялась на первый этаж. Теперь в случае чего – не разменять. В армию пошел – боялась, что дедовщина покалечит. Теперь вырос – и все равно.
Анна не могла заснуть. Вертелась. Зачем-то считала количество букв в городах: Мариуполь – девять букв, Ставрополь – десять. Ну и что? Было бы двое детей – не так бы сходила с ума. Но второго ребенка не хотела: с мужем жили ровно, все завидовали: «Какая семья». И только он… И только она знала, как все это хрупко. Анна хотела новой любви. Не искала, но ждала. Второй ребенок лишал бы маневренности.
Анна ходила и смотрела куда-то вдаль, поверх головы своего мужа, как будто высматривала настоящее счастье.
Все кончилось в одночасье. Муж умер в проходной своего научно-исследовательского института. Ушел на работу, а через час позвонили. Нету человека.
Анна сопровождала его в морг. Ехали на «скорой». Муж лежал, будто спал. Наверное, он не заметил, что умер. Анна не отрываясь вглядывалась в лицо, пытаясь прочитать его последние ощущения. Смотрела на живот, на то место, которое всегда было таким живым. И если там умерло, значит, его действительно нет.
Однажды приснился сон: муж сидит перед ней, улыбается.
– Ты же умер, – удивилась Анна.
– Я влюбился, в этом дело, – объяснил муж. – Встретил женщину. Не мог оторваться. Но мне было жаль тебя. Я притворился, что умер. А вообще я живой.
Анна проснулась тогда и плакала. Она, конечно, знала, что мужа нет. Но сон показался правдой. Муж, наверное, кого-то любил, но не посмел переступить через семью. Рвался и умер. Лучше бы ушел.
После смерти мужа Анна осталась одна. Сорок два года. Выглядела на тридцать пять. Многие претенденты распускали слюни, как вожжи. Однако семьи не получалось. У каждого дома была своя семья. Норовили записаться в сынки, чтобы их накормили, напоили, спать уложили и за них бы все и проделали.
Была, конечно, и любовь, что там говорить… Чудной был человек, похожий на чеховского Вершинина: чистый, несчастный и жена сумасшедшая. И нищий, конечно. Это до перестройки. А в последнее время вступил в кооператив, стал зарабатывать две тысячи в месяц. Нули замаячили. Не человек – гончая собака. И уже ни томления, ни страдания – завален делами выше головы. Некогда? Сиди работай. Устал? Иди домой. Он обижался, как будто ему говорили что-то обидное. Он хотел еще и любви в придачу к нулям.
В один прекрасный день Анна поняла: у нее все было. В прошедшем времени. Плюсквамперфект. И то, что казалось временным, и было настоящим: муж, дом, общий ребенок. Семья. Но мужа нет. И дальше – тишина. Самый честный союз – это союз с одиночеством.
Женщина не может без душевного пристанища. Пристанище – сын. Умница. Красавец. Перетекла в сына.
А сын за стеной перетекает в Ирочку. Из Ставрополя. Десять букв. Мариуполь – девять. А что еще остается? Только буквы считать.
Ирочка проснулась в час дня.
За это время Олег встал, сделал завтрак, позавтракал, ушел на работу и сделал плановую операцию.
Анна за это время сходила в магазин, приготовила обед – курицу с овощами – и села за работу.
В учебной программе шли большие перемены. Историю СССР практически переписывали заново. Дети не сдавали экзамен.
У Анны – французский язык. В этом отсеке все как было: je suis, tu est, il est. Я есть. Ты есть. Он есть.
Возникали учителя-новаторы: ускоренный метод, изучение во сне. Анна относилась к этому скептически, как к диете. Быстро худеешь, быстро набираешь. Ускоренно обретенные знания так же скоро улетучиваются. Лучше всего по старинке: обрел знание – закрепил. Еще обрел – еще закрепил.
Анна сидела за столом. Работа шла плохо, потому что в доме находился посторонний человек.
Наконец задвигалось, зашлепало босыми ногами, зажурчало душем.
«Надо накормить, – подумала Анна. – Молодые, они прожорливые». Вышла на кухню, поставила кофе.
Из ванной явилась Ирочка в пижаме Олега. Утром она была такая же красивая, как вечером. Даже красивее. Безмятежный чистый лоб, прямые волосы Офелии, промытые молодостью синие глаза. Интересно, если бы Офелия переночевала у Гамлета и утром явилась его мамаше, королеве…
Анна не помнила точно, почему Офелия утопилась. Эта не утопится. Всех вокруг перетопит, а сама сядет пить кофе с сигаретой.
– Доброе утро, – поздоровалась Ирочка.
– Добрый день, – уточнила Анна.
Ирочка села к столу и стала есть молча, не глядя на Анну. Как в купе поезда.
– А вы учитесь или работаете? – осторожно спросила Анна.
– Я учусь в университете, на биофаке.
«Значит, общежитие университетское», – поняла Анна.
– На каком курсе?
– На первом.
«Значит, лет восемнадцать-девятнадцать», – посчитала Анна. Олегу двадцать семь.
– А родители у вас есть?
– В принципе есть.
– В принципе – это как? – не поняла Анна.
– Люди ведь не размножаются отводками и черенками. Значит, у каждого человека есть два родителя.
– Они в разводе? – догадалась Анна.
Ирочка не ответила. Закурила, стряхивая пепел в блюдце.
«Курит, – подумала Анна. – А может, и пьет».
– А вы не опоздаете в университет? – деликатно спросила Анна.
– У нас каникулы.
Анна вспомнила, что студенческие каникулы в конце января – начале февраля. Да, действительно каникулы. Не собирается ли Ирочка провести у них две недели?
– А почему вы не поехали в Ставрополь? – осторожно поинтересовалась Анна. – Разве вы не соскучились по дому?
– Олег не может. У него работа.
– А у вас с Олегом что? – Анна замерла с ложкой.
– У нас с Олегом все.
Зазвонил телефон. Аппарат стоял на столе. Анна хотела привычным движением снять трубку, но Ирочка оказалась проворнее. Ее тонкая рука змеиным броском метнулась в воздухе. И с добычей-трубкой обратно к уху.
– Да… – проговорила Ирочка низко и длинно.
В этом «да» были все впечатления прошедшей ночи и предвкушения будущей.
После «да» было «я» – такое же длинное, как выдох.
Это звонил Олег. Ирочка произносила только два слова – «да» и «я». Но это были такие «да» и «я», что Анне стыдно было при этом присутствовать. Наконец Ирочка замолчала и посмотрела на Анну умоляюще-выталкивающим взглядом.
Анна вышла из кухни. Подумала при этом: «Интересно, кто у кого в гостях…»
Каждая семья имеет свои традиции, ибо человек без традиций голый. Равно как и общество. Общество, порвавшее с традициями, обрубает якорную цепь, и его корабль болтается по воле волн или еще по чьей-то воле.
В традиции Олега и Анны входило звонить друг другу на работу, отмечаться во времени и пространстве: «Ты есть, я есть. И ничего не страшно: ни социальные катаклизмы, ни личные враги. Ты есть, я есть. Мы есть».
В традиции входило открывать друг другу дверь, встречать у порога, как преданная собака. Выражать радость, махать хвостом. Потом вести на кухню и ставить под нос миску с божественными запахами.
И сегодня Олег позвонил в обычное время. Анна заторопилась, но на пути возникла Ирочка.
– Он попросил, чтобы я открыла.
Анна растерялась, сделала шаг назад. Привилегии отбираются, как во время перестройки. В семье шла перестройка.
Ирочка тем временем распахнула дверь и повисла на Олеге в прямом смысле слова. Уцепилась руками за шею и подогнула ноги. Обычно Олег целовал мать в щеку, но сегодня между ними висело пятьдесят килограмм Ирочки.
Олега, похоже, не огорчало препятствие. Он обхватил Ирочку за спину, чтобы удобнее виселось, они загородили всю прихожую и из прихожей вывалились в комнату Олега и пропали.
Курица стыла. Устои дома рушились. Еще час такой жизни – и упадет потолок, подставив всем ветрам жилище.
Вечером Анна подстерегла момент и тихо спросила:
– А Ирочка, что, не собирается в общежитие?
– Видишь ли… – Олег замялся. Потом вскинул голову, как партизан перед расстрелом. – Мы поженились, мама.
– В каком смысле? – не поверила Анна.
– Ну в каком смысле женятся?
– И расписались?
– Естественно.
– И свадьба была?
– Была.
– В общежитии?
– Нет. В ресторане.
– На какие деньги?
Анна задавала побочные, несущественные вопросы. Ей было страшно добраться до существенного.
– На мои. Откуда у нее деньги? Она сирота.
– У нее есть родители.
– Это не считается.
– А где ты взял деньги?
– Одолжил. У Вальки Щетинина.
Валька – друг детства, юности и молодости. Вместе учились. Вместе работают.
– А почему ты не взял у меня? – спросила Анна.
– Ты бы все узнала.
– А я не должна знать? – Это был главный, генеральный вопрос. – Почему ты мне не сказал?
– Ты бы все испортила.
Наступила пауза.
– Ты бы не пустила, – добавил Олег. – Я этого боялся.
Анна молчала. Было больно. Как дверью по лицу.
– Прости, – попросил Олег.
– Не могу, – ответила Анна. – И еще знаешь что?
– Что?
– Ты мерзавец.
– Я так не считаю.
– А как ты считаешь?
– Я боролся за свою любовь.
Олег счел разговор оконченным. Бывают моменты в жизни мужчины, когда он должен бороться за свою любовь. Это его правда. Но есть правда Анны: вырастила сына, пустила в жизнь, и теперь ее можно задвинуть под диван, как пыльный тапок.
Да. Стареть надо на Востоке. Там уважают старость. Там такого не бывает.
Дима… Вот когда нужен близкий человек. Когда тебя предают в твоем же собственном доме.
Анна снова не спала ночь. Мучил вопрос «ЗА ЧТО?».
Может быть, за то, что их поколение – шестидесятники – проморгало хрущевскую перестройку и двадцать лет просидело по уши в дерьме. А может быть, все началось раньше и сейчас завершилось. Выросли внуки Павлика Морозова. Их научили отрекаться от родителей, затаптывать корни, нарушать заповедь: «Почитай отца и мать своих».
Ночь сгустила все зло в плотный мрак и накрыла с головой.
– Да просто ты ревнуешь, – растолковала Беладонна.
– Классическая свекровь, и все дела, – дополнила Лида Грановская. – Не ты первая, не ты последняя.
У Анны – две подруги со студенческих лет. Лида Грановская и Беладонна.
Лида – жена Грановского и сама по себе Лида. Грановский в последнее время в связи с перестройкой выбился в недосягаемые верха, а Анна осталась на прежнем месте. Это не помешало дружбе. Дружили все равно по душевной привычке.
В жизни Лиды все определилось с пятнадцати лет, с восьмого класса, когда классная руководительница приставила отличницу Лиду к неуспевающему Стасику Грановскому. Все началось тогда, тридцать лет назад, и продолжалось до сегодняшнего дня. Расстановка сил ясна: Грановский – солнце, Лида – луна. Остальной космос существует где-то отдельно от их жизни.
Беладонна означает: прекрасная женщина и еще какое-то желудочное лекарство. Беладонна – то и другое. Она самая красивая из трех. Но ее жизнь, как молодая планета, никак не может образоваться, устояться. То ледники, то оползни.
Беладонна – человек компромисса. Вышла замуж – до лучшего мужа.
Купила дачу – до лучшей дачи. И всю жизнь ждала эту лучшую дачу и лучшего мужа.
Известно, что временные мосты оказываются самыми постоянными. Беладонна ходила по временным мостам, неся в душе разъедающее чувство неудовлетворенности. Она жила как бы в обнимку с этим разъедающим чувством.
У Лиды жизнь стоячая, у Беладонны – текущая река. Анне необходимо было то и другое, в зависимости от того, чего просила душа: движения или благородного покоя.
Но сегодня были необходимы обе. Анна собрала подруг на совет. Сидели в кооперативном кафе. Пили кофе из автомата.
Анна полагала, что, выслушав ее, Лида и Беладонна схватятся за голову и громко закричат в знак протеста и солидарности. Но подруги отнеслись несерьезно. Задавали дурацкие вопросы.
– Ей сколько, сорок? – поинтересовалась Беладонна.
– Почему сорок? Девятнадцать, – ответила Анна.
– Проститутка?
– Что ты глупости говоришь? Учится в университете. На биофаке.
– Любит? Или по расчету, из-за прописки?
– На шею вешается, как кошка.
– Тогда что тебе не нравится? Объясни. Молодая, красавица, умница, любит…
Лида и Беладонна уставились на Анну. Анна напряженно молчала.
– Тебе ни одна не понравится, – заключила Лида.
– Почему это?
– Потому что тебе нравится Олег. Я даже удивляюсь, что ему удалось из-под тебя выскочить. Молодец. Мужик.
– Но ведь больно!
– Так он же хирург, – напомнила Лида. – Сейчас больно, потом будет хорошо.
– Не опошляй, – посоветовала Беладонна. – Первый брак – пробный брак. Через год разведутся. Сейчас все разводятся.
В груди Анны полыхнуло зарево надежды.
– А если не разойдутся? – осторожно проверила она.
– Значит, будут жить. Ты что, не хочешь счастья своему сыну?
Анна задумалась. А в самом деле… Должен же Олег когда-то жениться. Почему не Ирочка?
Тяжкая ночь как будто собралась в облачко и отлетела, рассеялась по небу. «За что?», «Почему?» – а нипочему. Полюбил – женился. Женился – привел в дом. Не в общежитие же им идти… Поживут – разведутся, сын достанется Анне. А уживутся – дай Бог счастья.
– А давайте выпьем шампанского, – решила Анна. – Все же событие.
Взяли бутылку.
Лица подруг стали еще роднее и прекраснее. И как бежит время. Недавно сами были в возрасте Ирочки, выходили замуж: Лида – за Стасика, Беладонна – за своего Ленчика, Анна – за Диму. Теперь, через тридцать лет, Димы нет. Ленчик есть, но его нет. Беладонна спровадила сына в армию, дочь замуж – и в новый брак. Захотелось свежего чувства.
– Ну как чувство? – полюбопытствовала Анна.
Беладонна вздохнула из глубины души. Любовь любовью, но полезли всякие побочные обстоятельства.
Дочка родила ребенка Павлика и уехала с мужем на Кубу. Там влажность. Павлик может пропасть, как растение, приспособленное для другого климата. Мальчика оставили Беладонне, и никуда не денешься, поскольку бабка. Внучок по ночам плачет, мешает всем спать. Беладонна его качает, прижимает к груди, затыкает рот ладошкой, как партизан на чердаке, когда внизу ходят немцы. И так жалко этого мальчика. И сама тоже плачет. А был бы за стеной собственный муж, родной дед Ленчик, – нравится, не нравится – терпи, да еще и люби. И сам вставай, и сам качай.
Новый мост, выстроенный в сорок пять лет, оказался неудобным для повседневной жизни. Вот ведь как бывает.
Анне стало жалко мальчика с маленькой желтоволосой головкой, которому зажимают рот ладонью, не дают плакать. И тоже захотелось маленького. Она будет его холить и лелеять и отвяжется от Олега и Ирочки. Пусть как хотят, так и живут. У нее будет свой собственный маленький Олег.
Потекла совместная жизнь. День нанизывался на другой день, как шашлык на шампур. Набирались месяцы.
Ни о каком ребенке не было речи, зато Олег купил видеомагнитофон. С рук. За бешеные деньги. Два года работы.
По вечерам дом превращался в караван-сарай. Гостиницу со скотом. Приходил курс Ирочки и ординаторская Олега. Сидели на всем, на чем можно сидеть, в том числе и на полу.
Анна вначале тоже пыталась приобщиться к мировому кинематографу, но хорошие фильмы случались редко. Зато бывали такие, которые запретил Ватикан, – столько там было безбожия и бесстыдства. Совестно смотреть, тем более рядом с молодыми людьми.
Анна уходила в кухню. Через какое-то время вся кодла перекатывалась в кухню: ели, курили, балдели. Анна отступала в свою комнату.
Она с удовольствием бы «побалдела» вместе с молодыми, послушала, о чем они говорят, что за поколение выросло. Но она была им неинтересна. Отработанный биологический материал. И Анна сама чувствовала разницу. Ее биополе – бурое, как переваренный бульон. А их биополе – лазоревое, легкое, ясное. Эти биополя не смешивались. Анна уходила в свой угол, как старая собака, и слышала облегченный вздох за спиной.
В первом часу ночи расходились по домам, оставив гору грязной посуды, пустой холодильник и серую сопку окурков в пепельнице.
У Анны возникли две новые проблемы: проблема денег и проблема сумок. Ирочка не готовила и не ходила по магазинам. Она училась в университете на биологическом факультете, и училась очень хорошо. Ее выбрали старостой группы. Олег тоже не ходил за продуктами и не готовил, потому что у него каждый день было по две операции. Не будет же человек, простояв две операции, еще стоять в очереди за сосисками.
А у Анны в неделе два присутственных дня. Остальное время – работа дома. Ну разве ей сложно пойти в магазин и приготовить обед на трех человек? Какая разница: на двух или на трех?
Гости? Но сейчас же не война и не блокада. Как можно не напоить людей чаем?
– Олег, нам надо разъехаться, – сказала Анна.
– Как ты это себе представляешь?
– Разменяться. Двухкомнатная квартира меняется на однокомнатную и комнату.
– Ты хочешь, чтобы мы жили в комнате?
– Можешь взять себе однокомнатную.
– А сама в коммуналку?
Анне не хотелось в коммуналку, но что делать?
– Мне трудно, Олег.
Анна прямо посмотрела сыну в глаза. В его глазах она увидела Ирочку. Сын счастлив. А от счастья человек становится герметичным. Чужая боль в него не проникает.
Ее, Анну, употребляют и не любят. Ею просто пользуются.
Хотелось крикнуть, как Борис Годунов в опере Мусоргского:
– Я царь еще! Я женщина!
– Отстань от них, – посоветовала Беладонна. – Живи своей жизнью.
Анна созвонилась с Вершининым и пошла в ресторан.
Вершинин заказал малосольную форель, икру. Он теперь был богат и широк, как купец, и торопился это продемонстрировать.
Анна незаметно спустила молнию на юбке. Противоречия последних месяцев так распирали Анну изнутри, что она расширилась. Растолстела. Вершинин ничего не замечал, поскольку был занят только собой. И тогда, и теперь. Но раньше он жаловался, а теперь хвастал. Его фирма хочет продавать финнам вторичное сырье, а на эти деньги построить гостиницу для иностранцев. Качать твердую валюту. Анна понимала и не понимала: финны, гостиница, валюта… Раньше встречались возле метро, заходили в булочную, покупали слойку за восемь копеек. Он рассказывал, чем она для него стала. А она слушала, заедая булкой. Чудесно.
А теперь белая скатерть. Малосольная форель. Про любовь – ни слова. Только сказал: «У нас появилось новое качество. Мы теперь умеем ждать». Появилось новое – ждать, потому что исчезло старое – страсть. Раньше не могли дня жить друг без друга, а теперь недели пролетают – и ничего. Ослабел магнит. Все очень просто.
Вершинин перешел от яви к мечтаниям. В мечтах он хотел взять кусок неосвоенной земли, скажем, Бурятию или Крайний Север, и произвести там экономический эксперимент. Страна внутри страны, с другим экономическим и даже политическим устройством. Как остров инженера Гарина. Блестели глаза. Лучились зубы. Никакого острова ему никто не даст, это понятно. Но какова мечта…
Вершинин похорошел. Однако раньше он был лучше. Он был ЕЕ, как Олег. А теперь Олег у Ирочки, Вершинин у бизнеса. А что же ЕЕ? Французский язык: je suis, tu est, il est. И это все.
– Значит, у тебя хорошее настроение? – подытожила Анна.
– Да нет, конечно…
Сейчас разговор съедет на сумасшедшую жену и двух девочек. Он ведь не может бросить сумасшедшего, а значит, беспомощного человека.
– А я не сумасшедшая? – спросила Анна.
– Ты нет. Ты умная. И сильная.
В этом все дело. Ее не жалко. Никому.
На горячее принесли осетрину с грибами. Анна ела редкую еду и думала о том, что дома – вчерашний суп. Мучили угрызения совести.
Домой вернулась с чувством вины, но квартира опять в народе, дым коромыслом и смех до потолка и выше – на другой этаж. Жарят в духовке картошку. Рады, что Анны нет дома.
– Я им не нужна, – сказала Анна Лиде Грановской.
– Ты им не нужна. Но ты им необходима.
Необходима… На этом можно жить дальше, какое-то время, до тех пор, пока не накалится температура до критического состояния и не рванет последним взрывом, от которого летишь и не знаешь – где опустишься.
– Ирочка, пусть ваши гости снимают обувь в прихожей.
– А может, у них носки дырявые, – заступилась Ирочка.
– Как это – дырявые?
– Ну нет у человека целых носков. На стипендию живут.
В самом деле, может быть и так: человеку предлагают снять ботинки, а он не может.
– Но у нас ковер, – напомнила Анна.
– Что вам, ковра жалко? – удивилась Ирочка. – Все равно он дольше нас с вами проживет.
«Нас с вами». Не сказала «вас», а взяла с собой в компанию.
– Ирочка, можно у тебя спросить?
Ирочка напряглась, как перед ударом.
– Вы скрыли от меня вашу свадьбу…
– Олег скрыл, – уточнила Ирочка.
– Но ты не должна была допустить.
– Это его отношения с матерью. Почему я должна вмешиваться?
– Ты тоже будешь мать. И представь себе: твой сын не позовет тебя на свадьбу.
– Почему? – спросила Ирочка.
– Ну… – Анна поискала слово. – Испугается…
– Вот именно. – Ирочка одобрила слово. – Надо, чтобы сын не пугался своей матери. Вы ведь любите его для себя. Чтобы ВАМ было хорошо, а не ему.
Это новость.
– И мне его очень жаль, – заключила Ирочка.
Новость номер два. Олег, оказывается, одинок и не понят в своем доме. Но она, Ирочка, протянула ему руки. Их двое, как в вальсе. Кружат по голой планете.
– Предположим, я плохая мать. Но почему ваших родителей не было на свадьбе?
Ирочка не ответила.
Существуют ли они, эти родители? Или только в принципе? Кто она? Из каких корней? Из какого сада-огорода?
– Я не слышу, – поторопила Анна.
– А я молчу.
Человек если не хочет – может не отвечать. Он же не на суде. Даже президенты на пресс-конференции могут промолчать, если им не нравится вопрос. Если он кажется им бестактным. Но здесь не суд. И не пресс-конференция.
– Почему ты молчишь?
Вместо ответа Ирочка вытащила из-под кровати дорожную сумку, молча побросала туда свои вещи и молча ушла. Захлопнула за собой дверь.
На все это понадобилось пятнадцать минут времени. Последнее, что видела Анна, – зад Ирочки, обтянутый джинсами, похожий на две фасолины.
Олег вернулся с работы. Достал с антресолей чемодан, положил туда четыре пары обуви, видеомагнитофон, кассеты. Все остальное было на нем. На его сборы ушло двадцать пять минут. И там пятнадцать. Всего сорок.
Сорок минут потребовалось на то, чтобы разрубить конструкцию: мать – сын.
Жизнь разделилась пополам: ДО и ПОСЛЕ.
Эти две жизни отличались друг от друга, как здоровая собака от парализованной. Все то же самое: голова, тело, лапы – только ток не проходит.
Анна была как будто выключена из сети. По утрам просыпалась, пила кофе. Кофе она варила замечательный, но не чувствовала аромата. Какая разница – что пить, можно и сырую воду. А можно вообще ничего не пить.
После завтрака по привычке включала кассету Высоцкого. Он заряжал ее на работу. Но сейчас Анну укачивали однообразные хрипловатые крики. В жизни ПОСЛЕ – повышался оценочный критерий. Ничего не нравилось, никому не доверялось.
Выключив магнитофон, Анна садилась за работу.
Подстрочный перевод – это полдела. Он передает содержание, а не автора. Надо услышать авторскую интонацию, общую тональность. В мозгу должен прозвучать звук – скажем, «ля» – камертон данной вещи. И если это услышишь – тогда есть все: и автор, и таинство творчества, и языковой код. Анна как бы перемещалась во французского писателя – слышала его голос, вбирала энергетику души. Счастливые люди – творцы. У них другое бессмертие. Они не зависят от детей так напрямую.
В жизни ПОСЛЕ Анна сидела за столом, как чурка с глазами. Пыталась вникнуть в интонацию, но мозги затянуло липким туманом.
Да и зачем нужен этот перевод? И почему именно Анна должна переводить? Без нее обойдутся. Этих переводчиков как собак нерезаных.
Язык, кстати, связан с ландшафтом. В Армении гористая местность и слова – тоже гористые. Может встретиться фамилия, где пять согласных подряд: МКРТЧЯН. А в Эстонии равнинная местность. Там такие слова: СААРЕМАА… Северные языки протяжные. К югу ускоряются. Французский язык набирает скорость, а испанский уже сыплет, как горох на блюдо.
Но при чем тут Мкртчян, горох? А ни при чем…
Просто работать не хочется, есть не хочется. Жить не хочется. Еще немножко – и превратится в призрак. Все видит, но ни в чем не участвует.
– Ты должна была ее полюбить. Взять на душу, – сказала Лида Грановская.
– С какой такой стати? – не поняла Анна.
– Если ты любишь сына, а сын Ирочку, ты должна любить то, что любит твой сын.
– Значит, Ирочку будут любить и я, и Олег. А меня никто. Меня только терпеть, зажав нос.
У Анны выступили на глазах злые самолюбивые слезы.
Еще полгода назад этой Ирочки не было в природе. То есть она где-то была – в Ставрополе или в Мариуполе, так далеко от их жизни. И вот явилась, проникла в дом, впилась, как энцефалитный клещ, – отравила, убила, стащила сына.
Ненависть забила горло. Пришлось вдохнуть поглубже, чтобы пробить ненависть.
Сидели на даче у Лиды Грановской. В окно смотрели елки под тяжелым снегом. Как обидна, как оскорбительна ненависть, когда под небом такая красота…
Интересно, а у природы есть ненависть? Может быть, землетрясения? Извержения вулканов? Штормы на море?
Лида Грановская выкладывала в камине дрова.
– У тебя была свекровь? – спросила Беладонна.
– А что? – не поняла Анна.
– Интересно, ты как к ней относилась?
Анна добросовестно вспомнила свою свекровь. Димину маму. Когда они познакомились – Анне было девятнадцать, а свекрови сорок семь. Между ними – двадцать восемь лет. Целая сознательная жизнь. Добролюбов за это время успел состояться и умереть. Но при чем тут Добролюбов… Свекровь казалась Анне сильно пожилой: на теле лишние куски, на лице лишние заломы, под глазами мято, будто пергаментную бумагу пожулькали в кулаке, а потом разгладили ладонью. Анна прослышала: в молодости у свекрови был крутой роман с кем-то значительным, она любила, и ее любили. Но Анне трудно было это представить.
Первое время жили вместе. Свекровь мощно метала свое тело то туда, то сюда, из комнаты в кухню и обратно. Ставила тарелки, выносила тарелки. Выражала какие-то свои мысли, которые вполне могла держать при себе. От этого ничего бы не изменилось. Анна слушала вполуха, никогда не возражала, не грубила, не приведи Господь… Была равнодушно-вежлива. И это все.
– Ты ее любила? – спросила Беладонна.
– Терпела.
– Ну вот, и тебя терпят. Закон бумеранга. Как ты, так и к тебе.
– Неужели передается? – с мистическим испугом спросила Анна.
– А как бы ты думала…
Лида Грановская обложила дрова газетами.
– Просто вам не надо было жить вместе. С самого начала, – поставила диагноз Лида. – На Западе вместе не живут.
– А куда я их дену? У нас двадцать семь метров на троих. Норма. Нам никто ничего не даст.
– Этот развитой социализм кого хочешь заложит, – заключила Лида и поднесла спичку.
Огонь занялся сразу. В камине весело загудело.
Разлили по рюмкам яичный ликер. Лида сама приготовила из сгущенного молока, водки и яичных желтков. Лида придумывала не только еду, но и напитки.
Грановский отсутствовал в очередной загранице. Последнее время он разъездился. Капиталистический ученый мир просто вырывал его друг у друга. Друзья шутили, что в таможенной карточке в графе «профессия» он писал «вел. уч.» – что значило «великий ученый». Его так и звали. «Велуч».
Помимо основной науки, Велуч завел себе хобби: сочинять лозунги бастующим – армянам, молдаванам, шахтерам – в зависимости от исторического момента. Лозунги были эмоциональны, научно-корректны. Точно и упруго выражали основную мысль.
Лида выполняла роль фильтра, пропуская через себя воображение мужа. Ненужное и лишнее отбрасывалось. Это было своеобразное соавторство. Они любили друг друга с восьмого класса средней школы, в общей сложности тридцать лет. С любовью ничего не делалось, она не переживала кризисы, не хирела, не мелела. Наверное, так и должно быть. Проходит что-то другое, не любовь. А настоящая любовь проходит вместе с человеком.
Анна смотрела на огонь, и ей хотелось любви. Был бы рядом человек – не страшна никакая Ирочка. Он сидел бы сейчас рядом и смотрел вместе с ней на огонь.
– А где они паркуются? – спросила Беладонна.
– Снимают, наверное, – предположила Анна.
– Почему «наверное»? Ты что, не знаешь? Они не звонят?
Лида вглядывалась в Анну. Анне было стыдно сознаться в том, что сын бросил ее и не звонит, и если бы она заболела или даже умерла – он узнал бы об этом с опозданием и от третьих лиц.
Анна молчала.
– Все-таки дети сволочи! – подытожила Беладонна.
– А как мы к своим матерям? – спросила Лида.
Огонь был привязан к дровам и устремлялся вверх, как будто хотел оторваться от основания. Так и люди – привязаны к корням, а рвутся вверх и в стороны.
…Анна отдавала матери маленького Олега на три летних месяца. Выезжали на дачу. Мать батрачила, носила воду из колодца, готовила на керосинке. И в один из таких месяцев получила страшный диагноз. Анна приезжала каждую субботу и спрашивала:
– Ну как Олег?
– А ты не хочешь спросить: как я?
Мать скрывала диагноз. Видимо, не хотела огорчать и не рассчитывала на поддержку. Она прошла эту дорогу одна.
Родительская любовь не возвращается обратно. Движется в одну сторону. К детям.
Мать любила Анну больше всех на свете. Анна так же любила своего сына. Сын будет любить свою семью, Анне останутся какие-то ошметки. Родители – отработанный материал. Природа не заинтересована в том, что отжило и больше не плодоносит. И надо обладать повышенными душевными качествами, чтобы любить детей и родителей одинаково.
У Анны не было этих качеств. Значит, и у Олега нет.
За окном смеркалось. С елки упал снег, освобожденная ветка закачалась.
Жизнь справедлива, если подумать. И человек получает возмездие за свою вину. Анна получила за мать и за свекровь. От Олега и от Ирочки. Сработал закон бумеранга.
– У меня нет детей. Знаете почему? – вдруг спросила Лида. – Мой прадед был пастухом и изнасиловал дурочку.
– Какую дурочку?
– В деревне дурочка жила. Ее никто не трогал. А он посмел. Деревня его прокляла. На нашем роду проклятие.
– Значит, прадед виноват, а ты должна платить, – скептически заметила Беладонна.
– Должна, – серьезно сказала Лида. – Кто-то ведь должен. Почему не я?
– Ерунда! – отвергла Беладонна. – Некоторые всю жизнь насилуют дурочек. И ничего. Живут.
Дрова распались в крупные угли. Пламя неспешно писало свои огненные письмена. Три женщины смотрели на огонь, как будто пытались прочитать и расшифровать главную тайну жизни.
Так, наверное, сидел в поле у костра продрогший молодой пастух-прадед. А неподалеку бродила молодая спелая дурочка.
Олег Лукашин, хирург городской больницы, шел к своей матери после семимесячного перерыва. Семь месяцев. За это время может родиться ребенок. Живой, хоть и недоношенный. Говорят, что Наполеон был семимесячным.
Олег шел к матери пешком – до метро. Спускался в метро. Качался в вагоне. Плыл на эскалаторе. Выплывал на земную твердь возле Киевского вокзала. Ждал автобуса, автобус не шел. Такси в этом месте не останавливалось. У них за углом была официальная стоянка. К стоянке – очередь, как митинг неформалов. Проклятое какое-то место.
Черноволосые люди продавали гвоздики. Цветы стояли в стеклянном аквариуме, и там горели свечи. Видимо, так защищают от холода хрупкое временное цветение. Все очень просто. Но Лукашину вид свечей и цветов напомнил церковную службу. В подмосковной церкви. Батюшка был старый, неряшливый и грубый. Застойный батюшка. Поп-бюрократ. А старухи – настоящие. Но при чем тут это?
Думать связно Лукашин не мог ни о чем. Какие-то обрывки мыслей, ощущений. Он стоял на привокзальной площади, как голый нерв, а вокруг творилась грубая жизнь, которая цепляла этот нерв и закручивала.
Надо бы напиться, но не помогает. Когда напивался – кричал не про себя, а громко. Соседи прибегали, грозились милицией.
…Она сказала: хочу собаку.
Хочешь собаку – купим. Будет тебе собака. Если бы он тогда не согласился: «Ну вот еще, зачем нам собака? Что сторожить? У нас и дома-то нет».
Но он сказал: купим.
Утром выходили из квартиры. Ирочка зацепила плащом за острый угол мусоропровода. Плащ затрещал, порвался. Они остановились. Вместе рассматривали отвисший лоскут, похожий на собачье ухо. Ирочка расстроилась. Личико стало растерянное. Плащ фирменный, навороченный, с примочками – Ирочка им гордилась. После Олега плащ был самым престижным в ее жизни.
Ирочка – обыкновенная женщина. И за это Олег ее любил. Он так соскучился по естественности, обыкновенности. Все вокруг – личности, понимаешь… А вся эта личность – не что иное, как самоутверждение за счет других, и в том числе за его счет, Олега Лукашина. «Смотри, какая я вся из себя уникальная, а ты – совковый мэн». «Совки» – от слова «советы». Значит, советский мужчина. Ни денег от тебя, ни галантного обхождения, и в совках – бардак.
А Ирочка – как роса на листке. Как березовый сок из весенней березы. Он целовал ее в растерянное личико, утешал. Ирочка была безутешна. Потом отвлеклась от своего плаща, включилась в поцелуй. Они стояли возле мусоропровода и пили друг друга до изнеможения.
– Давай вернемся, – пересохшим голосом сказал Олег. Если бы они тогда вернулись, не поехали на Птичий рынок – все было бы иначе.
Но поехали. Купили. Ирочка взяла в руки теплый комочек и не смогла отказаться.
– Какая это порода? – спросила Ирочка у хозяина.
– Дворянин.
– Дворняжка, – перевел Лукашин. – Давай еще походим, посмотрим.
– Смотри, какой он дурак. – На лицо Ирочки легло выражение щенка. Они уже жили одной жизнью.
Такси искали долго. Сейчас таксисты вообще с ума сошли. Не возят население. Не нужны им трешки и пятерки. Договариваются с кооператорами на целый день и получают сразу круглую сумму. Что им народ? Для них люди – мусор.
Взяли частника. Милый такой парень. На свою маму похож, наверное. Мужская интерпретация женского лица. А может быть, если бы дождались такси, все бы обошлось. Таксисты – опытные водители. Таксист бы увернулся. А частник не увернулся. И «рафик» ударил его прямо в лоб. Лукашин увидел этот летящий на них «рафик» – сердце сжалось, душа сжалась, тело сжалось – до стальной твердости. Лукашин превратился в кусок металла.
Но что-то было до этого. Что-то очень важное. А… Ирочка сказала:
– Смотри, как сверкают купола.
Частник, милый парень, объяснил:
– Их недавно позолотили.
Ирочка сказала:
– Олег, давай поменяемся, мне отсюда не видно.
Ирочка с щенком на коленях сидела сзади. А он возле шофера. Она сказала: «Давай поменяемся».
Шофер остановил машину. Они поменялись местами. Ирочка села возле водителя, а Олег сзади.
«Рафик» ударил в лоб и убил шофера, милого парня, похожего на свою маму. Его вырезали автогеном. Иначе было не достать, так заклинило двери.
Ирочку он достал сам. Кровь свернулась, была густой и липкой. Белые шелковые волосы в ржавой и липкой субстанции. Люди столпились, разинули рты. Что, не видели, как человек умирает? Нате, смотрите… Лукашин тянул рыжие от крови руки.
Но что-то было перед тем… Что-то очень важное. А… он не должен был пересаживаться. Когда она сказала: «Давай поменяемся», – надо было ответить: «Да ладно, сиди, где сидишь». Они бы не остановились и проскочили тот поворот. Три минуты ушло на пересадку. А за три минуты они миновали бы поворот, за которым стояла смерть. За кем она охотилась? За шофером? За Олегом? За кем-то из них. За Олегом. А Ирочка подставилась. И прикрыла. Взяла на себя. Теперь он есть. И ее почти нет.
Олег рвался в операционную, говорил, что он хирург. Говорил нормальным голосом, но все вокруг его почему-то боялись. Не пустили. Потом он бежал по лестнице. Стоял у грузового лифта. Лифт открылся, выкатили носилки с Ирочкой. Голова в бинтах, глаза закрыты, личико оливковое, бледное до зелени. И какое-то жесткое, как будто вытащили из морозильной камеры. Не она. Но она.
Он шел к ней и не мог ухватить. И не удержал. И она разбилась. Вот в чем дело. Он ее не удержал. Она доверилась – на! А он не удержал.
…Свечи под стеклянным колпаком. Цветы и свечи.
Однажды в театре шли по лестнице. Кончился спектакль. Спускались в гардероб. Он впереди. Она сзади. Он спиной чувствовал, что она сзади. И вдруг стало холодно спине – холодно-знобко. Обернулся. Ирочка отстала, и кто-то другой прослоился, оказался за спиной. Ирочка шла через человека. Олег дождался, взял ее за руку. Только он и она. Одно целое. И никого в середине – ни матери, ни друга. Одно целое. Так было. Есть. И будет. Она взяла на себя его смерть. Он возьмет на себя всю ее дальнейшую жизнь, какой бы она ни была, эта жизнь. Мать поможет. Матери сорок семь. На тридцать лет ее еще хватит.
Мать… вечно чем-то недовольна, что-то доказывает. Навязывает. А каждый человек живет так, как ему нравится. Как он может, в конце концов…
Олег вспомнил несчастное лицо матери, как у овцы на заклание. Жалость и раздражение проскребли душу. Но ненадолго. Он не мог ни на что переключиться. В его организме, как в компьютере, были нажаты одновременно все кнопки: и пуск, и стоп, и запись, и память. Мигали лампочки тревоги: внимание, опасность. Но уже шел раскрут. Сейчас все взорвется.
Подошел троллейбус. Олег втиснул себя в человеческие спины. И сам для кого-то стал спиной. Как много людей. И почему судьба выбрала именно Ирочку – такую молодую и совершенную, созданную для любви? Какой смысл? Никакого. Судьба – скотина. Она тупо настаивает на своем. Но он, Олег, сам сделает свой выбор. Если Ирочка умрет, он не останется без нее ни минуты. Он уйдет с ней и за ней. Как тогда, на театральной лестнице. Вместе. За руку.
От этой мысли стало легче. Это все-таки был выбор. Какая-то альтернативная программа.
– Пробейте мне билет, пожалуйста, – попросили Олега.
Вокруг варилась жизнь, пустая, бессмысленная. В ней надо было участвовать.
Олег взял билет. Положил на компостер. Нажал.
Анна смотрела телевизор, когда в дверях повернулся ключ и вошел Олег.
Он вошел. Снял ботинки. Надел тапки, глядя вниз. Как будто не было семи месяцев разлуки, ведра слез и километра нервов, намотанных на кулак. Пришел домой. Раздевается. Устал. Глаза странные, будто в них кинули горсть песка. Не спал. Может, пил. А может, и то и другое. Пил и не спал. То и другое. И третье. Про третье говорить не будем. Дело молодое.
Анна приняла условие игры. Олег пришел, будто ничего не случилось. Значит, и у нее ничего не случилось.
– Тебя кормить? – спросила Анна.
Он не ответил. Правильно, что спрашивать…
Анна прошла на кухню. Налила тарелку борща. Борщ она варила потрясающий: овощи тушила отдельно. Потом заливала бульоном. Выжимала целый лимон и головку чеснока.
Олег взял ложку и стал есть. Ел, как в детстве, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Его свитер был жесткий от грязи, и весь Олег был какой-то жесткий, грязный, небритый, как бомж.
Поднял глаза на мать и сказал:
– Хорошо горячее.
– А тебя что, дома не кормят? – спросила Анна как бы между прочим.
Олег так же между прочим промолчал. Конечно, он не питается. Он закусывает и перекусывает. И много работает. Никакого здоровья не хватит на такую жизнь.
– Вы где живете? – спросила Анна.
– Снимаем.
По телевизору шла передача со съезда. Доносился резкий, высоковатый голос депутата Собчака.
– Сколько стоит квартира? – спросила Анна.
– Сто рублей.
– Я могу платить, – сказала Анна.
– Не надо.
– Я возьму пару учеников. Мне это не трудно.
– Не надо, – повторил Олег.
Вот, значит, как обстоят дела. Не хотят пользоваться ее услугами: ни кошельком, ни территорией. Ирочка не хочет. И Олегу запретила.
– У меня к тебе дело, – сказал Олег.
Ах, все-таки дело. Все-таки не полная блокада.
– Я забираю Ирочку из больницы…
– Она в больнице? – удивилась Анна. Хотя что тут удивляться. Молодые женщины, которые хотят спать с мужчинами, но не хотят рожать детей, довольно часто попадают в больницу. По три раза в году.
– Какое-то время она поживет здесь. У тебя. Ее нельзя оставлять одну. А я работаю.
Тысячи женщин делают аборты и на другой день выходят на службу. Почему за Ирочкой нужен особый уход? Странно.
– Но я тоже работаю, – напомнила Анна.
– Ты можешь работать дома. А я не могу. Я должен быть в операционной.
– А Ирочка согласна? – осторожно спросила Анна.
– Ирочка больна. Ей нужна помощь.
– Значит, вы используете меня как рабсилу?
– Я тебя не использую. Я тебя прошу.
– Почему бы тебе не нанять тетку? Дай объявление в «Вечерку»: требуется женщина для ухода за больным.
– У меня нет денег на тетку. И на квартиру. И я не доверю Ирочку чужим рукам.
– Извини, Олег. Но мне твоя Ирочка не нужна ни больная, ни здоровая.
Олег поднял голову, смотрел на мать, как будто не понял сказанного. Как будто она ему сказала по-французски, а он не может перевести.
– Я тебе не верю, – тихо сказал Олег. – Это не ты говоришь. Ты очень хороший человек. Я знаю. У меня никого нет, кроме тебя…
Анна заплакала, опустив голову. Стала видна непрокрашенная седая макушка.
– Мы попали в автомобильную катастрофу, – бесцветным голосом сказал Олег. – Шофера убило. Ира калека.
Анна перестала плакать. Подняла голову.
Мозг отказывался переработать информацию. Но на глаза, как казалось, надавили изнутри. Они вылезли наружу, и все лицо переместилось в глаза.
– А ты? – выдохнула Анна.
– И меня убило, мама, – просто сказал Олег. – Разве не заметно?
Ирочку привезли в среду.
Олег внес ее на руках в свою комнату и положил на диван.
Анна готовилась к встрече, преодолевая внутреннее напряжение. Ненависть все-таки существовала в ней – не остро, а как хроническая простуда. Надо было как-то замаскировать эту ненависть, забросать словами, улыбками, приветствиями.
Но ничего не понадобилось. Ирочка лежала на диване. Олег взбил под ней подушку, приспособил так, чтобы Ирочка полусидела.
Голова ее была обрита наголо, повязана косынкой, как у баб на сенокосе. Голубые большие глаза, как пустые окна, – не выражали ничего. Было неясно: осознает она происшедшее с ней или разум ее отлетел, присоединился к мировому разуму и существует отдельно от нее.
Анна застыла в дверях и впервые за все время их знакомства испытала человеческое чувство, освобожденное от ревности. Это чувство называлось СОстрадание. Сострадание съело ненависть, как солнце съедает снег. Осталась влажная пустота.
…Ирочка шла по незнакомой планете. На ней не было людей. Домов. Под ногами серо-черное и пористое, как пемза. Было больно ногам и неудобно дышать. От недостатка воздуха болела голова. Хотелось перестать идти. Лечь. Но ее кто-то ЖДАЛ. Очень важный. Очень ждал. И если она ляжет, то не поднимется. И не дойдет. А надо идти. Больно ногам. И голове. Шаг… Еще шаг… Еще…
Олег сидел возле дивана на полу и смотрел на жену. Не отводил глаз. Он был похож на горящий изнутри дом, когда стены еще целы, но из окон уже рвется пламя.
Еще секунда – и прямым факелом в небо. Надо было как-то спасать. Облить водой.
– Тебе сегодня надо на работу? – спокойно спросила Анна.
– Что? – Олег повернул к ней лицо.
– Я говорю: на работу надо?
– Я не пойду.
– Люди болеют, ждут. Нехорошо.
– У меня своя боль.
– А это никого не волнует.
– Да, – согласился Олег. – Это никого не волнует. Мы одиноки в нашем несчастье, мама.
– А люди всегда одиноки в несчастье, – сказала Анна. – Ты просто не знаешь.
Анна как будто поливала сына холодной водой. Охлаждала. Успокаивала.
– Иди, – сказала она. – Я справлюсь.
Олег поднялся, вышел из дома.
Вернулся с собакой: видимо, машина ждала его внизу.
Бросил собаку на пол.
– Я поеду… – Он поцеловал мать. Притиснулся лицом на секунду, на долю секунды. Но ведь больше и не надо. Сомкнулась порванная орбита. Они снова вместе: мать и сын. Ирочка развела. Ирочка соединила.
Собака ходила по комнате. Она была какая-то кургузая, и, когда двигалась, ее зад заносило в сторону.
Собака понюхала ковер, облюбовала себе место и присела по своим делам. Окончив начатое – отошла.
Анна тупо посмотрела на то, что оставила собака. Долго стоять и размышлять не имело смысла. Надо было двигаться и действовать и что-то делать.
Анна взяла метлу, совок и мокрую тряпку. Надо было действовать. А значит, жить.
На другой день Олег привел травника. Это был человек лет сорока – немножко толстый, немножко неопрятный, с большим процентом седины в волосах и бороде. Волосы и борода не причесаны, а просто приглажены. Встал человек утром и пригладил руками волосы. Имеет право. Но все это мелочи. Главное в травнике – то, что не брал денег. Значит, целитель, а не шабашник.
Травник достал пузырек зеленоватого цвета с каким-то настоем, стал объяснять его состав и суть лечения. Анна не особенно понимала, она была туповата в химии и биологии, а заодно и в физике. Она, например, до сих пор не понимала, что такое электричество и как выглядит ток.
Травник изучил воздействие какого-то фермента живой природы на фермент внутри человека. При длительном, мягком, волнообразном воздействии восстанавливаются разрушенные рефлексы.
Принимать капли надо по сетке.
В шесть утра, с восходом солнца, надо дать первую каплю, разведенную в чайной ложке воды. Далее каждый час прибавлять по одной.
И так далее до полудня. До двенадцати часов дня, до седьмой капли. Начиная с тринадцати – капли убывают по одной.
В восемнадцать часов – последняя капля. И перерыв до следующих шести утра.
Каждый день – цикл. Вдох и выдох. Первая половина дня – вдох, вторая – выдох. И ни в коем случае нельзя пропустить хотя бы один прием или нарушить последовательность капель.
– А поможет? – спросил Олег.
– Хуже не будет. Либо нуль, либо плюс.
Олег жадно смотрел на травника, пытаясь вникнуть в его прогноз.
– Либо без изменений, либо положительная динамика, – повторил травник.
Он не давал гарантий.
Анна – сова. Для нее встать в шесть утра – равносильно… чему равносильно? Ничему. Просто катастрофа, и все.
Можно было бы спросонья дать первую каплю и рухнуть досыпать. Но в семь надо опять вскакивать. Как матрос на вахте.
Можно будить Олега. Пусть встает и капает. Но Олег в восемь уходит из дома. У него операционные дни. В руках жизни человеческие. Что же, обречь его на дрожащие руки?
– А сколько длится весь курс? – спросила Анна.
– Девять месяцев, – ответил травник. Девять – вообще мистическая цифра. За девять месяцев вызревает человек. На девятый день отлетает душа.
Девять месяцев… Анна окинула мыслью это временное расстояние. Двести семьдесят дней выкинуто из жизни. Так ли много у нее осталось, чтобы выкинуть двести семьдесят дней…
Анна вздохнула.
– Вы привыкнете, – ласково и спокойно сказал травник. – Это хороший режим. Поверьте. Человек должен рано ложиться и просыпаться с восходом солнца. Вместе с природой. Как растение.
– Но я же не растение, – воспротивилась Анна.
Олег вскочил со стула, как будто в нем развернулась тугая пружина.
– Учти, если она умрет, я тоже умру.
Анна понимала: правда. Они сейчас скованы одной цепью. И если Анна хочет вытащить сына, она должна тащить Ирочку.
– А что я такого сказала? – Анна наивно округлила глаза. – Я только сказала, что я не растение, и больше ничего.
Потекли капли: одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна…
Часы и капли – вот что составляло ее жизнь.
Часы и капли – механическое, не интеллектуальное занятие. Отсутствие творчества и равноценного общения выматывало больше, чем бессонница.
Анна вставала на рассвете. Больше не ложилась, но и не просыпалась до конца. Пребывала в состоянии анабиоза, как муха в спячке. Вяло ползала по стенам. Она присутствовала в этой жизни и не присутствовала. И в чем-то приблизилась к Ирочке.
Три неприятеля шли на Анну, выкинув штыки.
Недосып – угнетенность тела. Недообщение – угнетенность духа. И отсутствие конечного результата: Ирочка лежала бревно бревном. Было непонятно: образуется у нее новая память или нет?
– Зачем тебе это надо? – искренне удивилась Беладонна. – Это же как с грудным.
– С грудным – понятно. Человека растишь. Сейчас уродуешься, потом человек получится. А это что? – Лида непонимающе смотрела на Анну.
– А что же делать? – спросила Анна.
– Сдай государству, – нашла выход Беладонна. – В интернат.
– Знаю я эти интернаты. Там можно с ума сойти.
– Так Ирочке же… извини, не с чего сходить. Она же не соображает, – напомнила Беладонна. – Какая ей разница – ГДЕ?
– А так и она не живет, и ты не живешь, и Олег, – поддержала Лида Грановская.
Разговор происходил на приеме в посольстве. Грановского приглашали к себе все послы, но он игнорировал приглашения. Ему были скучны эти необязательные общения, фланирования по залу, пустые разговоры. А Лида – напротив, тяготела к светской жизни, суете и тусовке и приобщала своих подруг. Подруги не ездили за границу, для них прием в посольстве – окошко в капитализм. Высунутся, посмотрят – и обратно. Все лучше, чем ничего.
Посол с женой встречали гостей. Возможно, они отмечали отсутствие господина Грановского. Вместо господина Грановского стояли три малосущественные женщины. Но посол одинаково любезно здоровался с Лидой, и с Беладонной, и с послами других государств. Тою же рукой, с тою же улыбкой.
Беладонна таращилась во все глаза. Мечтала сменить новый мост на еще более новый.
Анна незаметно перебирала глазами присутствующих.
Неподалеку стояла высокая элегантная женщина в смокинге. Такие смокинги носят швейцары в дорогих гостиницах и дирижеры оркестра. Но самое любопытное в женщине не смокинг, а возраст. То ли сорок, то ли девяносто шесть. Лицо перешито несколько раз, и кое-где образовались вытачки, как на ткани. Руки в крупных пигментных пятнах. Все-таки девяносто шесть. Но сколько шарма…
– Смотри… – Анна толкнула Беладонну.
– Где? – не поняла Беладонна, поскольку смотрела только на мужчин.
Официантки – все работники УПДК – носили на подносах еду: бутерброды величиной с юбилейный рубль и напитки – какие хочешь – виски, кампари, куантро… От одних слов опьянеешь. Анна перепробовала все подряд и опьянела.
Прием был совмещен с показом мод. Стулья расставили у стен, и по центру зала пошли манекенщицы, демонстрируя верхнюю одежду из кожи. Какой-то известный западный модельер привез свою коллекцию.
Анна всегда знала: зимняя одежда защищает от холода. Нет. Оказывается, одежда может быть произведением искусства, как, скажем, картина Пикассо. И ее можно надеть на себя и носить. Манекенщицы, молодые девки, роскошные, наглые, шли каким-то милитаризованным строем, как в наступление. Шли, выламывая бедра, синхронно ступая, неся тайны своего тела. А Ирочка – не хуже. Лучше. А вот лежит бревно бревном. И Олег мог бы морочить головы этим девкам. А вот сидит возле Ирочки, будто сам парализованный.
А она… Анна… У нее никогда не будет такого пальто, и таких ног, и маленькой задницы. И никто из этих мужчин не позовет ее в кино и не скажет в темноте: «Я люблю тебя, я умираю…»
Анна заплакала.
– Ты чего? – толкнула ее Лида.
– От зависти, – тихо объяснила Беладонна.
И это было правдой. Не столько от зависти, сколько от печального сознания: у нее никогда ничего не было. И уже не будет. Только одна капля, две капли, три капли…
Анна вернулась домой, не протрезвев. Олег был на дежурстве. Ирочка спала.
– А я пьяная, – доверчиво сообщила Анна собаке. Надо же было с кем-то разговаривать.
Собака сильно выросла и за два месяца превратилась в здоровенную лохматую дуру. Похоже, один из ее родителей – ньюфаундленд. Из тех, кто в горах спасает людей. Собаку выгоняли в коридор. Там было мало места, негде развернуться, и собака двигалась, как маневровый паровоз по рельсам: вперед – назад.
Анна села к телефону и набрала Вершинина. Позвонила прямо в сердце семьи, что против правил. Подошел он сам. Услышала его голос.
– Привет, – поздоровалась Анна. – А я сейчас посмотрела в зеркало. У меня такая морщина на лбу, что в нее вполне может залезть немец, как в траншею, и отсидеться. И его не будет видно.
– Пьяная, что ли? – догадался Вершинин.
– Ага… – созналась Анна.
– Я тебе позвоню, – тихо-заговорщически пообещал Вершинин. И вдруг бодрым голосом произнес: – Да, да…
Это значило – появилась жена.
Ирочка шла по незнакомой планете и вдруг оказалась в квадрате.
Стены квадрата были в клеточку. Посреди – что-то лохматое. А в углу – не лохматое и возвышающееся. Ирочка с удивлением всматривалась. Когда-то она это видела. Ирочка напряглась. Заболела голова. КОМНАТА, вспомнила она. СОБАКА. ЧЕЛОВЕК. И она тоже ЧЕЛОВЕК. Но в углу не она. Значит, кто?
Девять часов утра. Анна отсчитала четыре капли, подняла голову и вдруг увидела, что Ирочка смотрит на нее. Не вообще, а именно на нее. Рассматривает. Это было так неожиданно, что Анна вскрикнула.
Люди кричат от ужаса и от противоположного чувства, которое на другом конце ужаса. Как оно называется, это противоположное чувство? Счастье? Пожалуй, от укола счастья, от его мгновенного воздействия.
Анна вскрикнула. Собаке тут же передался ее ликующий заряд. Она вскочила и, обезумев от возбуждения, лизнула Анну горячим языком по лицу. Потом метнулась к Ирочке и лизнула Ирочку.
По пятнадцатиметровой комнате большим мохнатым шаром металось чистое ликование.
Анна схватила телефонную трубку. Надо было сообщить Олегу генеральную новость жизни.
Недосып, недообщение, часы и капли, ее труд и терпение – все сомкнулось в одно и теперь называется – ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА.
К телефону не подходили. Потом голос Петраковой задушенно сказал:
– Перезвоните позже. У нас совещание.
Анна хотела крикнуть:
– Да не могу я позже, какое к черту совещание!..
Но Петракова бросила трубку.
– Проститутка, – сказала Анна. И это о заведующей отделением Юлии Александровне Петраковой.
Анна вдруг испугалась, что положительная динамика ей показалась. Она вернулась в комнату.
Ирочка спала. Видимо, новые впечатления оказались ей не по силам. Личико было бледным, как снятое молоко.
«Без воздуха, без движения», – подумала Анна и услышала в себе какое-то новое чувство. Раньше Ирочка существовала для Олега. А теперь – она сама по себе Ирочка. Несчастная молодая женщина. Почти девочка. Совсем беззащитна. Ее можно не накормить, и никто не узнает.
Как же она пойдет в жизнь? И что с ней будет, если Анна умрет?..
Олег сидел на диване у ног Ирочки и смотрел телевизор. Передача «600 секунд» сообщала, что один «мэн» по фамилии Прохоров нанял другого за пять тысяч убить человека. И тот убил. А передача «Добрый вечер, Москва» рассказывала, что морги переполнены, трупы негде хранить и их объедают крысы. Диктор сказал: грызуны.
Зачем ему, Олегу, это знать? Когда он умрет, ему все равно – объедят его грызуны или нет. А живым – страшно жить и умирать страшно.
Олег уже пресытился безобразиями нашей жизни и предпочитал смотреть видео. Но сегодня кассету достать не удалось. Не получилось.
У Петраковой дома целая видеотека.
Олег сказал:
– Дай что-нибудь посмотреть.
Она сказала:
– Поедем, выбери, что хочешь.
Из корпуса вышли вместе. Шел проливной дождь. На земле снег. А сверху – дождь.
– Кончилась зима, – сказала Петракова.
На ней было надето что-то черное с коричневым. Несочетаемо, а интересно.
Дождь лупил по плечам. Ее очки были в брызгах. Олег обратил внимание на номера машины: 17—40. «Без двадцати шесть», – подумал он. И еще подумал: через двадцать минут последняя капля. Он тоже существовал в орбите часов и капель.
Петракова никак не могла насадить дворники.
– Дай я, – предложил Олег.
Он забрал у нее дворники и легко надел их.
Петракова не двигалась. Смотрела зачарованно. Потом сказала:
– Какие у тебя руки…
– Какие? – не понял Олег.
– Красивые. Мужские. Это очень редкость – красивые руки. Знаешь?
– Ты говоришь как по подстрочнику, – заметил Олег.
– Ага, – согласилась Петракова. – Я часто думаю по-английски. Потом перевожу.
Петракова отсидела с мужем десять лет в англоязычной стране. У нее даже появился легкий акцент. В квартире шел ремонт. Пол был засыпан известкой и застлан газетами. Мебель и диван закрыты простынями. «Как в операционной, – подумал Олег. – Только там чисто, а тут грязь. Да и там грязь, если придираться».
Мужа не было дома, он работал в Женеве. Петракова вернулась в Москву – караулить сына, чтобы не сбился с пути. Не стал на плохую дорогу. У сына был переходный возраст. Четырнадцать лет.
В данную минуту времени сына тоже не было дома, и он не оставил записки – где находится. Возможно, именно в эту минуту он ступил на плохую дорогу и пошел по ней.
Петракова усадила Олега на диван, запустила кассету и вышла из комнаты.
Договорились: он посмотрит несколько фильмов – не до конца, минут по десять, – и потом выберет то, что интересно. За десять, даже за две минуты бывает ясно – с чем имеешь дело. Искусство или так… вторичное сырье.
На экране замелькали кадры. Потащился сюжет. Сюжет состоял в том, что не очень молодая, страшненькая, затюканная жизнью женщина содержит публичный дом. Ее сын, умственно неполноценный дебил, слоняется по дому и заглядывает в замочные скважины. Вот, собственно, и все. Обыкновенная порнуха. Художественной ценности не представляет.
Порнуху, конечно, можно посмотреть, но не в доме начальницы, заведующей отделением. И не в своем доме, где мать и больная жена.
Хорошо было бы сменить кассету, но у Петраковой другое видео, мультисистемное, другое расположение кнопок. Сломает еще…
Олег смотрел и не мог оторваться, и его будто тянуло в дурной омут. Фильм шел на английском языке.
Вошла Петракова. Спросила:
– Хочешь переведу? – И села к нему на колени. Он услышал сладковатый жасминовый запах ее духов. – Какие у тебя глаза…
Олег не стал уточнять какие. Не до того.
– Я переведу синхронно, – сказала Петракова и стала делать то же самое, что делалось на экране. Следовало вскочить, стряхнуть с себя бесцеремонную Петракову. Если бы он тогда вскочил – именно в ту минуту, когда она села, – ничего бы не было. Но он не сделал это сразу. Потом она заговорила про глаза. Время было упущено. Он услышал на своем теле ее руки. Это были руки… Они умели все. И держать скальпель. И ласкать… Петракова была хирург от Бога. И женщина от Бога… О… Как она умела ласкать.
Олег сидел в блаженном дурмане. Петракова затягивала его. Подтаскивала к обрыву. Сейчас полетит с мучительным предсмертным криком.
– Не надо…
– Почему? – Петракова сняла очки, и он увидел ее глаза – зеленые, безбожные…
Вот тут еще был шанс – приказать себе и ей: не надо! Но он схватил ее, смял – всеми своими молодыми мускулами, ущемленным самолюбием, зрелой страстью, жестоким, долгим воздержанием, всем своим горем и безысходностью, отчаяньем раненого оленя.
«Это не ты мне переводишь. Синхронно. Это я сам тебе все скажу. По-своему. На своем языке. Растопчу и возвышу».
Диван был кожаный. Простыни съехали. И Петракова съехала на пол. Она лежала в известке на газетах и смотрела безучастно, как Ирочка. Опять Ирочка.
В глубине квартиры раздались мужские голоса.
– Кто там?
– Рабочие, – безучастно ответила Петракова.
– Они были здесь все это время?
– Ну конечно. У нас же ремонт.
Олег онемел. Сидел с раскрытым ртом. Хорош у него был видок: с незастегнутыми штанами и раскрытым ртом. Петракова расхохоталась.
Ему захотелось ударить, но очень тонкое лицо. И не в его это правилах.
Олег поднялся и пошел из квартиры, ступая по газетам.
Дома дверь не заперта. Матери нет – видимо, у соседей. Хорошо. Не хотелось разговаривать.
Олег стал под горячий душ, смывал с себя ее прикосновения. Раздался телефонный звонок. Он заторопился, вышел из ванной голым. Текла вода.
– Я тебя искал, – сказал в телефон Валька Щетинин. – Где ты был?
Олегу не хотелось говорить, но и врать не хотелось.
– У Петраковой, – сказал он.
– А-а-а… – двусмысленно протянул Валька.
– Что «а»? – насторожился Олег. Ему уже казалось, что все всё знают.
– Она тебе говорила: какие глаза, какие руки?..
– А что?
– Она всем это говорит, – спокойно объяснил Валька.
– Подожди…
Олег вернулся в ванную. Надел махровый халат. Так было защищеннее.
– Она что, проститутка? – беспечно спросил Олег.
– Вовсе нет. Она блядь.
– А какая разница?
– Проститутка – профессия. За деньги. А это – хобби. От жажды жизни.
Значит, не он и она. А две жажды.
Вот они, сложные женщины. Личности. Его употребили, как девку. Олег стиснул зубы.
Прошел к Ирочке. Сел в ногах. Стал смотреть «Пятое колесо». Собака подвинулась, положила морду ему на колени. Дом… Собака его боготворит. Мать ловит каждый взгляд. Жена просто умрет без него. Только в этом доме он – бог. Богочеловек. А там, за дверьми, в большом мире, сшибаются машины и самолюбия, шуруют крысы и убийцы. Мужчины теряют честь.
Олег взял руку Ирочки, стал тихо, покаянно ее целовать.
Ирочка смотрела перед собой, и непонятно, была эта самая, положительная, динамика или нет.
В конце мая переехали на дачу. Лида Грановская отдала свое поместье, поскольку у них с Велучем все лето было распланировано. На дачу они не попадали. Июнь – Америка. Июль – Прибалтика. Август – Израиль.
– Сейчас не ездят только ленивые, – сказала Лида.
«Ленивые и я», – подумала Анна.
Было себя жаль, но не очень. В ее жизни тоже накапливалась положительная динамика. Из трех неприятелей Анны: отсутствие конечного результата, недосып и недообщение – первые два сдались, бросили свои знамена к ее ногам.
Стрелка конечного результата заметно пошла от нуля к плюсу. Ирочка все чаще осмысленно смотрела по сторонам. Значит, понимала. Значит, скоро заговорит. И встанет. И вспомнит.
Травник оказался прав. Жизнь прекрасна именно по утрам. Анна просыпалась с восходом солнца, выходила в огород. Из земли пробивалось и тянулось вверх все, что только могло произрасти: и полезные травы, и сорняки. Казалось, каждая травинка страстно устремлялась к солнцу: люби меня. Мудрые старые ели, кряхтя, потягивались: все позади, все суета сует, главное – пить воду Земли, свет Солнца и стоять, стоять как можно дольше – сто лет, двести… Всегда…
Ажурные тонкие березки трепетали листьями, лопотали, готовились к дню, к ошибкам – пусть к роковым просчетам, пусть к гибели. Можно сгинуть хоть завтра, но сегодня – любовь, любовь…
Солнце только проснулось, не устало, не пекло, нежно ласкало Землю. Птицы опрометью ныряли в воздух из своих гнезд. Вдалеке слышался звон колокольцев. Это старик Хабаров вел своих коз на выпас.
У старика было семь коз: коза-бабка, козел-дед, двое детей и трое внуков. Козочки-внучки были беленькие, крутолобые, с продольными зрачками в зеленых, как крыжовины, глазах.
Они входили всем выводком на участок. Это Хабаров приносил трехлитровую банку молока. Анна отдавала пустую банку с крышкой. И так каждый день.
Ирочка сидела под деревом в шезлонге. Козы окружали ее. Библейская картина. Старик Хабаров каждый раз внимательно вглядывался в Ирочку. Однажды сказал:
– Ангела убили…
– Почему убили? Просто несчастный случай, – поправила Анна.
– Нет… – Старик покачал головой. – Люди убили ангела.
Он забрал пустую чистую банку и пошел с участка, сильно и, как казалось, раздраженно придавливая землю резиновыми сапогами.
«Сумасшедший, – подумала Анна. – Крыша поехала».
Волосы у Ирочки отросли, глаза стояли на лице с неземным абстрактным выражением. Анна вспомнила, что у Ирочки неясно с родителями. Есть ли они?
А может быть, действительно она – ниоткуда. Ангел, взявший на себя зло мира.
В середине лета приехал травник. Привез бутылочку с новым настоем. И сетка тоже новая: три раза в день через каждые шесть часов. Десять утра, четыре часа дня, десять вечера. Все. Это уже легче. Это уже курорт.
Сидели на траве, ели клубнику со своей грядки. Пили козье молоко из тяжелых керамических кружек.
– Скажите, – осторожно спросила Анна. Она боялась показаться травнику сумасшедшей и замолчала.
– Ну… – Травник посмотрел, как позвал.
– А может быть так, что Ирочка взяла на себя чужое зло?
– Вообще, вы знаете… Земля сейчас, если смотреть из космоса, имеет нехорошую, бурую ауру. Много крови. Зла.
– И что?
– Надо чистить Землю.
– Каким образом?
– Не говорить плохих слов, не допускать плохих мыслей и не совершать дурных поступков.
– И все? – удивилась Анна.
– И все. Человек – это маленькая электростанция. Он может вырабатывать добро, а может зло. Если он выбрасывает зло, атмосфера засоряется бурыми испарениями. И человек сам тоже засоряется. Надо чистить каналы.
– Какие каналы?
– Есть кровеносные сосуды, по ним идет кровь. А есть каналы, которые связывают человека с космосом. Вы думаете, почему ребенок рождается с открытым темечком? Мы общаемся с Солнцем. Солнце проникает в нас. Мы в него.
– Значит, зло поднимается к Солнцу? – поразилась Анна.
– А куда оно девается, по-вашему?
Травник посмотрел на Анну, и она увидела, что глаза у него как у козы – зеленые, пронизанные солнцем, только не с продольными зрачками, а с круглыми.
Когда травник уходил, Анна спросила, смущаясь:
– Сколько я вам должна?
– Я в другом месте заработаю, – уклонился травник.
– В каком? – полюбопытствовала Анна.
– Мы открыли совместное предприятие. Компьютеризация школ.
Анна ахнула. Вот тебе и Божий человек. Нынче Божьи люди и те в кооперативах.
Потом поняла: он не Божий человек. Нормальный технарь. Просто не думает и не говорит плохо. От этого такое ясное лицо и глаза. Просто он чистит Землю.
Анна стояла над муравейником.
Она могла теперь уходить далеко в лес. Гулять подолгу. Из трех неприятелей остался один: недообщение. Олег приезжает раз в неделю. В основном его нет. Ирочки тоже как бы нет. Но зато есть книги. У Грановских прекрасная библиотека.
Выяснилось, что Анна – узкий специалист. Знает узко, только то, что касается профессии. А дальше – тишина… Серая, как валенок. Как рассветная мгла. Чехова не перечитывала со школьных времен. А что там было в школе? Человек в футляре? Борьба с пошлостью?
Какая борьба? Писатель не борется, он дышит временем. Анна открыла поразительное: Чеховых два. Один – до пятого тома. Другой – после. Пять томов разбега, потом взлет. Совершенно новая высота. Отчего так? Он знал, что скоро умрет. Туберкулез тогда не лечили. Жил в уединении, в Ялте. Вырос духовно до гениальности.
Уединение имеет свои преимущества. Может быть, остаться здесь навсегда. Купить избу. Завести коз.
Что город? Котел зла, из которого поднимаются в небо бурые испарения. А она сама, Анна, чем она жила? Какими установками? Выдирала Вершинина из семьи. А у него действительно две дочери, пятнадцать и семнадцать лет. Как они войдут в жизнь после предательства отца? А жена… Куда он ее? Пустит по ветру? Она наденет в волосы пластмассовый бантик и сквозь морщины будет улыбаться другим мужчинам? А Вершинин будет жить с усеченной совестью? Зачем он ей, усеченный…
Травник не прав. Зло, которое вырабатывает человек, опускается на его же собственную голову.
«Люди через сто лет будут жить лучше нас». Так говорили Астров, Вершинин, Мисаил Полознев, Тузенбах. Видимо, сам Чехов тоже так думал.
Через сто лет – это сейчас. Сегодня. Тогда были девяностые годы девятнадцатого века. Сейчас – двадцатого. И что же произошло за сто лет?
Сегодняшний Вершинин выходит в отставку. Армию сокращают. Тузенбахи вывелись как класс. Исчезло благородное образованное офицерство. Сталин ликвидировал. Соленый вступил в общество «Память». Ирина и Маша пошли работать. Они хотели трудиться до изнеможения? Пожалуйста. Этого сколько угодно.
В Москву не переехать – не прописывают. Только по лимиту.
А мы, сегодняшние, смотрим в конец девятнадцатого века и ностальгируем по той, прежней жизни, по барским усадьбам, белым длинным платьям, по вишневым садам, по утраченной вере…
От муравейника шел крепкий спиртовой дух. Сосна оплывала смолой. Земля отдавала тепло. Как давно Анна не жила так – с муравьями, с деревьями, с собой, с Чеховым. Интересный был человек. А почему был? И есть. Книги сохранили его мысли. Энергетику души. В сущности – саму душу. Значит, можно беседовать. Правда, беседа односторонняя – монолог. Но все равно односторонняя беседа с Чеховым – интереснее, чем двусторонняя с Беладонной: опять про внука, опять про Ленчика, ля-ля тополя…
Ирочка… Как перевернула всю жизнь. Как будто Анна переместилась на другую сторону планеты и плывет в другом полушарии, где свой климат и своя еда.
Вернувшись на дачу, Анна застала Беладонну.
Беладонна щелкала семечки и разговаривала с Ирочкой, как с равной. Ее совершенно не смущала Ирочкина отключенность. Беладонне главное было – сказать, выговориться.
– Представляешь… – громко закричала Беладонна через весь участок. – Эта сволочь Ленчик, говно на лопате, я ему говорю: возьми ребенка на выходные, это все-таки и твой внук. А он мне…
– Не надо, – тихо, испуганно попросила Анна, подходя.
– Что «не надо»? – сбилась Беладонна.
– Не говори слова «говно».
– Почему? – еще больше удивилась Беладонна.
– Нет такого слова.
– Как это… Говно есть, а слова нет?
Оперировал Олег. Петракова – на подхвате, всевидящим оком, как инструктор-ас при вождении машины.
Операция – сложнейшая. Разъединяли сиамских близнецов. Срослись в позвоночнике, было общих четыре сантиметра. Сначала подумывали одного отбраковать, чтобы второй шел – с гарантией. Но Петракова постановила: поровну. Как можно отбраковать живого человека? На ком остановить выбор?
Операция удалась. Оба мальчика живы. Их повезли в реанимацию на двух разных каталках.
– В тебе есть крупицы гениальности величиной с клопов, – небрежно оценила Петракова.
Называется похвалила. Почему с клопов? Надо обязательно обидеть. Сочетать несочетаемое: восхищение и презрение.
Олег не ответил. Снял маску.
– Поехали ко мне, – между прочим, позвала Петракова.
– Зачем? – холодно спросил Олег.
– Угадай с трех раз.
Он молчал. Стягивал перчатки. Она смотрела на его руки.
– Как мы… – вспомнила она и сморщилась, будто от ожога. Ее жгли воспоминания.
Олег испугался, что она назовет вещи своими именами. Но она не назвала.
– С крупицами гениальности? – насмешливо подсказал Олег.
– Ты весь гениальный. От начала до конца. Ты себе цены не знаешь, да тебе и нет цены. Твоя мать – счастливая женщина. Хорошего сына вырастила. Я бы мечтала, чтобы у меня был такой…
Немецкий философ считал, что женщины бывают двух видов: матери и проститутки. Это совершенно разные психологические структуры с разным набором ценностей. Петракова каким-то образом смешивала в себе одно с другим. Вернее, одну с другой. И Олега тоже видела в двух ипостасях: и сыном, и любовником.
– Пойдем ко мне в кабинет, – позвала Петракова.
– Нет-нет… – торопливо отказался Олег.
– Боишься?
– Чего мне бояться?
– А если не боишься, пошли, – подловила она.
Пришлось идти за ней в кабинет.
В кабинете она достала из холодильника бутылку виски. Стаканы. Разлила.
– За Мишу и Сашу.
Так звали близнецов.
Олег почувствовал, как устал. Четыре часа на ногах. Высочайшее нервное напряжение. Он гудел, как высоковольтный столб.
Выпил. Послушал себя. Напряжение не проходило.
Петракова села рядом. Хорошо, что не на колени.
– Поедем ко мне, – спокойно позвала она.
– Я не поеду. – Олег твердо посмотрел ей в лицо. – Не надо.
– Почему? – Она сняла очки, обнажая большие удивленные глаза. – Тебе же не надо на мне жениться. Я замужем. Тебе не надо тратить на меня время. Я занятой человек. Не надо тратить деньги. Они у меня есть.
– Что же остается? – спросил Олег.
– Ну… немножко тела. Немножко души. Чуть-чуть…
– Я так не могу. Немножко тут, немножко там… Смотреть на часы, торопиться, врать. Ты же первая меня возненавидишь. И я себя возненавижу.
– Хочешь, я брошу мужа?
Олег внимательно посмотрел в ее глаза. Там стояло детское бесстрашие. С этим же детским бесстрашием он прыгал на спор с крыши сарая.
– Нет. Не хочу, – ответил Олег. – Я не могу изменить свою жизнь.
– ПОЧЕМУ?
В ее вопросе было непонимание до самого дна. Им так хорошо вместе: общее дело, полноценная страсть. Как можно этого не хотеть?
– Моя жена больна. Она парализована.
– Но ты-то не парализован. Ты что, собираешься теперь на бантик завязать?
Олег не сразу понял, что она имеет в виду. Потом понял. Налил виски.
– Она подставила за меня свою жизнь. Она ангел…
– Что за мистика? – Петракова пожала плечами. – В Москве каждый день восемнадцать несчастных дорожных случаев. Один из восемнадцати, и больше ничего.
Олег смотрел в пол, вспомнил тот недалекий, теперь уже далекий день. «Рафик» шел по прямой. У него было преимущество. Шофер – их шофер, милый парень – не пропустил. Нарушил правила движения. Создал аварийную ситуацию. Вот и все. И больше ничего.
– Я не буду, Юля. – Он впервые назвал ее по имени. – Я не могу и не буду.
– Просто я старая для тебя. Тебе двадцать восемь, а мне тридцать восемь. В этом дело.
Петракова опустила голову. Он увидел, что она плачет – победная Петракова – хирург от Бога, женщина от Бога – плачет. Из-за кого…
Олег растерялся.
– Это не так. Ты же знаешь, – в нем все заметалось от противоположных чувств, – ты мне… нравишься. Я просто боюсь в тебе завязнуть. Я не могу…
Петракова вытерла лицо рукой, будто умылась. Посидела какое-то время, возвращаясь в себя. Вернулась. Сказала спокойно и трезво:
– Ладно. Пусть будет так, как ты хочешь. Не будем начинать.
Между ними пролегла заполненная до краев тишина.
– Если бы ты пошел за мной… – она споткнулась, подыскивая слова, – пошел за мной в страну любви… Это такая вспышка счастья, потом такая чернота невозможности. Так вот, если эту вспышку наложить на эту черноту – получится в среднем серый цвет. А сейчас… Посмотри за окно: серый день. То на то и выходит. Остаемся при своих. Выпьем за это.
За окном действительно стелился серый день.
Они расстались при своих. Олег поехал на дачу.
На веранде сидели Грановские и Беладонна.
Олег знал, что Грановские вернулись из Америки.
– Ну как там, в Америке? – вежливо спросил Олег, подсаживаясь. На самом деле ему это было совершенно неинтересно. На самом деле он думал о Петраковой. Хотелось не забывать, а помнить. Каждое слово, каждый взгляд, каждый звук – и между звуками. И между словами. Когда с ней общаешься – все имеет значение. Совершенно другое общение. Как будто действительно попадаешь в другую страну. Что ему Америка. Можно поехать в Америку и никуда не попасть.
– Там скучно. Здесь – противно, – ответил Грановский.
– Они едут в Израиль, – похвастала Анна.
– А вы там не останетесь? – впрямую спросил Олег.
– Меня не возьмут. Я для них русский. У меня русская мать. Евреи определяют национальность по матери.
– Там русский, а здесь еврей, – заметила Лида. – Тоже не подходит.
– Да. Сейчас взлет национального самосознания, – подтвердила Беладонна.
– Гордиться тем, что ты русский, это все равно как гордиться тем, что ты родился во вторник, – сказал Олег. – Какая твоя личная в этом заслуга?
Все на него посмотрели.
– Вот вы работаете в русской науке, продвигаете ее, значит, вы русский. А некто Прохоров нанял за пять тысяч убить человека. Он не русский. И никто. И вообще не человек.
– Не надо все валить в одну кучу, – остановила Беладонна. – Русские – великая нация.
– А китайцы – не великая?
Олег поднялся из-за стола и ушел.
– Что это с ним? – спросил Грановский.
– Устал человек, – сказала Лида.
Все замолчали. У Анны навернулись слезы на глаза. Ее сын устал. И в самом деле: что у него за жизнь…
Молчали минуту, а может, две. Каждый думал о своем. Грановский – о науке. Где ее двигать, эту самую русскую науку.
Может, в Америке? В Америке сейчас спокойнее и деньги другие. Но здесь он – Велуч, великий ученый. А там – один из… Там он затеряется, как пуговица в коробке. Грановский мог существовать только вместе со своими амбициями.
Лида думала о том, что если Грановскому дадут в Америке место – она не поедет. И ему придется выбирать между наукой и женой. И неизвестно, что он выберет. Если дадут очень высокую цену, то и она войдет в эту стоимость…
Беладонна прикидывала: как бы Ленчика вернуть обратно в семью. Пока ничего не получается. Глотнув свободы, Ленчик воспарил, и теперь его не приземлишь обратно.
Анна вдруг подумала, что не говорить и не делать плохо – это, в сущности, Христовы заповеди, те самые: не убий, не пожелай жены ближнего… Интересное дело. Все уже было. И опять вернулось. Значит, все было. ВСЕ.
Олег сел возле Ирочки на пол.
Собака покосилась и не подползла. Что-то чувствовала.
Он все сделал правильно. Не пошел за Петраковой в страну любви. Сохранил чистоту и определенность своей жизни. Но в мире чего-то не случилось: не образовалось на небе перламутровое облачко. Не родился еще один ребенок. Не упало вывороченное с корнем дерево. Не дохнуло горячим дыханием жизни.
Ирочка лежала за его спиной, как прямая между двумя точками: А и Б. Она всегда была ОБЫКНОВЕННАЯ. Он за это ее любил. Девочка из Ставрополя, им увиденная и открытая. Но сейчас ее обычность дошла до абсолюта и графически выражалась как прямая между двумя точками. И больше ничего.
Петракова – многогранник с бесчисленными пересечениями. Она была сложна. Он любил ее за сложность. Она позвала его в страну любви. Разве это не награда – любовь ТАКОЙ женщины. А он не принял. Ущербный человек.
Олег поднялся, взял куртку и сумку.
Вышел из дома.
– Ты куда? – крикнула Анна.
– Мне завтра рано в больницу! – отозвался Олег.
– Мы тебя захватим! – с готовностью предложила Лида.
– Нет. Я хочу пройтись.
Олег вышел за калитку. Чуть в стороне стояла серебристая «девятка», номера 17—40.
«Без двадцати шесть», – подумал Олег и замер как соляной столб. Это была машина Петраковой.
Олег подошел. Она открыла дверь. Он сел рядом. Все это молча, мрачно, не говоря ни слова. Они куда-то ехали, сворачивали по бездорожью, машину качало. Уткнулись в сосны.
Юлия бросила руль. Он ее обнял. Она вздрагивала под его руками, как будто ее прошили очередью из автомата.
В конце ноября выпал первый снег.
Ирочка уже ходила по квартире, но еще не разговаривала, и казалось, видит вокруг себя другое, чем все.
Олег приходил домой все реже. Много работал. Ночные дежурства. А когда бывал дома – звонила заведующая отделением Петракова и вызывала на работу. Как будто нет других сотрудников.
Однажды Анна не выдержала и сказала:
– А вы поставьте себя на место его жены.
На что Петракова удивилась и ответила:
– Зачем? Я не хочу ни на чье место. Мне и на своем хорошо.
Вот и поговори с такой. Глубоководная акула. Если она заглотнет Олега, Анна увидит только его каблуки.
Однажды, в один прекрасный день, именно прекрасный, сухой и солнечный, Анна решила вывести Ирочку на улицу. С собакой.
Она одела Ирочку, застегнула все пуговицы. Вывела на улицу. Дала в руки поводок. А сама вернулась в дом.
Смотрела в окно.
Собака была большая, Ирочка слабая. И неясно, кто у кого на поводке. Собака заметила что-то чрезвычайно ее заинтересовавшее, резко рванулась, отчего Ирочка вынуждена была пробежать несколько шагов.
– Дик! – испуганно крикнула Анна, распахнула окно и сильно высунулась.
Собака подняла морду, выискивая среди окон нужное окно.
Анна погрозила ей пальцем. Собака внимательно вглядывалась в угрожающий жест.
Ирочка тоже подняла лицо. Значит, услышала.
Анна видела два обращенных к ней, приподнятых лица – человеческое и собачье. И вдруг поняла: вот ее семья. И больше у нее нет никого и ничего. Олега заглотнули вместе с каблуками. Остались эти двое. Они без нее пропадут. И она тоже без них пропадет. Невозможно ведь быть никому не нужной.
Дик слушал, но не боялся. Собаки воспринимают не слова человека, а состояние. Состояние было теплым и ясным, как день.
Ирочка стояла на знакомой планете. Земля. Она узнала. Вот деревья. Дома. Люди.
А повыше, среди отблескивающих квадратов окон, ЧЕЛОВЕК – ТОТ, КТО ЕЕ ЖДАЛ. Трясет пальцем и улыбается.
Над ним синее, чисто постиранное небо. И очень легко дышать.
Назад: Виктория Токарева Я есть. Ты есть. Он есть
На главную: Предисловие