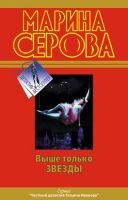Муля, кого ты привез?
Папу я помню плохо. Он умер в тридцать семь лет, в середине жизни. На полдороге.
Это был 1945 год. Он умер в январе, а в мае кончилась война. За пять месяцев до победы. Но что ему победа… У него был рак пищевода, он умер от голода, в страшных мучениях.
Тогда не было обезболивающих лекарств. А может, и были, но страна пережила тяжелую войну, потери – миллионы. Кому было дело до одного умирающего, поседевшего от страданий…
Мама с двумя детьми (я и сестра) были в это время в эвакуации.
Но… начну сначала.
Начало – тридцатые годы. Мой папа, студент политехнического института, поехал на практику в Донецкие шахты. С ним в одной группе учился Ботвинник – в дальнейшем великий гроссмейстер. Они были чем-то похожи с папой: невысокий рост, приятные лица. Видимо, в те времена было неважно с питанием и молодежь плохо росла.
Студенты прибыли на практику. И тут, в Горловке, папа увидел мою маму. Ее звали Наталья, сокращенно Тася.
Тася стояла шестнадцатилетняя, босая, в сарафане, вся с ног до головы осыпанная ярким солнцем.
Где она стояла? Скорее всего, в степи. Только земля, небо и Тася.
Папа обомлел. Он привык к интеллектуальным еврейским девушкам в темных глухих одеяниях, а тут – сама жизнь, сама весна.
Папа быстро выяснил: кто такая и где живет. И пришел к Тасе в гости, хотя его никто не приглашал.
Тася слегка удивилась, но не выгонять же человека…
Меж тем Тася торопилась на свидание. У нее был дружок по имени Пантелей, сокращенно Панько, – два метра роста, все зубы золотые, поскольку свои зубы ему выбили в постоянных драках.
Местные парни часто дрались за неимением других развлечений. Организм требовал эмоциональной встряски.
Тася убежала на свидание, а Муля остался сидеть. Ждал, когда она вернется.
Она вернулась поздно. Надо было ложиться спать.
Муля попрощался и ушел.
Он приходил каждый день. Иногда он заставал Тасю, но чаще нет. Ничего страшного. Муля садился на стул возле двери и ждал.
Мать Таси (моя бабка Ульяна), тогда еще не старая, сорокалетняя, громко удивлялась: «Чого вин сыдыть? Приходэ и сыдыть».
Сколько это продолжалось – месяц, два?
Лето катилось к осени. Практика подошла к концу.
Перед самым отъездом Муля заявился к Тасе, держа в руках два железнодорожных билета. Он сказал:
– Тася! Поедем со мной в Ленинград.
Тася удивилась и вскинула глаза на Мулю, чуть ли не в первый раз. Она увидела, что он симпатичный, хоть и мелковат. Совсем другой, чем Панько. Со своими зубами и с другим выражением лица, совершенно не годящимся для драк и матерных разборок. Но главное, что сообразила Тася, – в Горловке, в этом захолустье, нечего ловить. Что здесь за жизнь? Шахты, тяжелый рабский труд, водка, драки, надвигающийся голод. А Ленинград – столица, там жил царь, там красивые дома, муж – будущий инженер. Надо соглашаться.
Даже если бы Муля был кривой на один глаз и глухой на оба уха, надо соглашаться, потому что впереди – новая жизнь. А Муля – не кривой и не глухой, а очень даже ничего. Можно привыкнуть. Немножко лопоухий, но это не мешает. Даже мило.
– Ни якого приданого мы нэмаемо, – честно предупредила Ульяна. – У нас нэчого нэма.
Это соответствовало действительности. Семья жила бедно. Но даже если бы и были какие-то запасы, Ульяна не дала. Она была не в состоянии расстаться ни с копейкой, ни с куском хлеба. Зажимистость, идущая от нищеты.
Тем не менее приданое справили. Украли из клуба плакат. На красном кумаче белой масляной краской было написано: «Да здравствует 1 Мая!» Из плаката сшили нижнюю рубашку и трусы. Впоследствии от частых стирок белая краска сошла, но следы остались, так что на маме всегда что-то да здравствовало.
Семья Мули жила в центре Ленинграда, на Старо-Невском проспекте. У них была квартира внутри квартиры. Входишь в коммуналку с темным бескрайним коридором, в самом начале коридора дверь вправо и влево.
В левой стороне, в маленькой комнатке, проживал слесарь дядя Коля, который останавливал нас, детей, и провозглашал: «Евреи – подонки общества».
Что такое подонки, мы не понимали и, что такое евреи, тоже слабо разбирались, поэтому мы светло смотрели на дядю Колю. От него всегда изрядно воняло, и мы торопились проскользнуть мимо.
А дверь вправо вела в покои Мулиной семьи.
Главная комната, в которой стоял обеденный стол, – сто метров. И две комнаты по бокам – спальни. Большая – пятьдесят метров. И маленькая – пятнадцать. Общая площадь – сто шестьдесят пять метров. Плюс коммунальная кухня в конце коридора.
Многочисленная семья обедала за столом, когда раскрылась дверь и на пороге появилась сладкая парочка: Муля и Тася.
Тася – выше на полголовы. Гойка (не еврейка), это очевидно. Не голубых кровей, это тоже очевидно.
– Муля! – в тихом ужасе произнесла Мулина мама. – Кого ты привез?
Муля смутился и тоже посмотрел на Тасю: кого он привез?
Под ленинградским небом Тася действительно выглядела иначе, чем в степи под солнцем. Муля понял, что погорячился.
Вечером им постелили в пятнадцатиметровой спальне.
Вся семья пребывала в тихой оппозиции. Для Мули уже была приготовлена невеста, и не одна, а несколько, настоящие еврейские девушки: Роза, Фира и Белла. При чем тут Тася? За такие поступки лишают наследства. Муля чувствовал себя виноватым. Он почитал свою родню и не любил их огорчать.
Оставшись ночью наедине, он тихо обратился к молодой жене:
– Тася, я хочу с тобой поговорить.
– Говори. – Тася удивилась.
У них в Горловке, когда хотели говорить, сразу и говорили, не предупреждая и не договариваясь.
– Понимаешь… – Муля мялся. – Я должен идти в армию…
– И чего?
– Ты останешься здесь, одна, среди чужих людей…
– И чего?
– Может, ты поедешь на это время к себе домой? А я вернусь из армии и приеду за тобой.
– Ни, – сразу отрубила Тася.
– Почему?
– А с какими такими очами я возвернусь домой? Что люди скажут?
В Горловке была своя мораль, которая не допускала, чтобы девкой попользовались и выкинули обратно.
– Ни, – подытожила Тася.
Муля понял, что из-под Таси ему не вырваться. Он влип, завяз. Но в глубине души, в самой ее сердцевине, Муля был рад этому плену, потому что он желал Тасю, молодую и дикую, пахнущую полынью. А унылые правильные Роза и Фира наводили на него тоску. При этом у них обязательно что-то болело.
Муля вернулся из армии.
Он окончил политехнический институт. Работал в Ленэнерго. Получил от работы комнату на Лесном проспекте. Это была по тем временам окраина (как сейчас говорят, спальный район). Однако своя площадь, никто не вмешивается. Можно любить друг друга в любое время и ругаться тоже в любое время, что они и делали. И родили двоих детей подряд. Сначала мою сестру Ленку, потом через год меня. Тася еще не успела очухаться от первой беременности, а тут все по новой. Делать аборт боялась и старалась избавиться от меня собственными средствами: поднимала тяжести, садилась в кипяток, прыгала со шкафа. Но – тщетно. Я сидела внутри камеры, упираясь в стены руками и ногами. И меня невозможно было выставить за дверь. Я должна была родиться, и я родилась сразу с густой челкой, похожая на китайчонка. Веселая.
Когда я смотрю на свои детские фотографии – всегда в зрачках лампочка. Во мне с самого начала зажгли огонек, и он горел. И горит до сих пор, хотя, конечно, коптит изрядно.
Тася и Муля жили страстно, ругались и мирились, а порой даже дрались. Инициатором драки, как это ни странно, выступал Муля. Он просто не знал, как с Тасей совладать. Тася не понимала человеческого языка. Обычная логика была ей скучна и длительна. В Муле вскипала ярость, а это признак слабости. Муля был слабее Таси. Он это понимал, и она понимала.
В периоды затишья Тася вышивала. До сих пор сохранились ее скатерти с тончайшей вышивкой: белым по белому. Тася выдергивала из скатерти нитки и этими нитками вышивала цветы и колосья, заплетенные в венки. Казалось, что узор самостоятельно выступает из ткани. Было трудно себе представить, что эта красота сделана человеческими руками. Откуда у Таси из глубокого захолустья взялся этот дар? И этот вкус?
Тася вышивала занавески на окна, подушки на диван. Их жилье приобретало уют и неповторимость.
На праздники Тася дарила подушки еврейским родственникам. Там они не приживались на кожаных диванах.
«Невские» жалели Мулю, рассматривали его брак как мезальянс. Тасю они презирали, она это знала, а если не знала, то догадывалась и воспринимала спокойно. Соглашалась. Да, она не благородная, в отличие от «невских». Она должна у них учиться и до них дотягиваться. Хотя никакого особенного благородства у «невских» не было, обычная семья, переехавшая в Ленинград из белорусского местечка Заборье. Та же самая Горловка, с той разницей, что в Заборье не дрались и не выбивали друг другу зубы. Они молились своему богу и не работали по субботам. А в остальном та же нищета и желание из нее выбраться. Все люди всех национальностей хотят любви и богатства и боятся тюрьмы и смерти. Хотят и боятся одного и того же.
Самым ярким представителем семьи был старший брат Мули – Женя. Его настоящее имя – Хаим, но, когда он пошел получать паспорт, то мужик, работающий в паспортном столе, посоветовал:
– Поменяй имя. Потом мне спасибо скажешь.
– Как поменять? – не понял брат.
– Запишу тебя Евгений, хочешь?
– Почему Евгений?
– А какая тебе разница…
Хаим стал Евгением. Его дочери – Евгеньевны. Это было большое облегчение в антисемитской стране.
Дядя Женя оказался самым способным, самым ярким из четырех братьев, самым честолюбивым. Стал делать карьеру. И сделал. Получил должность директора завода металлоизделий. Должность давала большие возможности и широкое поле для приложения сил. Дядя Женя был хорошим директором. Не просто хорошим – выдающимся. Он любил людей. Всех. И всяких. Рабочие его боготворили.
Много позже, лет через тридцать, когда его хоронили, к раскрытому гробу протолкался рабочий и встал на колени.
Я думала, такое бывает только в литературе.
Дядя Женя был благодетель в прямом смысле этого слова: он любил делать благо. Это была его потребность.
В семье его тоже боготворили. Жене – лучший кусок. Женя отдыхает – все ходят на цыпочках. О Жене говорят с придыханием. Культ личности. (Надо добавить, прекрасной личности.)
А Муля – труба пониже и дым пожиже. Видимо, все запасы рода ушли на Женю, а Муле так… что осталось.
Муля – инженер в Ленэнерго. Мне очень нравилось сочетание мягких согласных, перемежающихся гласным «е». Как красиво и нежно это звучит: ин-же-нер-лен-э-нер-го. Этих инженеров в Ленэнерго – толпа. Но Тася гордилась. Она могла сравнивать Мулю только с Панько. Панько к тому времени уже сидел в тюрьме, у него была своя толпа.
Муля играл на скрипочке. Любил смотреть на огонь, задумавшись. Фанатично любил своих двух девочек: меня и сестру. Сестру он любил больше. Я росла дикая, наглая, своенравная, вылитая Тася.
А моя сестра – слепок с Мули. И смотрела так же: покорно и трогательно.
Вся эта жизнь была опущена в тридцать восьмой год – год рождения Высоцкого. «В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брели в этапы длинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее, а вот живет же братия – моя честна компания».
Шли посадки и чистки. Мулю выгнали из партии за то, что он скрыл лавку своего отца. У отца в Заборье когда-то была лавка с нехитрым товаром: подковы, гвозди, молотки, топоры, грабли, лопаты. Муля утаил эту подробность. Его не посадили, но отобрали партийный билет.
Он вернулся с работы, сдерживая слезы, а дома разрыдался в полную силу.
Тася стояла и скептически смотрела на мужа.
– Ребенок бы умер, ты бы так не кричал, – заметила она.
– Перестань! – завопил Муля. Он не понимал, как можно допускать эти слова к губам.
Ребенок, безусловно, важнее партийного билета, однако детей можно нарожать целую дюжину, а партийный билет уже не вернуть. Партия… Это аналог религии. Сталин – богочеловек. Да что там – сам бог.
– Твой Сталин – говно, – спокойно объявляла Тася. – Ленин – да, а Сталин – говно.
У Мули перехватывало дыхание. Полный дом стукачей. Стены имеют уши. Их уничтожат.
– Тася… – шипел Муля. – Нас посадят, и дети сиротами останутся.
Тася беспечно махала рукой. Кому мы нужны?
Она была права в какой-то степени. Мулю и Тасю не тронули по одной простой причине: они были слишком мелкие гвоздики в государственной машине. Маленькие люди, ничего не значащие. Невозможно же было пересажать всю страну. Сажали тех, кто как-то возвышался, высовывался. А Муля и Тася – трава на лугу, две маленькие травинки. На них можно наступить, а можно пройти мимо.
Муля отделался партийным билетом и стаканом слез. Тася вообще не заметила. Вышивала.
Двое детей – большая нагрузка.
Взяли домработницу Настю. Ее привела соседка Шурка Александрова. Они с Настей были из одной деревни.
Когда я слышу: «Русские – великая нация», мне хочется спросить: «А китайцы не великая?» Но, когда я вспоминаю Настю, я соглашаюсь. Я глубоко киваю головой: да. Русские – великая нация, если она породила такую Настю.
В наш дом она пришла тридцатилетней и жила у нас до своих восьмидесяти, но я не заметила, чтобы она менялась. Всегда одинаковая, маленькая, нос картошкой, глазки – голубые и мелкие, как незабудки. Скорее всего, она была некрасивая, но мне казалась слепящей красавицей. От ее красоты жгло глаза.
В ранней молодости Настя вышла замуж за своего деревенского Ваню. Настя – сирота, Ваня – беднота. Жить не на что. Поехали в Сибирь на заработки. Решили, что в Сибири лучше.
Хорошо там, где нас нет. В Сибири – не лучше. Работали «с хлеба». Только за еду. Денег не платили. Настя и Ваня решили вернуться, наскребли на один билет. Настя любила Ваню и, как всякая любящая женщина, шла на жертвы. Она сказала: «Ты поезжай первый, а потом я заработаю как-нибудь и тоже приеду».
Ваня уехал первым. Какое-то время он ждал Настю, а потом присмотрел себе Фроську. Фроська была хуже на ощупь, чем Настя, но богатая. В сравнении с Настей все были богатые, даже собака Жучка, у нее была будка и миска с едой, а у Насти ничего. Только золотое сердце и озеро надежды.
Через полгода Настя вернулась. Ей сообщили новость: Ванька живет у Фроськи, и они расписались в сельсовете.
Настя как будто проглотила гранату, которая разорвалась у нее внутри. Сердце разлетелось на клочки. Боль такая, что терпеть невозможно. Настя побежала к пруду топиться, но ее перехватила Шурка Александрова. Она сгребла Настю «в охапочку» и приволокла к себе домой.
Настя месяц лежала лицом к стене, потом встала – другим человеком. Вместо разорванного сердца – кирпич. Никакого озера надежды. Вместо озера – воронка от взрыва. На дне – всякий мусор.
Настя работала на поле с другими бабами. Жила у Шурки. Шурка тоже была брошенка, но не одна, а с дочкой.
Однажды в конце дня Настя шла среди деревенских баб, несла на плече баранью ногу. Купила, должно быть, а может, взяла в обмен, трудно сказать.
На другой стороне улицы показалась Фроська. Она шла навстречу. Завидев Настю, нагло усмехнулась. Бабы притихли. Понимали, что присутствуют при трагедии. Усмешка Фроськи была оскорбительной, дескать, у нее одно место слаще: у Насти в том месте жаба, а у Фроськи – драгоценный бриллиант.
Настя перешла дорогу, держа баранью ногу как ружье. Приблизилась к Фроське и бесстрашно «отходила» ее бараньей ногой слева направо, куда попадет: и по морде, и по плечам. Фроська не устояла на ногах, грохнулась на землю. Настя села сверху, схватила Фроську за волосы и стала бить башкой о дорогу.
Бабы дружно хохотали, улюлюкали, наслаждались справедливым возмездием. Все они были на стороне Насти. Если разобраться, бить надо было Ваню, это он предал. Но что же делать… Деревенские вани тоже любят богатых жен, как и городские. Можно понять. Грубая бедность отнимает у человека все достоинство. Хотя я не оправдываю Ваню. Я его презираю.
После этого случая Фроська перестала нагло усмехаться, а торопилась скрыться при виде Насти. Настя же, наоборот, приходила в боевую готовность, засучивала рукава. Бабы услужливо гоготали. Фроськина честь была поругана, несмотря на бриллиант.
Однако ходить по одним улицам с Ваней и Фроськой было невыносимо.
Шурка Александрова уехала в Ленинград на заработки, и Настя двинулась следом. Ленинград – не Сибирь.
Волею судеб Шурка Александрова оказалась на Лесном проспекте. Она рекомендовала Настю моей маме.
Тася обрадовалась помощи и в первые же полчаса вручила годовалую Ленку в руки новой няньки. Настя посмотрела на вытаращенные глаза моей сестры, ее «сатиновые щечки», не выдержала восторга и поцеловала ребенка в «усну» (то есть в губы).
Это был непорядок. Детей в губы не целуют. Антисанитария. Настя получила замечание от Мули и какое-то время сдерживалась. Но недолго. Ее озеро надежды снова заполнилось и переполнилось нежностью и преданностью. Сердце стало горячим и неузнаваемым. Настя истово и страстно полюбила новую семью. Муля вызывал в ней трепет и глубокое уважение. Любое его распоряжение выполнялось беспрекословно. А в Тасю Настя была немножко влюблена. Она говорила о ней: «Идет, рукой машет, как раиня». («Раиня» значило героиня.)
Я в это время пребывала в мамином животе. И когда меня, новорожденную с челкой, принесли домой, дверь открыла и встречала Настя. Она получила меня с седьмого дня пребывания на белом свете. Вернее, это я получила ее с седьмого дня.
Настя – самое яркое впечатление моих довоенных трех лет. Она излучала любовь, и только любовь, светила, как солнце в небе. Когда она смотрела на меня, ее личико растворялось в счастье. Не видно было лица – одно только счастье.
Мы, дети, чувствовали ее любовь всей кожей, и нам не надо было другой красоты: только Настя, нос картошкой, глаза-незабудки. Я ползла к ней, потом бежала, обгоняя сестру. Я – твоя, а ты – моя, и только моя…
Летом семья выезжала на дачу, на Финский залив.
Дачу я не помню, разумеется. Это были красивые места, вокруг пионерские лагеря. Пионеры жгли костры, а потом уходили, засыпав пеплом тлеющие угли, оставляя за собой небольшие холмы, безобидно серые сверху и раскаленные внутри. В такой вот невысокий холмик я вошла, двухлетняя. Что было дальше – нетрудно догадаться. Видимо, я взвыла на всю округу. Тася подскочила и выдернула меня из пепла, подхватила на руки. А вот дальше я помню: меня несут, а я болтаю ногами. Я запомнила именно ноги и круговые движения.
Вечером в конце рабочего дня на дачу приехал Муля, увидел своего разнесчастного ребенка в кроватке с замотанными ногами. Узнав, в чем дело, Муля схватил со стола ковш и отходил этим ковшом Тасю, как когда-то Настя Фроську. Муля лупил не глядя по чему придется: по голове, по плечам. Тася, как ни странно, не сопротивлялась, понимала, что виновата. Не углядела. Это называется «преступная халатность». Хорошо, что холмик был маленький, низкий. Ожог получился до колен. А если бы высокий…
В июне сорок первого года семья снова выехала на дачу. К тому времени мои ноги благополучно зажили, я сидела в золотом песке на берегу Финского залива. Муля и его три брата входили в воду. Залив был мелкий, и надо было долго идти, пока не достигнешь глубины.
Четверо идут, преодолевая коленями воду. Я вижу их затылки, плечи, молодые спины. Они удаляются, удаляются… Четыре брата. Они вместе. И в море.
После войны осталось двое. Жена среднего брата, многоумная Сима, приказала мужу идти в ополчение. Средний, Зяма, был близорукий, в очках как бинокли. Он был освобожден от армии. Такие не воюют. Они двигают науку, а на войне от них никакой пользы. Но идейная Сима сказала: «Враг наступает, ты должен защищать свой город».
И Зяма поперся в ополчение, и его убили на другой день. И Сима осталась куковать в одиночестве, гордая миссией своего мужа: пал как герой. На самом деле его подстрелили как зайца и даже могилы не осталось.
Тася сказала по этому поводу:
– Идиотка… – имея в виду многоумную Симу.
У войны своя правда, а у Таси – своя. Она ни за что не отпустила бы мужа, спрятала бы под юбку. Пусть сидит рядом и делает то, что умеет. А это говно Сталин пусть сам воюет с Гитлером, таким же говном. Пусть они перегрызут друг другу глотки, как псы.
Но Муля был военнообязанным, и его забрали на фронт от Таси и от детей. А через две недели Муля вернулся обратно – обросший, худой и оборванный. Оказывается, их полк попал в окружение. Они бродили по лесу, не зная, куда идти. Ели ягоды, грибы, сдирали молодую кору с деревьев. Муля понимал: его не возьмут в плен, сразу расстреляют. Муля не был похож на еврея в обычном понимании, но немцы умели в этом разбираться.
Каким-то образом Муле удалось выйти из окружения. Он появился в дверях стометровой комнаты, и все сделали: «А-а-х-х!»
Это «ахх» я запомнила навсегда и Мулину тень в дверях.
Немцы наступали, стремительно продвигались в глубь страны. Надо было срочно вывозить заводы на Урал или за Урал. Папа опять ушел на фронт, хотя какой из него вояка… Дядя Женя командовал отправкой своего завода. В эвакуацию брали только детей, без родителей. Важно было спасти детей, а для взрослых не хватало места и пропитания.
Тася привезла меня и Ленку на вокзал, запустила в вагон. Стала смотреть на окна. В одном из вагонных окошек увидела наши зареванные рожицы. Одной пять, другой три. Тася поняла: пропадут. Она не представляла себе, как мы останемся без нее, а она без нас.
Поезд дернулся. Тася прыгнула на подножку в чем стояла.
Впереди Урал, а на ней шелковое платье.
Тася прошмыгнула в вагон, спряталась под лавку.
Вдоль состава шел заместитель директора Рейниш. Я запомнила фамилию. Это был статный пятидесятилетний красавец. Рейниш встречал Тасю и раньше в доме дяди Жени. Она ему очень нравилась.
Как говорила многоумная Сима: «Пожилые евреи любят молодых русских женщин».
Молодых русских женщин любят не только евреи, а все существующие национальности. Во-вторых, Рейниш не был пожилым. Он был в расцвете лет. Но дело не в этом. Рейниш и Тася встретились глазами. Тася смотрела из-под лавки, как собака, и он не смог ее выгнать, хотя имело место явное нарушение. Не смог, и все, тем более что поезд уже трогался. Рейниш махнул рукой и пошел дальше вдоль состава.
Дети плакали на все лады: громко и тихо, покорно и скандально. И только мы с сестрой не плакали. С нами была мама.
Мы приехали в деревню, которая называлась Русские Краи. И действительно находилась на краю света. Дальше уже не было ничего. Люди голодали. Собирали на полях колосья, пролежавшие под снегом всю зиму, и ели. И умирали от отравления.
Помню, как вместе с деревенской подругой Милькой забежала в избу, где лежала покойница – шестнадцатилетняя девушка. Вокруг вой и причитания. Нам, детям, это было интересно. Театр.
Наступил церковный праздник. Хозяйка избы, в которой мы жили, взяла меня на кладбище. Поставила на могилу и велела читать стишок. Я декламировала весь свой репертуар: Маршак, Чуковский, Агния Барто. Когда стихи кончились, стала петь песни. Мелодию выводила правильно, старательно, легко брала верхние ноты. Я пела «Темную ночь», «На закате ходит парень», «На позицию девушка провожала бойца».
Моя хозяйка расстелила у моих ног платок. В этот платок бросали крутые яйца, пирожки, конфеты, мелкие деньги. Откуда брались такие богатства?
Когда я иссякла, хозяйка завязала платок в узел и принесла моей маме заработанное. Тася пришла в ужас: ее дочка побиралась, как нищенка. Но с другой стороны – улов не малый. Тася по-братски поделилась с хозяйкой и подумывала: не отправить ли меня опять на заработки. Но церковный праздник кончился, надо было ждать следующего.
Мама работала на разгрузке зерна. Зерно свозили в церковь. Церковь когда-то была красивая. Стены расписаны святыми. Сейчас там хранили зерно. Святые стояли засыпанные до бровей.
Тася махала лопатой, она была сильная, здоровая и азартная, не боялась никакой работы, в отличие от Раи, жены дяди Жени, которая была назначена в семье красавицей. У Раи были бархатные глаза и руки, растущие из жопы. Не умела ничего, только жаловалась на здоровье.
Мама махала лопатой, сгружая с грузовиков зерно. Ненароком закидывала горсть зерна себе в трусы и в лифчик, зачерпывала в обувь – это были лапти.
Когда приходила домой, встряхивалась как курица и под ней образовывалась немалая горка зерна. Тася раскатывала это зерно в муку и пекла нам оладьи. Полноценное питание. Мы об этом не распространялись. Опасно. За хищение государственного зерна могли и посадить. И расстрелять тоже могли.
В нашей стране никогда не считались с отдельным человеком. Люди – мусор. А по законам военного времени – тем более.
Тася вышила одной бабе кофточку – веночек на груди. В веночке переплетались колосья, васильки, клевер, ромашки. У Таси были нитки мулине всех цветов. Как же это было красиво… Желтые колосья, синие васильки, сиреневый клевер, зеленые листочки. На белом батисте кофточки загорался пестрый, нежный, изысканный веночек. Глаз не оторвать.
Слух пошел по всем Русским Краям. К Тасе повалили бабы с кофточками. Молодые женщины, оставшись без мужчин, все равно хотели быть красивыми. Что это? Инстинкт? Озеро надежды? Пусть не сейчас, не сегодня, но когда-нибудь вернется с войны ее любимый, а она к нему – в вышитой кофточке.
Эти кофточки помогали выжить – поднимали дух, возрождали надежду.
Тася денег не брала. Зачем ей бумага? Она брала натурой: яйцами, маслом, хлебом. И приносили. За красоту отдавали последнее. И в результате у Таси в погребе стоял туесок меда, брус масла и кирпич хлеба, завернутый в холщовое полотенце. Тася по утрам отрезала нам хлеб – полный квадрат, сверху масло, а уже на масло ложка меда. Чем не завтрак? Французы и сейчас так едят, только вместо хлеба круассан.
Тася выкормила нас в голодное время. Спасла. Сохранила благодаря своему таланту, труду и природной хватке.
Не знаю, чем бы она занялась в сегодняшние дни, но занялась бы и преуспела. Она любила труд, любила быть занятой, любила зарабатывать и широко тратить. И дарить. И встречать благодарность, текущую из глаз принимающего.
Муля – полная противоположность. Он был ведомый. Ему надо было указать: что делать. Тогда он делал. А не ткнешь пальцем, он и не пошевелится.
Тасю это раздражало и даже бесило. Я помню, как она ему выговаривала долгими вечерами, а он слушал ее упреки, склонив голову. Он был другой – закрытый и созерцательный. Такие ведь тоже нужны. Все люди разные, и в этом большой резон. Если землю наполнят сплошные лидеры, они перережут друг друга в борьбе за власть. В чем миссия Мули? Я и Ленка – вот его миссия.
Когда Муля увозил Тасю из Горловки, он обнимал ее в поезде и шептал на ухо: «Мы с тобой поженимся, и у нас будут талантливые дети…»
Считается, что смешение кровей дает хороший результат. Тогда становится понятно, почему в папиной жизни состоялась именно Тася, а не Роза и не многоумная Сима. Значит, Тася – не случайность, а неумолимая линия судьбы. Все продумано заранее.
В войне наметился перелом. Паулюса взяли в плен. Сталинградская битва окончилась нашей победой. Те, кто там был, рассказывали, что все происходящее напоминало зимнюю пургу, только вместо снежинок пули. Железная пурга. В Русских Краях стали появляться инвалиды.
Я приморозила себе язык. Скоба на воротах покрылась инеем, как сахаром. Я лизнула, язык пристал. Я стала его отдирать – потекла кровь, язык пристал еще больше. Я взвыла. Выскочила Тася и плеснула мне в лицо ковш горячей воды. Язык отстал, но меня потом долго дразнили: «Чей это там язык на воротах болтается?»
Настя осталась в ленинградской блокаде. Голод, как оказалось, самое сильное испытание. Однажды Насте приснился сон, что она сидит за накрытым столом и ест. Она ела, ела без устали. Проснулась и увидела, что сжевала кусок ватного одеяла. Целый угол.
У Шурки Александровой пропал племянник. Потом стало понятно, что его съели. Он тащился по улице, а из подвального окна высунулась рука, схватила за лодыжку и дернула. Племянник был слабый от голода, ему много не надо. Затащили в подвальное окно, и больше его никто не видел.
У Насти была своя комната в общей квартире. Рядом жил сосед – молодой мужик. Он уже не вставал, практически умирал, и не мог ходить в магазин, чтобы отоварить свою карточку: сто двадцать пять блокадных граммов – кусочек хлеба величиной с ладонь и маленький довесочек величиной со спичечную коробку. Настя брала его карточку, и шла в очередь, и приносила все сполна: и кусочек хлеба и довесочек. Свой она съедала по дороге, не было сил терпеть. А соседскую пайку не трогала. И мужик не умер. Потом блокаду сняли.
Мужик поднялся на ноги и подарил Насте икону. Икона – всегда икона, какая бы она ни была, но эта икона – настоящая ценность, древняя, в позолоченном окладе. Темные лики Младенца Спасителя и Девы Марии. Этой иконе нет цены в прямом и переносном смысле слова.
Сейчас она у меня на стене – часть Насти, ее душа, ее самопожертвование. Кто бы осудил Настю, если бы она, умирающая от голода, съела бы чужой кусок? Никто бы даже не узнал. Но она приносила и отдавала. В этой маленькой незаметной женщине был стальной стержень нравственности. В ней был Бог, и она жила ведомая Богом.
Однажды в Русские Краи пришла посылка из Ленинграда. Настя прислала нам ватнички – мне и сестре: серенькие, новые, аккуратные, а к ним два малиновых беретика.
Ватник – униформа зэков, но, как выяснилось, это очень удобная одежда: экологически чистая, теплая, на вате. В наше время появились пуховики, но это те же самые ватники.
Я надела на себя обновку, на макушку – берет, начесала челку и встала перед зеркалом. И замерла от невиданной красоты. Я себе очень понравилась. Стояла и думала: «Вот бы меня увидела сейчас тетя Настя…»
Настя в моем детстве являла собой воплощение любви. Потом, в юности и молодости, это место занимает мужчина. Далее – дети, а потом – как повезет. В старости это могут быть внуки, а может, кот, не исключен и любовник. Главное, чтобы этот проводник существовал, светил, грел и осмыслял жизнь.
Так, как я любила Настю, я не любила больше никого и никогда. Со временем эта любовь не стиралась, не становилась меньше, горела так же ярко, а после того, как Настя умерла, моя любовь выросла до неба. Я могла бы на нее молиться, что я и делаю. Когда я в себе неуверена или когда я себя не люблю, то вспоминаю Настю. И она меня поддерживает.
Мы с сестрой сидели в Русских Краях и ели хлеб с маслом. В наше окно постучала соседка Милька и заорала:
– Кирка, Ленка, пошли жидов смотреть!
(Кирка – это мое домашнее имя.)
Мы с сестрой выскочили из-за стола и помчались на другой конец улицы, где жил дядя Женя с детьми – Валей и Светой.
Мы мчались смотреть на своих двоюродных сестер.
В Русских Краях никогда не видели евреев, и им казалось, что это что-то экзотическое.
Деревенские выстроились вокруг Вальки и Светки и смотрели во все глаза. Ничего особенного. Обычные девочки в кроличьих шубках, с чистыми, мытыми личиками. Они стояли в центре круга и смотрели исподлобья, чувствуя слабую враждебность. И мы с сестрой тоже это чувствовали и не входили в центр круга, стояли за спинами деревенских.
Муля был на фронте, мы жили с откровенно русской матерью, и никто не подозревал, что мы с Ленкой тоже «замешаны в историю».
Тася рассказывала мне: ее мать Ульяна собиралась в город на ярмарку, а маленькая Тася умоляла взять ее с собой. Плакала.
– Вызьмы мэнэ на ярмарку.
– Та шо там робыты? – не соглашалась Ульяна. – Там нэчого такого немае. Жиды торгуют, та и всэ.
– Я хочу жидив побачиты, – ныла Тася.
– Та що на их дывытися? Таки ж люди, як мы…
Муля заболел. Его комиссовали и отправили в Свердловск на операцию. Тася бросила нас на тетю Соню и поехала в Свердловск, быть рядом в трудную минуту.
Муле сделали операцию под местным наркозом, и он слышал, как врач сказал: «Канцер». Местный наркоз недопустим при полостной операции, но идет война. Всего в обрез. При миллионных потерях кто такой Муля? На одного человека меньше, подумаешь…
Муля понимал, что значит «канцер». Это рак. Он заплакал.
На одного человека меньше – можно не заметить, но ведь этот человек – ОН. Целая жизнь, пройденная всего до половины.
Тася стала его выхаживать после операции. Она сняла какое-то жилье возле больницы и носила ему домашнюю еду. Ее бульоны благоухали кореньями. А от котлет шел такой аромат, что под окнами больницы собирались бездомные собаки.
Кто-то сказал Тасе, что полезно пить из серебра. Она пошла на толкучку и купила серебряную рюмочку. Эта рюмочка стоит у меня до сих пор. Я ее чищу время от времени. Настоящее старое серебро.
Икона, рюмочка – все это часть меня. Прошлое и настоящее идут одно в другом. Настоящее и прошлое – это и есть я.
Тася приходила в больницу каждый день. Она открывала дверь в палату, и Муле казалось, что вкатывается солнце. Появлялась надежда, что все не так плохо. Обойдется как-нибудь. Он любил ее, как в первые дни, и говорил ей об этом не стесняясь. Тасе это было скорее приятно, но она была человек действия. Что такое слова? Воздух. А надо было перестелить Муле кровать, накормить его, вымыть пол в палате, помочь другим больным. Хоть и посторонние, а тоже люди…
Мулю выписали, и он уехал с Тасей в Русские Краи. Я помню розовый шрам на его животе.
Муля пил сыворотку из трехлитровой банки. Сказали, что полезно. Был хмур и задумчив. Спрашивал у Таси:
– У меня есть на лице печать смерти?
– Тю… – отвечала Тася.
Это означало: «Не говори ерунды».
Война катилась к концу. Наши войска воевали на чужой территории, энергично освобождали Европу. Тем не менее в Русские Краи то и дело приходили похоронки. То один дом, то другой оглашался воем. Туда тут же устремлялась вся улица. Поддерживали мать, потерявшую сына, или вдову, потерявшую мужа. Вместе выли, общими силами сооружали поминки, как-то разбавляли густое горе. В одиночку было не справиться.
Гитлер еще не застрелился, но планировал. «Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца».
Муля засобирался в Ленинград. Наша довоенная комната пропала, ее заняли другие люди. Надо было достать жилье для Таси с детьми. Муля боялся умереть и оставить семью без крыши над головой.
Он уехал, а мы остались.
Как он там старался, бился, обивал пороги – трудно себе представить Мулю в этой роли. Однако жилье ему выделили – большую квадратную комнату на пятом этаже без лифта, солнечная сторона. Дом стоял там же, на Лесном проспекте, улица Батенина. Кто такой этот Батенин, я не знаю до сих пор. Существует ли сейчас эта улица или ее переименовали?
Я хорошо помню нашу комнату. Окно находилось не в середине стены, как обычно, а сбоку. Тася говорила: это строили вредители. Не думаю. Просто дом строился в тридцатые годы, а это было время охоты на ведьм, и всех подозревали. Все были вредители, хотели подорвать советский строй и убить товарища Сталина. Ужасное время досталось Муле и Тасе, однако люди бывают счастливы и в плохие времена. И наоборот.
Папа получил комнату, расслабился и стал умирать. Рак вернулся, а может, и не уходил.
Муля умирал на Старо-Невском в пятнадцатиметровой спальне, где он провел первый год с Тасей.
Родные ухаживали за ним как могли. Но что они могли…
Когда Муля умер, его лицо было глубоко расцарапано. Он рвал лицо ногтями, чтобы не кричать от боли, не напрягать близких.
Дядя Женя к тому времени уже вернулся из эвакуации, перевез завод обратно и наладил производство.
Он проводил Мулю в последний путь. Известил маму о смерти, послал открытку в Русские Краи. Эта открытка лежит у меня до сих пор. На ней изображено озеро, на берегу – дерево с обрубленными ветками, к дереву привязана одинокая лодка. Открытка темная, дерево черное и лодка тоже черная. На обратной стороне дядя Женя написал: «Любовная лодка разбилась о быт». Позже я узнала, что слова на открытке – это посмертная записка Маяковского, не имеющая к Муле и Тасе никакого отношения. Но настроение было схвачено. Тася горько плакала, прислонившись головой к высокой печке. Кого она оплакивала? Мулю, умершего в расцвете лет? Себя, свою молодость? Нас, полусирот? Думаю, все вместе.
Победу над Германией мы встретили в дороге. Поезд остановился. Какой-то мужик шел вдоль вагонов, стучал по ним палкой, выкрикивал: «Победа! Победа!»
Все высыпали на улицу. Серое утро. Маленькая станция. Самодельный помост. На помосте духовой оркестрик играет бодрый марш.
Вокруг люди, люди, общее возбуждение, музыка. Тася плачет навзрыд, громко, не стесняясь. Никто не обращает внимания. На фоне общего ликования еще острее ощущается собственное горе.
Что ждет ее в большом городе – одинокую, полуграмотную, без специальности, без средств к существованию… Надо было не утонуть в послевоенном хаосе, как-то удержаться. А как?
Мы поселились в комнате, которую достал нам Муля. Во вторую комнату въехала Настя, которая поменялась с нашей соседкой Клавой.
Прежняя комната Насти была в два раза больше, чем комната соседки Клавы, но Настя пожертвовала удобством для того, чтобы быть вместе с нами. Теперь у нас отдельная квартира, невиданная роскошь по тем временам.
Послевоенный Ленинград. В доме клопы и крысы. Однажды Тася поставила на батарею кастрюлю с картофельным пюре, чтобы не остыло. Без крышки. Я вышла на кухню и увидела крысу, отдыхающую поверх пюре. Она сидела, поджав лапы, как кошка. Грелась.
Лесной проспект. Движение остановлено. По проспекту широкой колонной шагают солдаты-победители. Марш победы.
В колонну летят цветы. Народ тянет к ним руки как к святыне. Молодые мужчины не нарушают шаг, четко идут в колонне – взволнованные, счастливые, целые. Они вернулись живыми и будут жить дальше. Их ад позади. Они – боги.
Я, семилетняя, с восторгом смотрю на идущих и вижу Мулю, не в точности, но почти: невысокий, худой, очень милый. Почти красивый. У него в руках крупная белая хризантема. Он выбирает меня глазами и протягивает цветок, улыбается и идет дальше. Я стою с хризантемой, смотрю ему вслед. Почему он выбрал меня? Наверное, у него дома осталась такая же востренькая, худенькая девочка. В этом дело. А может быть, я красивая и он в меня влюбился. Почему бы и нет?
Сразу по приезде из эвакуации «невские» повели нас на Мулину могилу. Муля был похоронен на еврейском кладбище. Мы с Ленкой шли мимо памятников, читали имена: Мордехай, Сруль…
Мы стали хохотать. Смех, как правило, разбирает именно тогда, когда он неуместен. Нам сделали замечание. Мы загнали смешинку внутрь, но стоило нам посмотреть друг на друга, как смешинка вырывалась и мы захлопывали рот ладошкой.
Вокруг папиной могилы все затихли. Два уцелевших брата стояли над холмиком, еще не осевшим, и чувствовали себя виноватыми в том, что они живы, а Муля там, в земле. Он был самый непрактичный среди них, самый уязвимый. Он не мог управлять этой жизнью, ничего убрать или добавить. А вот нет его – и воронка, как от упавшего самолета. Глубокая яма. И ничем ее не засыпать, не обойти. Хочется только зарыдать от тоски и несправедливости.
Тася тихо снимала слезы со щеки. Был Муля – не ценила. Казалось, что за поворотом стоят лучшие мужья, ждут Тасю. А никто не ждет. После войны мужчины на вес золота. Впереди ничего не светит, только воспоминания. И ушедшая жизнь, которой она была так недовольна, из сегодняшнего дня казалась прекрасной, как сказка, которая больше никогда не повторится.
Все стояли и тихо плакали. Вдруг тетя Соня громко пукнула. Когда громко, то не воняет, но очень смешно. Мы с Ленкой перегнулись пополам от хохота. Многоумная Сима строго посмотрела на нас и одернула:
– Дети…
Дядя Женя приглашал нас на семейные праздники: дни рождения, Новый год, Седьмое ноября…
Я помню длинный стол в стометровой комнате. Во главе стола – султан и повелитель дядя Женя, далее вся его многочисленная родня, а в самом конце стола – мы, Мулина семья, жена и дети.
За столом просто семья, «семь я». Чувствуется, что ты не одна, защищена родней и, даже если тебя выкинут из самолета, ты упадешь не на землю, а на пружинящее облако и уцелеешь, не разобьешься.
Никакого особого веселья нет, но хорошо, прочно, вкусно, светло. Надо всеми как будто ясный свет. Источник – дядя Женя.
На память приходит пятьдесят третий год. Новогодняя ночь. Семья в сборе, как всегда, но что-то изменилось. Как будто выключили свет. Всё погрузилось в потемки. Старухи замкнуты, их лица трагичны. Дядя Женя молчит и тоже замкнут. Кажется, что под потолком висят черные тяжелые тучи. Нависла тишина.
Оказывается, уже крутится дело врачей. Уже арестованы лучшие специалисты-евреи, которые преступно и сознательно губили русских людей и членов правительства. Уже стоят на запасных путях теплушки, которые вывезут всех евреев в Сибирь, пусть там обустраиваются на голой промерзлой земле.
Нас с Ленкой это не коснется. Мы при Тасе. А «невских» не минет чаша сия.
Все понимают это и тоскуют. Надеяться не на что. Душа надрывается.
Но… наступает март. Сталин умирает. Врачей выпускают. Погром отменяют. Теплушки расформированы. Сталин в гробу. Лежит вполне спокойный, сосредоточенный. Не успел.
А Гитлер – много успел. И чем это кончилось? Пришлось ликвидировать себя собственными руками.
Невольно начинаешь думать: когда затеваешь зло, оно возвращается к тебе бумерангом.
Иногда меня и Ленку «невские» оставляли ночевать. Укладывали в пятнадцатиметровой спальне. Перед сном мы получали витаминный паек: яблочко, мандаринку и шоколадку.
Рядом со мной присаживалась тетя Бася, папина тетка. Мне она казалась глубокой старухой. Тетя Бася таинственно спрашивала:
– У мамы кто-нибудь есть?
– Есть. – Я глубоко кивала головой.
– Кто?
– Сильва.
– Кто?? – переспрашивала тетя Бася.
– Кошка. Нам ее тетя Настя подарила.
Настя действительно принесла нам трехцветную кошку без имени. Тася назвала ее Сильва.
Крысы исчезли из дома, должно быть, разбежались по другим квартирам. Не хотели связываться с Сильвой.
«Невские» зорко следили за тем, чтобы Тася не гуляла и не вышла замуж. Детям не нужен чужой дядька, и не дай бог – русский пьяница.
Тасе тридцать лет. Она не хотела превращаться в монашенку, не хотела жить по чужой указке, но она зависела от «невских» морально и материально и вынуждена была подчиниться.
Иногда у нее собиралось застолье. Гости, в том числе Федька (Тасина послевоенная любовь), усаживались за стол. И тут открывалась дверь, и входила делегация «невских»: Бася, Хася, Цыпа, многоумная Сима. Соня не участвовала. Она любила маму, единственная среди всех. Это действо было похоже на то, как менты накрывают воровскую сходку. Тася пугалась до обморока, глаза от ужаса лезли на лоб. Как узнали, кто заложил? Оказывается, Настя. Она тоже не хотела, чтобы Тася шла за Федьку.
Федька – красавец в военной форме, отдаленно похожий на Панько, но со своими зубами и не такой криминальный. Усовершенствованный Панько. Если бы он втесался в семью, дети отошли бы на второй и третий план либо вообще оказались заброшены. Настя не могла этого допустить и не могла повлиять на Тасю. Какой у Насти авторитет? Поэтому она призывала тяжелую артиллерию – «невских». Сообщала время и место. «Невские» являлись со злорадными рожами. На Тасю накладывали санкции. Застолье было сорвано. И счастье тоже сорвано.
Тася выговаривала Насте без крика, но с болью. Настя выслушивала. Не возражала. Даже понимала. Но у нее были свои представления о нашем благополучии. Настя служила нам, детям, и победила. Федька испарился в конце концов.
Настя не зависела от Таси материально. Она работала в прачечной, орудовала на какой-то машине, которую называла «голандра». Получала зарплату и тратила ее на нас.
Тася могла бы выкинуть Настю из своей жизни, но не могла. Это был единый сплав, как золотая руда, где золото и руда взаимопроникали намертво.
Почему Тася не послала «невских» подальше? Дело не только в материальной зависимости, дело в том, что она считала их выше себя. Там, где она росла, в Горловке, девушки весь год ходили без трусов и писали не приседая. Стоя. А у евреев все культурно. Разве можно сравнить? И Муля – не Панько. Сравнение, как скрипка и барабан. Скрипка – сплошная музыка, а барабан – никакой музыки, один грохот.
Тася преклонялась перед «невскими» и принимала их варварский ультиматум. Только в Средневековье хоронили жен вместе с мужьями.
Через пятнадцать лет дядя Женя скажет Тасе:
– Дети выросли. Теперь ты можешь выйти замуж.
Тася ответит:
– А теперь уже поздно…
Женское счастье улетело, как дым в трубу, но Тася не сожалела. Как можно сожалеть о том, чего нет…
Я помню сорок шестой год. В магазинах черная икра, крабы. Крабы стоят штабелями. Я их терпеть не могу, но Тася сует мне в рот полные ложки одну за другой.
– Хлеба, – умоляю я. Широко кусаю хлеб, чтобы перебить пресноватый вкус крабов.
Тася где-то раздобыла рояль – настоящий, концертный, немецкой фирмы «Ратке». Четыре здоровенных работяги взгромоздили его на пятый этаж. Рояль был фирменный, но во время войны в нем хранили картошку, и дека лопнула. Однако клавиши целые, струны натянуты, кто там поймет про деку. Тася поставила рояль хвостом в угол. Комната облагородилась.
По ночам по скользкой поверхности рояля гуляли крысы, игнорируя Сильву. Когда звонил будильник, они пугались и тяжело соскакивали на пол. Со сна мне казалось, что падают кирпичи.
Тася отправила меня в музыкальную школу учиться на фортепьянах. А Ленке (впоследствии) наняла учителя иностранных языков. Она страстно хотела, чтобы мы, ее дети, выбились в благородные. Именно за этим Тася уехала из Горловки в Ленинград.
Благородными мы, возможно, не стали, но все-таки выбились в прослойку, именуемую «интеллигенция». Мечта Таси сбылась. Ее планы осуществились.
Тася постепенно обустраивала жилище. Вышила ковер на стену. На ковре была изображена спящая красавица с крутым шелковым бедром. Она лежала на боку лицом ко мне, с закрытыми глазами. Спала. А над ней – принц в коротких круглых штанах. Полосатых, как арбуз. Испанец. Усы стрелами. Он отодвинул занавеску и замер от восторга.
Я подолгу стояла перед ковром. Не знаю, имело ли это произведение художественную ценность, но в нем несомненно присутствовало чувство. И цвет. Шелковые аппликации – леденцово-розовые, малахитово-зеленые, – все это рвалось, и пело, и не давало отойти. Я буквально присутствовала при счастливом мгновении принца.
Тася вложила в работу всю свою женскую тоску, мечту и неутоленность.
Талантливая была Тася, девчонка из Горловки.
Дядя Женя помогал, конечно, но надо было искать работу.
Тася устроилась в ателье вышивальщицей. Вышивала карманы на детские платья: земляничка на веточке, белый гриб с замшевой шляпкой, мозаика – просто пестрые квадратики, расположенные произвольно. Рисунок надо было придумать, а потом исполнить. Настоящее творчество.
Тася называлась «надомница», потому что брала работу на дом. Сидела с иголкой за столом у окна. И я, проснувшись утром, изо дня в день видела ее склоненную голову и челночное движение руки.
Карман стоил один рубль. А вышивать его надо было целый день. И так продолжалось из месяца в месяц, из года в год.
Однажды мы с Ленкой, старшеклассницы, отправились в театр, а обратно приехали на такси.
Тася поджидала нас, глядя в окно, и вдруг увидела такси и нас, оттуда вылезающих.
Такси – это рубль. А рубль – карман. Целый день сидеть в три погибели. В Тасе вскипела ярость. Она распахнула окно настежь и завопила на весь двор:
– Смотрите! Люди, смотрите сюда! Миллионерки приехали! Миллионерки!
Люди останавливались, крутили головами. Мы с Ленкой стояли на обозрении, как голые, и готовы были провалиться сквозь землю. Буквально итальянское кино. Неореализм.
Тася жила долго. Вырастила детей и внуков. Застала правнуков, вернее, это они застали ее.
Тася любила меня самозабвенно, но как проявить любовь – она не знала. Денег у нее не было. Откуда? Слова для нее ничего не значили. Воздух. Она приезжала ко мне в Москву, ставила свой чемодан в прихожей и тут же начинала сдирать со стен обои.
Она замыслила собственноручно сделать ремонт, а детали продумала по дороге. В этом и будет ее участие и помощь, а значит – любовь.
В доме начиналось стихийное бедствие. Всё не на своих местах, ничего не найдешь. Дышать нечем. В воздухе висит пыльная взвесь от сорванных обоев. Тася во всех комнатах одновременно. От нее не спрятаться.
Ни с того ни с сего заявляет:
– Твоя дочь скоро умрет. У нее заболевание крови.
Я понимаю: Тася хочет, чтобы моя дочь ела с хлебом. Без хлеба человек остается голодным и в конце концов хиреет. Тася решила добиться своего любой ценой, поэтому запугивает и шантажирует. Слова для нее ничего не значат. Воздух.
Ей не нравится, что мой муж много читает, сидя в кресле. Ей кажется, что он бездельник. Она говорит:
– Я плесну ему кипятком под яйца…
Муж сбегает к своей маме. Еще пять минут, и мы разведемся.
Тася неважно воспитанна. Это правда. Но вот она уезжает к себе в Ленинград, и после нее квартира сверкает: свежие стены, вычищенные ковры. В туалете висит миниатюра, вышитая ее руками: Кармен с гребнем в волосах нюхает красную розу. Красиво.
В следующий приезд она готовит фаршированную рыбу. Научилась у «невских».
Я оставляю на нее шестимесячного внука и убегаю по интересам.
По возвращении беру ребенка на руки. Проверяю: жив ли он, здоров ли? Петруша (внук) рыгнул мне в лицо, и на меня пахнуло рыбой, перцем, луком, как от взрослого мужика. Я все поняла: Тася накормила грудного ребенка фаршированной рыбой. Караул…
– Мама… – У меня пропал дар речи.
– А он сам у меня отнял, – беспечно заявила Тася. И добавила: – Там все полезное. Ничего не случится.
Я опасалась, что ребенка придется везти в больницу, но действительно ничего не случилось. Петруша пребывал в прекрасном настроении. Фаршированная рыба ему понравилась больше, чем пресные молочные смеси. Он даже похорошел: глаза – озера, уши – лопухи. Уши – как у Мули. Характер – как у Таси. Наследственные гены.
Ничего не возникает из пустоты. Все черпается из глубины времен и повторяется в новых поколениях.
Муля, кого ты привез?
Он привез свое счастье и бессмертие. Только и всего.
На главную: Предисловие