Книга: Мои странные мысли
Назад: Часть III (Сентябрь 1968 – июнь 1982)
Дальше: 2. Дом Холмы на окраинах города
1. Дни Мевлюта в деревне
Если бы мир умел говорить, что бы он рассказал?
Теперь, чтобы понять, почему Мевлют принял именно такое решение, почему был так привязан к Райихе и почему боялся собак, мы вернемся в его детство. Мевлют появился на свет в 1957 году в деревне Дженнет-Пынар под городком Бейшехир провинции Конья и до двенадцати лет из своей деревни никуда не выезжал. Окончив с отличием начальную школу, он думал, что отправится продолжать учебу и работу к отцу в Стамбул, но отец не пожелал видеть его у себя, и до осени 1968 года Мевлют прожил в деревне, устроившись пастухом. До конца дней своих предстояло Мевлюту задаваться вопросом, почему его отец принял подобное решение. Его друзья, двоюродные братья Сулейман с Коркутом, в Стамбул уехали, а Мевлют остался один, отчего очень страдал. Он пас у холма небольшую отару – голов на восемь – десять. Каждый день его проходил в созерцании бесцветного озера вдали, автобусов и грузовиков, проносившихся по шоссе, птиц да тополей.
Иногда он прислушивался к шороху тополиных листьев, и ему казалось, что деревья пытаются ему что-то сказать. Бывало, деревья показывали Мевлюту потемневшие на солнце листья, а бывало – пожелтевшие. Внезапно задувал легкий ветерок, и картина смешивалась: потемневшие листья светились желтым, пожелтевшие мелькали темно-изумрудными краями.
Главным его развлечением было собирать сухие ветки, складывать их в кучу, а затем разводить костер. Когда ветки занимались пламенем, его пес Камиль принимался радостно носиться вокруг костра. Мевлют садился и протягивал к огню руки, пес тоже садился поодаль и, замерев, долго смотрел на огонь.
Все собаки в деревне узнавали Мевлюта, и даже если самой темной и тихой ночью он выходил за окраину, ни одна из них не лаяла ему вслед. Мевлют из-за этого чувствовал себя частью деревни. Деревенские собаки лаяли только на чужаков. Если собака набрасывалась на кого-то из деревенских, например на его двоюродного брата Сулеймана, лучшего друга Мевлюта, то тогда все говорили: «Смотри, Сулейман, ты, видно, замыслил что-то недоброе, как-то ты хитришь!»
Сулейман. По правде, ни одна из деревенских собак никогда на меня не набрасывалась. Мы сейчас переехали в Стамбул, и мне жаль, что Мевлют остался там, в деревне, я скучаю по нему. Но деревенские собаки и ко мне, и к Мевлюту относились совершенно одинаково. Я это хотел сказать.
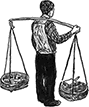
Иногда Мевлют и его пес Камиль взбирались на вершину холма. Когда Мевлют смотрел на бескрайний пейзаж, то в нем просыпалось желание жить, быть счастливым, занять важное место под солнцем. Он надеялся, что отец в конце концов приедет за ним на автобусе из Стамбула и увезет его с собой. Ручеек, у которого он оставлял пастись своих овец, извивался внизу, и каждый его изгиб обрамляли невысокие скалы. Иногда Мевлют видел дым от костра, зажженного на другом конце равнины. Он знал, что костер зажгли такие же, как он, юные пастухи из соседней деревни Гюмюш-Дере, которые, как и он, не смогли поехать на учебу в Стамбул. Когда бывало ветрено и ясно, особенно по утрам, с холма, на который поднимались Мевлют и Камиль, можно было разглядеть маленькие домики Гюмюш-Дере, выбеленную изящную мечеть с тонюсеньким минаретом.
Абдуррахман-эфенди. Я живу в той самой деревне, Гюмюш-Дере, и поэтому чувствую в себе смелость кое-что сказать. Большинство из нас, жителей Гюмюш-Дере, Дженнет-Пынар и еще трех окрестных деревень, в 1950-е годы были бедняками. Каждую зиму у нас накапливались долги бакалейщику, которые мы с большим трудом возвращали весной. В марте мужчины отправлялись на заработки, на стройку в Стамбул. У некоторых совершенно не было денег, и Кривой Бакалейщик покупал им билет на автобус до Стамбула, а их имена записывал в самое начало списка должников в тетрадку. Был такой рослый, широкоплечий Юсуф, который в 1954-м уехал в Стамбул из нашей Гюмюш-Дере и который до того уже работал на стройке в Стамбуле. Он случайно стал разносчиком йогурта и, обходя улицу за улицей с йогуртом, заработал очень много денег. Так что он перевез к себе на работу в Стамбул сначала своих братьев, затем дядей, которые поселились в его холостом жилище. Мы, жители Гюмюш-Дере, до того совершенно не смыслили в йогурте. Но большинство из нас поехали в Стамбул торговать йогуртом. Я уехал в Стамбул в двадцать два года, сразу после службы в армии. Признаться, я несколько раз нарушал там дисциплину, сбегал, меня ловили, колотили и сажали в тюрьму, и поэтому моя служба продлилась целых четыре года. В те времена наши доблестные офицеры еще не успели повесить премьер-министра Мендереса, и он каждый день то утром, то вечером разъезжал по Стамбулу на своем «кадиллаке», и все старинные особняки, преграждавшие ему путь, тотчас сносились, чтобы уступить место широким проспектам. У торговцев и разносчиков, бродивших по стамбульским улицам среди руин, было очень много работы, но у меня торговать йогуртом не получилось. Все, кто родом из наших мест, обычно рослые, широкоплечие, сильные. А ваш покорный слуга, иншаллах, уродился худым и щуплым. Шест разносчика с привязанными к обоим концам бидонами с йогуртом, каждый по двадцать-тридцать литров, которые нужно было носить с утра до вечера, казался мне невыносимо тяжелым. Кроме этого, я начал по вечерам торговать и бузой, подобно большинству торговцев йогуртом. Шест разносчика, что ни погрузи на него, на шее и плечах новичка оставляет мозоли. Проклятый шест обошелся со мной еще хуже, чем с другими, – у меня искривился позвоночник, и, когда я заметил это, пришлось отправиться в больницу. Я месяц провел в больничных очередях, и наконец доктор объявил мне, что следует немедленно забыть про шест. Но конечно же, из-за денег я немедленно забыл не про шест, а про доктора. Так моя спина искривилась совершенно, и приятели придумали мне кличку Горбун Абдуррахман, а я страшно из-за этого переживал. Теперь в Стамбуле я старался держаться подальше от наших деревенских, но по-прежнему видел на улицах этого психа Мустафу, отца Мевлюта, с его братом Хасаном, дядей Мевлюта. В те дни я и пристрастился к ракы, лишь бы забыть о терзавшей мою спину боли. Вскоре я совершенно забыл о своей мечте когда-нибудь обзавестись в Стамбуле домом (хотя бы каким-нибудь сараем гедже-конду) и мало-мальским имуществом – вместо этого принялся просаживать заработанное. На оставшиеся деньги в родной деревне я купил небольшой участок, а затем женился на самой бедной, самой безродной девушке Гюмюш-Дере. В Стамбуле я усвоил урок – для того чтобы задержаться там, человек должен привезти вместе с собой по меньшей мере трех сыновей. И я подумал, пусть у меня родится трое сильных, как львы, сыновей, я отправлюсь с ними в Стамбул, и на первом холме за чертой города построю свой собственный дом, и на этот раз завоюю город. Но в деревне у меня родились не три сына, а три дочери. А я сам два года назад навсегда вернулся в деревню, где очень счастлив с моими дочерьми. Сейчас я хочу вам их представить:
Ведиха. Мне хотелось, чтобы мой львенок-первенец был серьезным и работящим и чтобы его звали Ведии. К сожалению, родилась девочка, так что я назвал ее Ведиха вместо Ведии.
Райиха. Она очень любит забираться к отцу на руки и очень приятно пахнет.
Самиха. Не ребенок, а джинн, все время плачет и капризничает, ей нет еще и трех лет, и она носится по дому.
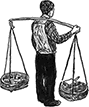
По вечерам в деревне Дженнет-Пынар Мевлют сиживал дома со своей матерью Атийе и двумя крепко любящими его старшими сестрами, писал письма в Стамбул отцу Мустафе-эфенди, просил его привезти из Стамбула ботинки, батарейки, пластмассовые прищепки, мыло и тому подобные вещи. Частым ответом на письма Мевлюта была одна-единственная фраза, что бóльшая часть заказанных ими вещей «есть в лавке у Кривого Бакалейщика». И тем не менее сын продолжал свои литературные упражнения, чувствуя в них потребность. НЕОБХОДИМОСТЬ ПИСЬМЕННО ПРОСИТЬ О ЧЕМ-ТО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА требовала от него трех навыков:
1. Нужно было найти истинное желание, поскольку обычно никто не знает своих истинных желаний.
2. Нужно было выразить письменным языком то, чего хочешь, ведь, когда письменно говоришь о том, что хочешь, понемногу начинаешь понимать, что именно тебе нужно.
3. Нужно было написать Письмо – нечто такое, что создается по принципам, изложенным в пунктах 1 и 2, но на самом деле получается таинственный текст с совершенно другим смыслом.
Мустафа-эфенди. Вернувшись из Стамбула в конце мая, я привез дочерям разноцветные ткани в цветочек на платья; жене тапочки и лимонный одеколон «Pe-Re-Ja», о которых она просила в письмах, написанных Мевлютом; а Мевлюту – игрушку, о которой он просил. Я разозлился, потому что Мевлют, завидев подарок, поблагодарил меня сквозь зубы. «Он хотел водяной пистолет, но такой, как у сына мухтара», – сказала его мать, пока старшие сестры хихикали. На следующий день мы с Мевлютом отправились к Кривому Бакалейщику и подробно прошлись по списку долгов. «Черт, а это что за жвачка „Чамлыджа“?» – то и дело спрашивал я, а Мевлют смотрел себе под ноги, ведь это он купил жвачку и сказал записать свой долг в тетрадь. «На будущее – не продавай ему жвачку!» – велел я Кривому Бакалейщику. «На будущее – пусть Мевлют поедет в Стамбул и поучится! – ответил хитрый бакалейщик. – Машаллах, голова у него хорошо работает, к счету, к математике способна, пусть и в нашей деревне появится хоть кто-нибудь, кто дойдет до университета».
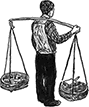
Известие о том, что отец Мевлюта в последнюю зиму в Стамбуле поругался с дядей Хасаном, быстро разошлось по деревне… Дядя Хасан и оба его сына, Коркут и Сулейман, в самые холодные дни прошедшего декабря выехали из стамбульского дома в Кюльтепе, где они жили вместе с отцом Мевлюта, оставив того в одиночестве, и переехали в другой дом в Дуттепе. Сразу после этого жена дяди Хасана, доводившаяся Мевлюту теткой, отправилась из деревни в город в этот новый дом, чтобы заботиться о своих мужчинах. Перемены означали, что осенью Мустафа-эфенди может взять к себе Мевлюта, чтобы не оставаться в Стамбуле одному.
Сулейман. Мой отец и дядя Мустафа – братья, но фамилии у нас разные. В те дни, когда по приказу Ататюрка все брали себе фамилии, в деревню из Бейшехира приехал чиновник, отвечающий за акты гражданского состояния. И аккуратно записал, кто какую фамилию себе выбрал. Очередь подошла к нашему деду, который был очень богобоязненным и набожным человеком и жизнь которого никогда не выходила за границы Бейшехира. Он подумал-подумал и сказал: «Акташ». Рядом с ним были оба его сына, которые, как обычно, ссорились. «А меня пусть запишут Караташем», – упрямо сказал тогда еще маленький мой будущий дядя Мустафа, но ни дед, ни чиновник его не послушали. Упрямый и привыкший делать все по-своему, дядя Мустафа, прежде чем записать Мевлюта в Стамбуле в среднюю школу, съездил в Бейшехир к судье и поменял себе фамилию, так что мы остались Акташами, а семья Мевлюта стала Караташами. Сын моего дяди, Мевлют Караташ, этой осенью приехал в Стамбул и жадно принялся за учебу. Правда, никто из наших мальчишек, которых увозили в Стамбул якобы на учебу, так и не сумел окончить лицей. Грустно, конечно, но лишь один-единственный парень из соседней деревни сумел попасть в университет. Потом этот ботан, который впоследствии даже надел очки, уехал в Америку, и больше о нем не слышали.
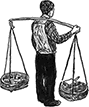
Однажды вечером в конце лета отец достал ржавую пилу, знакомую Мевлюту с детства. Он привел сына к старому дубу. Там они, сменяя друг друга, терпеливо и долго спиливали ветку толщиной с руку. Ветка была очень длинной и чуть кривой.
– Теперь это будет твой шест для торговли, – сказал отец Мевлюту.
Он взял на кухне спички и велел зажечь огонь. Подержав ветку над огнем, он опалил все сучки и подсушил будущий шест.
– Пусть пожарится до конца лета на солнце, а мы его еще над костром подсушим, чтобы он согнулся как следует. Он получится прочный, как камень, и мягкий, как бархат. Ну-ка, посмотрим, как он у тебя на плечах?
Мевлют положил шест на плечи. Затылком и плечами он с дрожью ощутил его тепло и твердость.
Уезжая в Стамбул в конце лета, отец и сын взяли с собой небольшой мешок, полный тарханы, высушенного красного перца, булгура, несколько сумок с тонкими лепешками и корзину с грецкими орехами. Отец имел обыкновение дарить булгур и орехи консьержам богатых больших домов, чтобы они позволяли ему подниматься на лифте. Кроме того, уезжавшие прихватили фонарь, который нужно было починить в Стамбуле, любимый чайник отца, циновку, чтобы постелить ее на полу дома в Стамбуле, и всякие прочие мелочи. Набитые битком полиэтиленовые пакеты в поезде то и дело вываливались из углов, куда их затолкали на время путешествия. Мевлют, который был полностью погружен в разглядывание мира за окном поезда и уже сейчас скучал по матери и старшим сестрам, то и дело вскакивал подбирать сваренные вкрутую яйца, выкатывающиеся из сумок на середину вагона.
В мире, который был за окном поезда, оказалось гораздо больше людей, пшеничных полей, тополей, быков, мостов, ишаков, домов, гор, мечетей, тракторов, надписей, букв, звезд и электрических столбов, чем Мевлют видел за всю свою двенадцатилетнюю жизнь. От этих столбов, проносившихся мимо Мевлюта, у него кружилась голова, и, опустив голову на плечо отца, он засыпал, а проснувшись, замечал, что желтые поля, солнечные стога пшеницы исчезли, все вокруг превратилось в лиловые скалы, и после этого Стамбул представал в его снах городом, созданным из этих лиловых скал.
А между тем показывалась очередная речушка и зеленые деревья, и он чувствовал, как настроение его тоже меняет цвет. Если бы мир умел говорить, что бы он рассказал? Поезд иногда подолгу стоял, но Мевлюту казалось из окна, что весь мир выстроился перед ним в очередь. Он с волнением громко читал отцу названия станций: «Хамам… Ихсание… Дёгер…» – глаза его то и дело слезились от синего сигаретного дыма, и он выходил в коридор, шатаясь, как пьяный, шел к уборной, с трудом открывал дверь с заедающим замком, нажимал на педаль и подолгу смотрел в отверстие в унитазе на проносящуюся внизу гальку. Колеса громко стучали. На обратном пути Мевлюту нравилось доходить до последнего вагона и разглядывать спящих в купе женщин, плачущих детей, резавшихся в карты мужчин. Он разглядывал тех, кто ел колбаски, тех, кто курил, тех, кто совершал намаз, – словом, всех, кто был в поезде.
На некоторых станциях в вагон поднимались мальчишки-разносчики, и Мевлют с большим вниманием смотрел на то, как они торгуют изюмом, жареным нутом, печеньем, хлебом, сыром, миндалем и жвачкой, а затем принимался есть пирожки из слоеного теста, которые мать заботливо положила ему в сумку. Иногда он видел, как пастухи с собаками, издали заметив поезд, бегут к нему с холма, на ходу выкрикивая: «Дайте газету!» (молодым пастухам газеты нужны для того, чтобы делать самокрутки) – и, когда поезд проносился мимо них, Мевлют испытывал странную гордость. Иногда стамбульский поезд останавливался посреди степи, и тогда Мевлют думал, как на самом деле в мире тихо. Во время ожидания, казавшегося бесконечным, он смотрел из окна вагона на то, как в маленьком саду какого-нибудь деревенского дома женщины собирают помидоры, куры вышагивают вдоль железнодорожных путей, ишаки стоят рядом с электрическим насосом, а поодаль на траве спит бородатый мужчина.
– Когда мы поедем? – спросил он во время одной из таких бесконечных стоянок поезда.
– Потерпи, сынок, Стамбул никуда не денется.
– Ой, мы, кажется, поехали.
– Это не мы, это мимо нас поезд проехал, – улыбнулся отец.
На протяжении всего путешествия Мевлют вспоминал карту Турции с флагом и Ататюрком, висевшую за спиной учителя в деревенской школе все те пять лет, что Мевлют там учился, и пытался представить, где же именно на этой карте они сейчас. Он уснул перед тем, как поезд приехал в Измит, и до самого вокзала Хайдар-Паша так и не раскрыл глаз.
Узлы, сумки и корзина, бывшие у них с собой, оказались очень тяжелыми. Целый час они потратили на то, чтобы перетащить их из вокзала Хайдар-Паша и сесть на пароход до Каракёя. Так Мевлют впервые в жизни увидел море. Море было темным и глубоким, словно сон. В прохладном воздухе ощущался сладковатый запах водорослей. Европейская часть Стамбула переливалась огнями. На всю свою жизнь Мевлют запомнил то, как впервые он увидел эти огни.

