Не страшное
(Из записок репортера. Этюд)
I
«Двадцатому будьте в N-ске. Сессия окружного суда. Подробности письмом. Редакция».
Я посмотрел на часы, потом справился в путеводителе. У меня была надежда, что я уже не попаду к ночному поезду на станцию железной дороги, расположенную верстах в десяти от города, где я только что закончил другое редакционное поручение. В уме мелькал лаконически-деловой ответ: «телеграмма запоздала, двадцатому не могу». К сожалению, однако, путеводитель и часы говорили другое: у меня было три часа на сборы и на путь до станции. Этого было достаточно.
Около одиннадцати часов теплого летнего вечера извозчик доставил меня к загородному вокзалу, светившему издалека своими огнями. Я приехал как раз во-время: поезд стоял у платформы.
Прямо против входа оказался вагон с открытыми окнами. В нем было довольно просторно, и какие-то господа интеллигентного вида играли в карты. Я догадался, что это члены суда, едущие на сессию, и решил искать место в другом вагоне. Это оказалось нелегко, но, наконец, место нашлось. Поезд уже трогался, когда я с легким багажом в руках вошел в купе 2 то класса, занятое тремя пассажирами.
Я уселся у окна, в которое веяло свежестью лунной ночи, и скоро мимо меня понеслись концы шпал, откосы, гудящие мостки, будки, луга, залитые белым светом луны, — точно уносимые назад быстрым потоком. Я чувствовал усталость и печаль. Думалось, что вот так же быстро бежит моя жизнь от мостка к мостку, от станции к станции, от города к городу, от пожара к выездной сессии… И что об этом никоим образом нельзя написать в газетном отчете, которого ждет от меня редакция… А то, что я напишу завтра, будет сухо и едва ли кому интересно.
Мысли были невеселые. Я отряхнулся от них и стал слушать разговор соседей.
II
Ближайший мой сосед беззаботно спал, предоставив мне устраиваться, как знаю, у него в ногах. Напротив один пассажир тоже лежал, другой сидел у окна… Они продолжали разговор, начатый ранее…
— Положим, — говорил лежащий, — я тоже человек без суеверий… Однако все-таки… (он сладко и протяжно зевнул) нельзя отрицать, что есть еще много, так сказать… ну одним словом — непознанного, что ли… Ну, положим, мужики… деревенское невежество и суеверие. Но ведь вот — газета…
— Ну, что ж, газета. То суеверие мужицкое, а это газетное… Мужику, по простоте, является примитивный чорт, с рогами там, огонь из пасти. И он дрожит… Для газетчика это уже фигура из балета…
Господин, допускавший, что есть «много непознанного», опять зевнул.
— Да, — сказал он несколько докторально, — это правда: страхи исчезают с развитием культуры и образованности…
Его собеседник помолчал и потом сказал задумчиво:
— Исчезают?.. А помните у Толстого: Анне Карениной и Вронскому снится один и тот же сон: мужик, обыкновенный мастеровой человек, «работает в железе» и говорит по-французски… И оба просыпаются в ужасе… Что тут страшного? Конечно, немного странно, что мужик говорит по-французски. Однако допустимо… И все-таки в данной-то комбинации житейских обстоятельств от этой ничем не угрожающей картины веет ужасом… Или вот еще у Достоевского в братьях Карамазовых… там есть наш городской чорт… Помните, конечно…
— Н-нет, не помню… Я ведь, Павел Семенович, преподаватель математики…
— А, да… Извините… я думал… Ну, я напомню: это, говорит, был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен лет уже не молодых, с проседью там, что ли, в волосах и в стриженой бородке клином… Белье, длинный галстух, в виде шарфа, все, говорит, было так, как у всех шиковатых джентльменов, но только белье грязновато, а галстух потертый. Словом — «вид порядочности при весьма слабых карманных средствах».
— Ну, какой же это чорт? Просто проходимец, каких много, — сказал математик.
— То-то вот и есть, что много… Это и страшно… И именно потому страшно, что так обыкновенно: и галстучек, и манишка, и сюртучок… Только что потертые, а то бы совсем, как и мы с вами…
— Ну, это что-то, Павел Семеныч… это, извините, какая-то у вас странная философия…
Математик слегка как будто обиделся. Павел Семенович повернулся к свету, и мне стало ясно видно его широкое лицо с прямыми бровями и серыми задумчивыми глазами под крутым лбом.
Оба помолчали. Некоторое время слышался торопливый стук поезда. Но затем Павел Семенович заговорил опять своим ровным голосом.
— На N-ской станции подошел я, знаете, к локомотиву. Машинист человек отчасти знакомый… Хронически сонный субъект, даже глаза опухшие.
— Да? — спросил собеседник равнодушно и не скрывая этого равнодушия.
— Положительно… Явление, конечно, естественное. Тридцать шесть часов не спал.
— М-м-да-а… Это много…
— Я вот и думаю: мы заснем… Поезд летит на всех парах… А правит им человек некоторым образом совершенно осовелый…
Собеседник слегка завозился на своем месте…
— Да, вы вот с какой стороны!.. Действительно, чорт возьми… Вы бы заявили начальнику станции…
— Что тут заявлять… Засмеется! Дело самое обыкновенное, даже можно сказать — система. В Петербурге в каком-нибудь управлении сидит господин… И перед ним таблицы, в таблицах — цифры. Приход… Расход… И в одной графе расхода есть машинисты. Жалованье — столько-то. Поверстных столько-то. Поверстные, — это пробег поездов, — цифра полезная, доходная, твердая, подлежащая увеличению. А вот жалованье людям — это уже минус… Вот этот человек и ломает голову: взять меньше машинистов, а пробег оставить тот же… Если даже немного увеличить… Происходит, так сказать, стихийная игра цифр… И занимается ею самый обыкновенный господин… И сюртучок на нем, и галстучек, и вид полной порядочности… Товарищ хороший, семьянин прекрасный… Деточек любит, жене к празднику сувенирчики дарит… И дело его самое безобидное: простейшие задачи решает. А в результате сон у людей убывает… И по полям и равнинам нашего любезного отечества в этакие вот лунные ночи мчатся вот этакие же поезда, и с локомотива глядят вперед полусонные, запухшие глаза человека, ответственного за сотни жизней… Минута дремоты…
Ноги математика, одетые в клетчатые брюки, зашевелились; он поднялся с своего места в тени и сел на скамейке… Его полное маловыразительное лицо с толстыми подстриженными усами было встревожено.
— Ну вас, ей-богу, с вашим карканьем, — сказал он с неудовольствием… — И как это у вас, чорт возьми, ощутительно выходит… Только что хотел заснуть…
Павел Семенович с удивлением посмотрел на него.
— Да нет, что вы это? — сказал он… — Бог с вами!.. Доедем, бог даст, благополучно. Я ведь только к тому, что вот как оно перемешано: страшное и обычное… Экономия — обыкновеннейшее житейское дело… А около нее где-то смерть… И даже подлежит учету по теории вероятностей…
Математик, все еще огорченный, вынул портсигар и сказал, закуривая:
— Нет, это вы верно: действительно, чорт его знает: заснет, каналья, и как раз… Скоты эти железнодорожники… Однако, давайте о чем-нибудь другом. К чорту все эти страхи… Итак, вы все еще процветаете в Тиходоле?.. Давно что-то застряли…
— Да, — ответил немного сконфуженный Павел Семенович… — Такой уж, знаете, город несчастный… Точно в яму какую проваливаешься. Учитель, судебный следователь, акцизный… Как попал сюда, так будто и забыли про тебя и из списков живущих вычеркнули…
— Да, да… Действительно город, чорт его знает. Глухой какой-то… Даже клуба нет. И грязь невылазная.
— Клуб теперь, положим, есть… И мостовые кое-где завелись… Освещение тоже, особенно в центре… Я, положим, живу на окраине, так мало этими удобствами пользуюсь…
— А вы где, собственно, живете?
— В доме Будникова, на слободке…
— Будников? Семен Николаевич? Представьте, ведь и я жил в этих же местах: у отца Полидорова… С Будниковым. встречался, как же! Прекрасный господин, с образованием и, кажется, немного даже того… с идеями?..
— Да, с некоторыми странностями…
— Нет, что же?.. Я говорю, с идеями. А странности… Какие же? Кажется, ничего особенного.
— Вот именно: особенного ничего, а все-таки… Ценные бумаги, например, хранил в тюфяке…
— Ну, я этого не знал. А так, при встречах производил отличное впечатление. Свежее такое, оригинальное… Домовладелец и вдруг — сам живет в двух комнатках, без прислуги. Впрочем… постойте… Было, помнится, что-то вроде дворника…
— Это, верно, Гаврило…
— Именно, именно Гаврило. Низкорослый такой, белобрысый? Да? Ну, вот… Помню, — приятно было смотреть на его рожу: добродушнейшее этакое мурло… Бывало думаю: в хозяина и работник… Ну, что он? Все такой же?
Павел Семенович некоторое время молчал. Потом посмотрел на собеседника каким-то помутневшим взглядом и сказал:
— Д-да… Вы правы… И это было действительно так… И Семен Николаевич… И Гаврило… И оба они вместе…
— Ну, да! Я ведь помню…
— Именно свежий был человек для нашего города… Образованный, независимый, с идеями… Был в университете, только не кончил из-за какой-то истории… Сам он мне говорил, будто влюбился несчастливо. «Сердце, говорит, у меня разбито». С другой стороны, мне известно, что он переписывался с каким-то приятелем в местах весьма отдаленных. Значит, было назади что-то такое… Отец у него, говорили, ростовщичеством занимался, хотя не особенно злостно. Так с сыном у него из-за этого ссора некоторая вышла. Молодой студент не одобрял и не прикасался к его деньгам, перебиваясь грошовыми уроками… Ну, когда отец умер — Семен Николаевич приехал, вступил во владение наследством. Говорил кое-кому: «Не для себя… Считаю это долгом всему обществу»… Потом… дела-то оказались запутанными… Дома там, земля, долгосрочные контракты, тяжба какая-то… Разбирался он во всем этом год, другой, третий, а там и втянулся. Многие еще помнили, как он говорил: «Только бы тяжбу закончить с этими подлецами, да дела устроить… Дня в этой проклятой трущобе не останусь…» Ну, одним словом, — история обычная… Учитель у нас один, зоолог, поступая к нам в гимназию, так прямо и говорил: только бы, говорит, диссертацию написать, и вон из этого болота!
— А, это Каллистов! Ну, что же? — спросил живо математик.
Рассказчик только махнул рукой.
— До сих пор все пишет. Женился. Третьим бог благословляет… Ну, вот так же и Семен Николаевич Будников — все свою, так сказать, жизненную диссертацию писал. Началось, кажется, с того, что увлекся тяжбой. Отзывы эти, протесты, кассации, вся эта игра… И все сам писал, почти не советуясь с адвокатами. Потом, — пока что — новый дом стал строить. Когда я с ним познакомился, он был уже благополучным среднего возраста холостяком, с румяным лицом и приятной этакой, спокойной, солидной и сочной речью. И уже тогда были маленькие странности. Приходил иногда ко мне, главным образом в сроки уплаты за квартиру… Мы эти сроки пригнали к двадцатому. Ну, значит, двадцатого он и приходил в восемь часов вечера и выпивал у меня два стакана чаю с ромом. Не больше, но и не меньше! На каждый стакан по две ложечки рому и по сухарю. Я привык смотреть на это, как бы на некоторую приставку к квартирной плате. И у других квартирантов бывало то же, — у кого с ромом, у кого без рому. Сроки найма были все различные, квартир в четырех его домах (один в городе довольно большой) было около двадцати… Итого сорок стаканов чаю… Впоследствии оказалось, что это входило в его бюджет и вписывалось в книги… Иной раз так и стояло: «Не застал такого-то, деньги он принес сам на следующий день. В расход сверх сметы два стакана чаю»…
— Неужели? — засмеялся Петр Петрович. — Вот не думал никак! Откуда же вы узнали?
— Пришлось по одному случаю. Да, это, конечно, черта тоже неожиданная, и, вероятно, в ваше время ее еще не было. Ну, а позже стало заметно. Даже обыватели стали поговаривать: дескать, г. Будников человек с расчетцем. Говорилось это благодушно, даже с одобрением. Это как будто роднило Будникова со средой… Понимаете? Явилась в непонятном человеке какая-то ниточка своя, бытовая, так сказать, понятная… Ну, и стала эта черта все более обозначаться. Считалось, например, что г. Будников не держит почти прислуги: Гаврило был дворником того дома, где была и моя квартира; чистил некоторым жильцам платье, ставил самовары, бегал на побегушках. И бывало так, что хозяин и работник сидят рядышком и чистят сапоги: дворник жильцам, Будников себе… Но потом г. Будников завел лошадь. Без особенной нужды. Маленькая роскошь: ездил он раза два в неделю на загородный хутор. Остальное время лошадь была свободна. У Гаврилы тоже не все время было занято… Ну, и вышло естественным образом, что лошадь перешла на попечение Гаврилы, и он с нею стал выезжать на биржу. Гаврило против этой комбинации, повидимому, ничего не имел, так как неустанный труд считал своим приятным назначением. Есть, знаете, своего рода талантливость на все, и я думал иной раз, что Гаврило своего рода гений в области мускульного труда… В движениях легкость, беструдность какая-то неутомимая… Иной раз даже ночью… не спится бывало. Взглянешь, в окно: метет мой Гаврило улицу или там канавки подчищает. Это значит — лег спать и вдруг вспомнил: не успел за другими делами мостки дочистить… Идет и чистит. И была в этом положительно какая-то своя красота…
— Да, да! — сказал математик. — Вы очень верно изобразили этого человека. Вспоминаю именно, что на него вообще было приятно смотреть, благообразие какое-то.
— Душевное равновесие всегда красиво, а он исполнял свое назначение, не углубляясь в характер своих отношений к хозяину… И это тоже было приятное зрелище, то есть их взаимные отношения. Один красиво играет мускулами. Другой придает этой игре смысл и разумную целесообразность… Увидел, что время не заполнено, — и нашел новое применение… Своего рода гармония интересов, почти идиллия… Чуть свет — Гаврило уж на работе. Г-н Будников вставал тоже рано. Ониздоровались с очевидным взаимным расположением. Потом г. Будников или работал в саду, или обходил свое «хозяйство», разбросанное в городе: беднота-то поднимается рано, он и заходил утром в квартирки, занятые беднотой… Потом возвращался и говорил:
— Ну, ты теперь, Гаврилушко, запрягай, пожалуй, а я за тебя тут дочищу… Как раз чиновники в канцелярии идут. Может, кто и попадется…
Себя он считал в то время не то толстовцем, не то… опростившимся, что ли… Часто заговаривал о ненормальности нашей жизни, о необходимости отдать долг трудящемуся народу, о пользе физического труда. — «Работаю вот, — говорил он, когда кто-нибудь заставал его за топором или лопатой. — Помогаю ближнему дворнику трудом своим». И трудно было разобрать в его тоне: ирония это или серьезно… В середине дня Гаврило возвращался и ставил лошадь в конюшню, аг. Будников опять отправлялся по хозяйству, делал жильцам вежливые замечания за изломанный палисадник или обитую детскими мячами штукатурку… Возвращался он порой с каким-нибудь нищим, а то и двумя. Они, значит, попросили на, улице милостыню, а он предложил «трудовую помощь»… Ну, конечно, попрошайки обращались в постыдное бегство; а г. Будников с особенным удовольствием продолжал работать один или с Гаврилой. Вскоре его узнали все нищие в городе и только кланялись с добродушной улыбкой, а денег не просили. — «Как это вы, друзья мои, не понимаете своей пользы», — назидательно говорил г. Будников. И надо сказать, что этот «трудовой» образ жизни ему лично приносил очевидную пользу: румянец у него был прямо завидный, ровный этакий, с здоровым загаром. Выражение лица всегда спокойное, уравновешенное, почти как у Гаврилы… И вот тоже… ничего ведь в этом не было ни зловещего, ни странного.
— Ну, — вы опять свернули на прежнее! — сказал математик, подымаясь и похлопывая собеседника по плечу… — Конечно, ничего страшного… А между прочим, я выйду на этой станции… Восемь минут.
Поезд замедлил ход, потом остановился.
III
Павел Семенович, оставшийся вдруг без слушателя, оглянулся несколько растерянно… Через некоторое время взгляд его серых глаз встретился с моим. В глубине этого взгляда светилась какая-то упорная мысль, точно у маниака…
— Вы… понимаете? — спросил он просто, не смущаясь тем, что говорит с незнакомым человеком…
— Кажется, понимаю, — ответил я.
— Ну, вот-вот, — сказал он с удовлетворением, потом стал продолжать просто, как будто не замечая смены слушателя…
— Был у меня, знаете, товарищ школьный… Некто Калугин, Василий Петрович. Был он захвачен тогдашними течениями в молодости… а человек был своеобразный. Говорил мало. Больше слушал, что говорили другие, и наблюдал, как они суетились, пытаясь, как говорится, повернуть колесо истории. Но в самом молчании чувствовалось восхищение и преданность… И пришел он к заключению: «Все это хорошо и чрезвычайно, благородно, но нет рычага. А рычаг — деньги. За эти дела, говорит, нечего и приниматься без ста тысяч». И успел, знаете, убедить в этом еще несколько товарищей, которые и составили маленький кружок, накопителей, что ли… Ну, из кружка, положим, ничего не вышло: кто просто отстал, кого судьба зашвырнула далеко от источников добывания. А он, Василий Петрович, — выдержал и достиг. Человек был без блеска, но с большим характером, такие в деловых сферах очень ценятся. Поступил для начала в одно учреждение на Волге. Не то, знаете ли, банк, не то касса ссуд. Для великой цели не пренебрег он и этим учреждением, и сразу, как говорится, вдохнул в него новую жизнь. Года через три получал уже тысяч что-то около шести… Тогда он поставил задачу в таком виде: пятью двадцать — сто! На себя, значит, и на прочее — тысяча в год. Пять тысяч на великое дело. «Через двадцать лет — рычаг готов»… И что вы думаете: достиг. Правда, нужен был характер — прямо самоотверженный. И система!.. Во-первых, во избежание всяких глупых случайностей, — «на время» отошел от прежних товарищей… тех, которые голыми руками за колеса истории хватаются. «У меня, дескать, своя задача… Неблагонадежность там… случайное письмецо… сделайте одолжение, не надо»… И это тоже выдержал. Вообще всю жизнь приспособил, все подробности рассчитал. Ничего — кроме накопления! Вставал ежедневно не то что в семь часов, как Будников, а в семь часов без тринадцати минут. Секунда в секунду! От личной жизни отказался… Было у него до того времени увлечение одно: сошелся с одной девушкой и тоже на свободных началах. Дали взаимно слово «не связывать друг друга». Ну, да ведь это глупые фразы; ребеночек-то никому слова не давал… Явился на свет и потребовал свое… Она и рада… А он насупился. Так как, говорит, эта неприятная случайность может повториться, и принимая, говорит, в соображение мою великую цель, то я, говорит, намерен воспользоваться свободой. На ребеночка я, говорит, хотя и в ущерб великой цели… такую-то сумму… Женщина была тоже с характером: денег не взяла ни копейки, захватила ребеночка — и прощайте — навсегда… Как он чувствовал себя после этого — неизвестно, но накоплению отдался без помехи… И вот, после разных удач и неудач, через двадцать лет, проснувшись по обыкновению в семь часов без тринадцати минут, — он поздравил себя с успехом: сто тысяч собраны. На службу явился в обычное время, вошел в кабинет своих принципалов и говорит: «Через два месяца я ухожу». Те и рот разинули. «Да что вы, бог с вами! Может быть, прибавить жалованье? Или процент с дохода?» Нет! Сказал, как отрезал, и через два месяца был в Москве на прежней жизненной точке… И в кармане сто тысяч.
— О-го! — сказал Петр Петрович, вернувшийся в эту минуту из буфета… — Это у Будникова, что ли?..
— Нет, — ответил Павел Семенович. — Это я о другом…
— А! О другом? Ну, все равно… Продолжайте о ста тысячах… Это уже, надеюсь, не страшно?..
В его голосе звучала легкая насмешка. Павел Семенович посмотрел на него с наивным удивлением и повернулся ко мне.
— Да, так вот… Приехал он в Москву, то есть, понимаете: к своему прошлому… Думал — жизнь будет его ждать, пока он выполнит великую задачу накопления… И явится он в тот же Газетный переулок, и там застанет те же споры и тех же людей, и так же будут они хвататься голыми руками за колеса истории… Тут он им свой рычаг… «Извольте! У вас великие идеи… А вот мой вклад для осуществления»… Глядь, а предлагать-то уже и некому: в Газетном переулке другие люди, и говорят по-другому. Прежние или погибли под колесами истории, или отстали… Жизнь — это ведь поезд… Отлучился со станции на время, глядь — поезда уже и не видно… А порой не застанешь и станции… Понимаете вы, милостивый государь, какая это трагедия?
— Ну, сделайте одолжение, — сказал Петр Петрович. — Сто тысяч! Свободен!.. Многие согласятся на этакую трагедию…
— Да?.. Но ведь человек-то, я вам говорю, был искренний.
— Ну, и что же?
— Да вот… Бродил он среди старых и новых знакомых, все своего поезда разыскивал. Тоску на всех навел… То, для чего отдал жизнь и свою, и чужую, — уже непонятно: кажется, что там одна пальба идет… а для чего — неизвестно. А то, что понятий, — разные почтенные дела, вроде «народного дома», или газеты, или «идейное книгоиздательство» его, семидесятника, не удовлетворяет… На это он готов, пожалуй, отдать… проценты с капитала…
— Ну, что ж, — шесть процентов, при скромных потребностях… Жить можно! И даже можно часть отдать на доброе дело…
— Да… конечно… Но если взять исходную точку… Ведь это был подвиг… Люди отдавали жизни, и он жизнь отдал… И не только свою… Неужели это можно сделать для одних процентов… А на подвиг-то уже не хватает стимула… Одним словом, в один прекрасный день нашли его в одиноком номере гостиницы — с пулей во лбу… И деньги рассовал кое-как, наскоро и невнимательно… Накануне еще я его видел в одном обществе… Никто в нем ничего особенного не замечал. Здоровались и проходили мимо, почтенный, дескать, человек. С характером, и намерения наилучшие. Скучный только необыкновенно!
— Гм, да! — сказал математик, — бывают и этакие чудаки. — И он стал укладываться. Лицо его с толстыми подстриженными усами опять потонуло в тени, а наружи были видны ноги в клетчатых брюках… — По-моему, — сказал он из своего угла, — уж Будников интереснее… Вы про него не досказали…
— Да… я ведь… извините, — к тому и случай этот привел… Сидел я как-то недавно всю ночь… Переписку Будникова с его этим «отдаленным» приятелем читал. Поверите: оторваться не мог… и представить невозможно, что это писал тот же Семен Николаевич Будников, который у меня чай с ромом пил, Гаврилу на биржу посылал и душа которого незаметным образом, почти на моих глазах, в этом вот нашем дворике выдохлась и опустела… И осталась без всякой, так сказать… ну, одним словом, без всякой святыни…
IV
Он остановился и посмотрел на меня застенчивым и вопросительным взглядом, почувствовав как будто, что у него вырвалось слово, не совсем обычное для вагонного разговора. И он почти вздрогнул, когда математик, выпустив из своего темного угла густой клуб дыма, — сказал:
— А вы, Павел Семеныч, — я вижу, такой же чудак, право!.. Удивительно! У одного — сто тысяч… Стреляться! Другой живет себе на всей, как говорится, своей воле: здоров, румян… Спокоен духом… Обеспечен… Вам и это странно?.. Ей-богу, это невозможно… Ну, спокойной ночи… Пора спать. Ничего, ничего!.. Вы мне разговором не мешаете… Я не стану слушать…
Он повернулся к стенке.
Павел Семенович стыдливо и вопросительно взглянул на меня наивными серыми глазами и заговорил тише…
— Есть в Тиходоле улица, называется Болотная. Уже при мне на ней построили дом… Новый, из свежего леса… В первый год так и сверкал он, даже глаз резал этой своей свежестью. Потом очень быстро стал покрываться этим особенным бытовым налетом, этими мхами да лишаями и так слился с общим тоном старых сараев и заборов — не отличить. А теперь уже говорят, что там завелись привидения… Так вот и о г. Будникове вдруг стали говорить, что он ограбил одну женщину…
— Ну, это, как хотите, глупости! — отозвался математик, — Никогда не поверю, чтобы Будников был грабитель… Пустили какую-нибудь глупую сплетню.
Павел Семенович улыбнулся грустной и немного растерянной улыбкой:
— Вот именно. Какой грабитель!.. Грабитель — слово такое… определенное! А тут вышла просто некоторая житейская… запутанность, что ли, с расплывчатыми очертаниями… Видите… Должен сказать, что уже после вас в последние годы поселились во дворе мать с дочерью… Женщины были простые, очень бедные, и господин Будников относился к ним покровительственно и великодушно: задолжали они что-то много, и он, — очень аккуратный насчет платы, — тут терпел и даже иной раз помогал деньгами. На доктора там, улучшенное питание для больной. Потом старушка умерла, и осталась эта Елена круглой сиротой… Господин Будников и тут оказал большое участие: отвел ей уютный уголок, хлопотал насчет работы: шила она, — кое-как перебивалась… Потом стала вроде экономки у г-на Будникова, а там… начали поговаривать, что отношения их. стали гораздо ближе…
— А-а… — произнес математик. — Это уж действительно без меня… И красивая?
— Да, пожалуй, красивая, полная, с плавными этакими движениями и покорными глазами. Говорили, что глупа. Но если и так, то ведь глупость женская бывает порой особенная… Тут и наивность, и какая-то дремлющая невинность души. Положение свое она чувствовала очень сильно. Как это говорится у Успенского, кажется, — вся была во стыду… Пробовал г. Будников учить ее, подымать, так сказать, до своего уровня. Она оказалась неспособна. Сидит, бывало, над книжкой, водит по-детски указкой, и лицо по-детски напряженное. А при Будникове вся как-то сожмется и оглупеет. Охладел он к этим занятиям, а потом и к Елене, тем более, что возникли некоторые другие виды. А было, должно быть, время, когда он ее начинал любить. Были, вероятно, и обещания какие-нибудь. Одним словом, — доставался ему этот разрыв не так уж легко, — совесть, что ли, была задета… только он старался смягчить разрыв. И между прочим вздумал ей подарить билет внутреннего займа… Призвал ее однажды, вынул три билета, разложил настоле, разгладил рукой и говорит:
— Смотри, Елена. Вот на каждую эту бумажку можно выиграть двести тысяч. Понимаешь?
Она, конечно, понимает плохо. Воображения не хватает на этакую сумму. А он продолжает:
— Ну, вот, говорит, — одну я дарю тебе. Сама бумажка стоит, говорит, 365 рублей, но ты ее не продавай… Ну, возьми своей рукой на счастье…
Она не берет, жмется, точно боится. — Ну, хорошо, — говорит г-н Будников. — Дай сюда руку. Вот, пусть эта будет твоя бумага… — Взял один из этих билетов и провел ее рукой две черты карандашом, резко этак, с нажимом. Видно, что намерение было у человека твердое… Отдал бесповоротно, со всеми, так сказать, последствиями. — «Видишь, — говорит, — это на твое счастье, и если выиграешь 200 тысяч, — тоже твои будут…» И положил опять в стол. А у нее из-за пазухи вынул ладонку и положил туда бумажку с номером билета.
— Ну, и что же? — спросил математик…
— Ну, и вот… Нужно же было случиться, что… работает там эта машина в Петербурге, выкидывает, знаете, номер за номером. Берут их, кажется, детскими руками… И один из этих билетов выигрывает…
— Двести тысяч? — живо спросил математик, очевидно, забывший о сне.
— Двести не двести, а семьдесят пять… Смотрит г. Будников в марте месяце тиражную таблицу и видит: стоит крупный выигрыш против его номера. Нуль, опять нуль… триста восемнадцать и 32. И вдруг вспоминает, что один билет подарил Елене… Он хорошо помнит, что две черты поставил на первом. У него три подряд: 317, 318 и 319. Значит, триста семнадцатый… Достает билеты, смотрит: две черты стоят на триста восемнадцатом. Выиграла-то Елена…
— Ах, чорт возьми, — воскликнул математик и слегка приподнялся. — Вот это штука!
— Да, именно штука, и даже довольно глупая. Черты попали на этот номер, когда он думал, что дарит другой… Ошибка, механический промах руки, пустая случайность… И из-за этой случайности Елена, глупая женщина, которая ничего не понимает и не сумеет даже распорядиться деньгами, возьмет у него… именно у него, у г-на Будникова, отымет, так сказать, крупную сумму! Ведь это нелепость, не правда ли? У него и образование, и цели, или там были когда-то цели… Ну, и опять могут быть. Он эти деньги, может быть, на добрые дела назначит. Опять напишет своему этому приятелю, попросит у него совета… А она — что такое? Животное с округленными формами и красивыми глазами, в которых даже и не разберешь хорошенько, что в них: глупость теленка или невинность младенца, еще, так сказать, не проснувшегося к сознательной жизни… Вы понимаете?.. Ведь это так натурально… Каждый на месте Будникова… вы… я… вот Петр Петрович почувствовал бы приблизительно то же…
Со стороны Петра Петровича послышался какой-то не совсем внятный звук, который можно было истолковать различно.
— Нет? — сказал Павел Семеныч. — Ну, извините… Говорю, о себе… Мысли или, вернее, поползновения, что ли, такие у меня были бы, может быть, где-то там, в подсознательной, как говорится, сфере… Потому что… сознание и все эти сдерживающие силы, это ведь как земная кора: тонкая пленка, под которой ходят и переливаются чисто эгоистические первобытные, животные побуждения… Найдут место послабее и…
— Ну, хорошо, хорошо, — с снисходительной усмешкой сказал Петр Петрович, и мне показалось, что он подмигнул мне из своего темного угла… — Вернемся к Будникову. Что, же он? Отдал, — и кончено?..
— Да, повидимому, так он и хотел разрешить этот вопрос, и так как, кажется, боялся немного себя, то в тот же день призвал к себе Елену и поздравил ее с выигрышем. И тут же, при сем случае, желая воспользоваться, так сказать, благоприятными условиями, намекнул: вот, дескать, когда мы разойдемся, ты обеспечена. И при этом все время сердился…
— За что же сердился?
— Я думаю, за то и сердился, что вот ты какая дура. Если бы тогда сама выбрала, — наверное, взяла бы не тот номер. А теперь из-за твоей глупости какая история вышла. Порядочный и умный человек какой суммы лишается. Так я, по крайней мере, представляю себе по рассказу Елены… «Все, говорит, бегали из угла в угол и сердились на меня»…
— Ну, а она что же? Обрадовалась, конечно?
— Н-нет… Спужалась, говорит, очень, и ударила из нее слеза. Он сердится, а она плачет, и от этого он еще больше сердится.
— Действительно, дура!..
— Д-да. Я уже докладывал: умной ее не считаю, но в слезах этих… Нет, это была не глупость… И когда мне после рассказывала… дошла до этого места, взглянула на меня своими чистыми, птичьими глазами и вся всколыхнулась от плача… И вот теперь я не могу забыть этих глаз… Глупость-то, может быть, и глупость. То есть нет ни ясности сознания, ни отчета в положении вещей. Но было что-то в этих голубых глазах, особенно в самой глубине… точно мерцал в них какой-то правильный инстинкт… Эти ее глупые слезы были, может быть, единственным правильным, настоящим, пожалуй… позволю себе сказать, — самым умным во всей этой запутанной истории… Где-то тут недалеко скрывался выход, точно потайная дверка…
— Ну, хорошо, хорошо… Дальше-то что же?
— А дальше… Господин Будников посмотрел на глупую женщину долго и внимательно, потом подсел к ней, потом обнял, а потом… в первый раз после значительного охлаждения приказал ей не уходить к себе, а остаться ночевать у него…
И пошло это так на некоторое время. Елена расцвела… Любовь ее тоже была «глупая», то есть очень непосредственная. Сначала, — сама мне говорила, — г-н Будников был ей противен. Потом, когда уже взял ее, — точно, говорит, присушил. У таких непосредственных женских натур нет разделения, так сказать, чувства и факта. С какого конца ни затронь, — весь этот комплекс действует нераздельно… Опять вернулся к ней, значит, опять полюбил… Две недели она так сияла радостью и красотой, что все, кто в это время смотрел на нее, — тоже заражались безотчетной радостью… Только недели через две господин Будников опять охладел… И потянулась у нас на дворе слякоть какая-то… У Елены глаза наплаканы… Соседки судачат, жалеют, г. Будников сумрачен… Две-то черты эти прошли глубоко по душе обоих. А тут еще и третий под них подвернулся… Дворник Гаврило…
— Гм!.. Целая история, — сказал Петр Петрович, опять подымаясь с места и садясь рядом с Павлом Семенычем. — Он-то при чем?.. Тоже узнал о выигрыше?
— Ничего он не знал. Я о нем уже говорил. Существо, бесхитростнее которого трудно представить, — прямо райская непосредственность… Иной раз он представлялся мне даже не человеком, а… как бы сказать… простым собранием мускулов, отчасти сознающих свое бытие. Все в нем было слажено хорошо, гармонично, правильно, и все в постоянном действии. И при этом два добрых человеческих глаза смотрели на весь мир с точки зрения своего физического и морального, так сказать, равновесия. Порой в этих глазах светилось, пожалуй, любопытство и… такое бессознательное превосходство, что прямо бывало завидно. Порой мне даже казалось, что если не сам Гаврила, то что-то в нем отлично понимает и г-на Будникова, и меня, и Елену… Понимает и улыбается именно потому, что понимает…
И вдруг этот человек тоже помутился… Началось это с той поры, как Будников сошелся с Еленой вторично и опять бросил… Для него она стала брошенная «барская барыня», существо, особого почтения не внушающее, и очень вероятно, что первые его авансы выразились как-нибудь просто, по-деревенски. Но она встретила эти авансы с глубокой враждой и гневом. Тогда Гаврило «задумался», то есть стал плохо есть, уставать за работой, похудел, вообще стал сохнуть…
Так это тянулось осень и зиму. Будников окончательно охладел к Елене; она чувствовала себя оскорбленной и считала, что он над ней «надсмеялся»… У Гаврилы несколько испортился характер, и во взаимных отношениях его и Будникова исчезла прежняя гармония… А билет с двумя чертами лежал в столе, и, казалось, все о нем забыли…
Подошла среди такой ситуации и весна… На время я потерял из виду всю эту маленькую драму, которая разыгрывалась у меня на глазах… Подошли у меня и экзамены, уставал я сильно, даже сон потерял. Чуть задремлешь, — вдруг будто толкнет кто-то, — сна как не бывало. Зажжешь свечу, — на столе тетрадки лежат, — и станешь править… А там и солнце исходит… Выйдешь на крылечко, смотришь на спящую улицу, на деревья в саду… По улице сонный извозчик проедет, в саду деревья чуть трепыхаются, будто вздрагивают от утреннего озноба… Позавидуешь извозчику, позавидуешь даже деревьям… Покоя хочется и этой сосредоточенной бессознательной жизни… Потом пойдешь в сад… Сядешь на скамейку и, случится, — задремлешь, пока солнце в глаза не ударит. Скамейка такая была у стенки конюшни в укромном уголочке. Солнце как раз в семь часов на нее светило, — проснешься, чаю наскоро выпьешь — и в класс.
Вот однажды вышел я на заре и задремал на этой скамейке. Проснулся вдруг, точно кто разбудил. Солнце недавноподнялось, и на скамейке еще тень. Что такое, думаю… Отчего бы мне так внезапно проснуться? И вдруг слышу у Гаврилы в конюшне голос Елены. Хотел я встать и уйти: подслушивать я не охотник, да и неприятно показалось столь простое разрешение Елениной драмы. Но пока спросонок-то собрался встать — разговор продолжался, а затем уж я и не ушел… Прямо заслушался.
— Ну, вот и пришла, — сказала Елена. — Что вам?
И потом вдруг, с глубокой такой, ну, просто захватывающей тоской прибавила:
— Измучил ты меня…
И так она это сказала… с таким искренним душевным стоном. И на ты… Прежде всегда, да и после — все вы ему говорила, а тут… вся изболевшая стыдом и любовью женская душа зазвучала — просто, без условностей, беззаветно…
— И вы меня, Елена Петровна, измучили, — ответил Гаврило. — Мочи моей нет. Сохну. Не работается, куска, говорит, не съем…
— Что ж теперь, — говорит Елена, — будет?
— Да, что! — говорит, — жениться на тебе видно.
На некоторое время оба замолчали. Елена, кажется, тихонько плакала. И все в этом молчании было удивительно ясно, просто, без всяких недомолвок. Вот, дескать, какое положение: ты мне, конечно, не пара. Я вот поработал бы тут на Будникова, сколько полагается для моих целей, и пошел в деревню, поставил бы хозяйство, женился, взял бы честную девушку… И все это теперь пошло прахом: приходится поневоле брать тебя, какая есть…
— Потерянная я… — сказала Елена тихо…
— Что ж, Елена Петровна, — ответил Таврило с какой-то угрюмой лаской. — Не посмотрю я на это, что вы сами себя потеряли… Все одно… Не житье мне… Постыло все… Кусок в рот не идет… Силы нет…
Елена заплакала сильнее… Плач был хороший. Мне казалось — болящий, но исцеляющий. Гаврило сказал строго:
— Ну, что уж… будет… Пойдешь, что ли?..
Елена, видимо, сделала усилие, сдержала слезы и, на повторенный вопрос, ответила:
— А бога вы, Гаврило Степаныч, побоитесь?
— Чего это? — говорит Гаврило.
— Попрекать не станете?
— Нет, — говорит. — Попрекать не стану. И другим в обиду не дам. А ты вот сама побожись, что баловство бросишь… Навсегда… Я тебе поверю…
Стало тихо. Я не слышал, что ответила Елена, представляю себе только, что она, должно быть, повернулась на восток, а может, и иконка в каморке была… И перекрестилась… После этого она вдруг обхватила его голову руками, и я услышал поцелуй. И тотчас же Елена выбежала из каморки, метнулась было к дому, но потом вдруг остановилась, открыла калитку и вошла в сад…
И тут увидела меня… Но это ее нисколько не смутило. Она подошла, остановилась, посмотрела на меня счастливыми глазами и сказала:
— А ты все гуляешь по зорям… Эх-ты, сердешный…
И вдруг, переполненная вся этим своим чувством, подошла ко мне, взяла руками за плечи, бесцеремонно встряхнула меня, посмотрела в глаза и засмеялась… И так это просто вышло. Она поняла, что я все слышал, и ничего в этом не видела дурного… Только когда Гаврило вышел с метлой и тоже направился в сад, она вдруг вся зарделась и быстро пробежала мимо него. Гаврило посмотрел ей вслед с спокойной радостью, потом его взгляд упал на меня. Он поклонился с прежней стихийной благосклонностью и принялся мести дорожку. И опять была в нем та же красивая и беструдная игра мукулов, здоровых и свободных… И помню: как раз в эту минуту в монастыре ударили к ранней заутрене, — дело было в воскресенье. Гавршю остановился в широком просвете аллеи, снял шапку и, придержав метлу на левой руке, правой стал креститься. И показалось мне это необыкновенно светло и красиво. Стоит человек в центре своего светлого мира, где все у него устроено хорошо, то есть все эти отношения — и с землей, и с небом… Одним словом, такое это было успокоительное зрелище, что я пришел к себе в комнату и в первый раз после многих беспокойных ночей — заснул, как убитый… Есть что-то в хорошем человеческом счастии исцеляющее И выпрямляющее душу. И мне, знаете, приходит иной раз в голову, что, собственно говоря, все мы обязаны быть здоровыми и счастливыми, потому что… видите ли… счастье — это высшая степень душевного здоровья. А здоровье заразительно, как и болезнь… Мы, так сказать, открыты со всех сторон: и солнцу, и ветру, и чужим настроениям. В нас входят другие, и мы входим в других, сами этого не замечая… И вот почему… Павел Семенович вдруг остановился, почувствовав на себе пристально насмешливый взгляд Петра Петровича.
— Да, да!.. Извините, — сказал он, — у меня это действительно несколько туманно…
— Есть немножко… Лучше уж рассказывайте дальше. Без философии…
— …Разбудил меня уже г-н Будников. Это было как раз двадцатое. Пришел он, как всегда, и, как всегда, выпил два стакана чаю с ромом, но я видел, что г. Будников сильно не в духе и даже нервничает… И я невольно поставил это в связь с утренним эпизодом.
И некоторое время он все был не в духе. Все во дворе замечали, что между хозяином и работником идет что-то неладное и… непростое. Гаврило хотел уходить. Будников не отпускал, хотя при этом часто говорил мне, что в Гавриле он разочаровался. Однажды я шел по дорожке сада и увидел, как они оба стояли у калитки и разговаривали о чем-то. Будников был возбужден, Гаврило спокоен. Он стоял в свободной позе, глядя на свою лопату, которой постукивал в землю. Было видно, что он твердо стоит на чем-то, а г-на Будникова это выводит из себя… И еще мне показалось, что предмет разговора устанавливает между ними какое-то странное равенство…
— Это, голубчик, дело, конечно, ваше, — говорил г-н Будников. Он заметил меня, но не счел нужным прекратить разговор. Говорил язвительно и с горечью… — Да-с… Вы человек свободный… Но только, имейте в виду, Гаврило Степаныч… ежели у вас есть какие-нибудь утилитарные виды… Я с своей стороны, конечно, очень скромную сумму…
Г-н Будников не умел говорить просто и иностранные слова употреблял даже в разговоре с Гаврилой… Гаврило посмотрел на него спокойно и ответил:
— Ничего нам не надо… Нам хватит своего.
Г-н Будников кинул на него настороженный взгляд и сказал:
— Ну, хорошо. Помните! А затем… вот я уеду в Петербург по делу… Делайте, как хотите.
Гаврило поклонился и сказал:
— Покорно благодарим…
— Извините-с… — с оттенком иронической меланхолии сказал г-н Будников. — Я на благодарность не рассчитываю.
И вышел из сада, хлопнув калиткой.
Во дворе он остановился, подождал меня и, взяв под руку, пошел к нашему крыльцу. По дороге и сидя у меня на крылечке, говорил что-то запутанное и невнятное. Он не скрывает, что питал некоторое чувство к некоторой женщине. И это чувство, может быть, «живо под пеплом»… С другой стороны, мечтал о слиянии и возможности дружбы с меньшим братом. И хотя то и другое чувства послужили источником разочарования, но он с своей стороны что-то докажет, и все что-то увидят… Но, вообще говоря, великодушие, как и тонкие чувства, свойственны только высококультурным людям…
Он нервничал, и под несколько деланным пафосом мне слышались ноты искреннего огорчения и волнения.
Впоследствии я имел случай ознакомиться с его дневником. Там были отдельные странички в форме как бы писем к этому его отдаленному другу… Писем он, кажется, давно не посылал, но эти странички были точно просветы среди сумеречной обыденщины. И под тем приблизительно числом, когда происходил разговор с Гаврилой, стояло горячее излияние. Он сообщал всю эту историю с Еленой и писал, что ошибся, что любит ее и теперь… И что сделает еще один опыт… И кончалось это внезапным лирическим порывом: ты, дескать, далекий друг, не сомневаешься, конечно, что я выполню то, что считаю долгом великодушия…
И вот однажды, отправив Гаврилу с лошадью за город, г. Будников подошел к флигельку, где попрежнему жила Елена.
— Елена! Вы бы пришли ко мне. Убрать кое-что надо…
Несколько дней перед этим он был особенно задумчив и торжествен, а теперь оделся попараднее, подошел к флигелю и вошел в комнату Елены, не стесняясь любопытными взглядами.
Никто тогда не знал, что происходило в ее комнате, но через полчаса г. Будников вышел оттуда прямой, чопорный и как будто растерянный. И все стали говорить, что г-н Будников делал Елене форменное предложение и — Елена отвергла…
После этого он уехал в Петербург, где у него была тяжба в сенате. Он ее проиграл, и когда вернулся, то Гаврило и Елена были уже обвенчаны…
V
Впечатление все это произвело на него сильное, как будто совершился некоторый душевный переворот. Особенно поразило его одно на вид незначительное обстоятельство. Прежде каждую весну в палисадничке у окон г-на Будникова цвели цветы. Это было у них с Еленой, общее и составляло признанную статью расхода: семена, лейка, кузнецу за ремонт лопаты… С ранней весны Елена возится, бывало, в этом цветнике, радостная и оживленная, и г-н Будников тоже радостный принимал в этом участие. Теперь флигелек опустел, цветник заглох, окна г-на Будникова как будто ослепли… А у другого флигелька, где жил теперь Гаврило с женой, все зацвело и распустилось. Точно символ. Когда г-н Будников вернулся с вокзала и кинул взгляд на этот неожиданный контраст, — лицо его передернулось, и на некоторое время он потерял свой обычный величавый вид. И мне вдруг стало его жалко. Я вышел и пригласил его к себе. Он долго сидел у меня, рассказывая свои столичные впечатления, — фразисто, пространно и неискренно. И все время чувствовалось, что в душе г-на Будникова происходит что-то далекое от столичных впечатлений.
Потом понемногу все как будто вошло в колею. Г-н Будников так же ездил два раза в неделю на загородный хутор, ходил в определенные дни по квартирантам, готовил себе обед на керосинке. Только в дневнике стало больше разных пустяков: например, он стал записывать, сколько шагов он делает ежедневно и, кажется, высчитывал по этим записям выносливость и стоимость подметок.
А еще через некоторое время последовала новая перемена: г-н Будников почувствовал склонность к религии.
Помню, как-то был осенний вечер… Из тех тихих вечеров, когда природа особенно внятно трогает душу. На небе звезды будто шевелятся этак и шепчутся, а на земле свет и тени… Городок у нас, знаете сами, — тихий и весь в зелени. Выйдешь, бывало, вечерком и сядешь на крылечке у себя. И у других домов, вдоль улицы, кто на скамеечке у ворот, кто на завалинке, кто просто на травке… Шепчутся где-то люди о своем, деревья о своем — и стоит какой-то невнятный шорох. Нуи в душе тоже шепчет что-то… Перебираешь невольно всю свою жизнь. Что было и что осталось, куда пришел и что еще будет дальше? И зачем все… и какой, знаете ли, смысл твоей жизни в общей, так сказать, экономии природы, где эти звезды утопают, без числа, без предела… Горят и светятся… и говорят что-то душе. Иной раз и грустно, и глубоко, и тихо… Кажется, как будто не туда направляешься, куда надо. И начинаешь угадывать что-то там, высоко… И хочешь убежать от этой укоряющей красоты, от этого великого покоя со своим смятением и хочешь слиться с ними… А уйти некуда… Войдешь в кабинет, посмотришь при лампе на эту свою обстановку… учебники… тетрадки с ученическими письменными ответами… И спрашиваешь: где тут живое-то?
Петр Петрович пробормотал что-то, и рассказчик опять спохватился.
— Так вот… В этаком состоянии сижу на крылечке и думаю: вот люди от вечерни идут… Что же? Находят они в этом свое отношение к бесконечному?.. Или только привычка, пустой автоматизм? И так хочется, чтобы это было настоящее. И вдруг вижу: отделяется от идущих одна тень и подходит ко мне. Оказывается — это г-н Будников. Тоже от вечерни. И садится рядом.
И я чувствую, что г-н Будников ждет: дескать — спроси меня — зачем я стал посещать церковь. Все не бывал и к религии относился иронически, а теперь вдруг стал посещать богослужения. И меня это действительно интересовало, да и так, откровенность под влиянием этого вечера нашла… Отчего, думаю, не сказать, что вот, дескать, у меня на душе сумрак какой…
— Вот, говорю, Семен Николаевич… Смотрю я на небе и вот что думаю…
Покачал он головой и говорит:
— Мучился и я этим… и страдал. И вот, как вы же — не видел выхода. А выход — вот он, под руками…
И жестом указывает в сторону, где белеется за деревьями церковь…
— Нас, говорит, интеллигентных людей, пугает, что это так сказать, дорога избитая, банальность… А между тем, — стоит отбросить гордость и слиться… или, как это Толстой когда-то выразился, — прикоснуться к общей чаше, растворить свои искания в смиренной обшей вере… перестать осуждать основы жизни… Как Антей, так сказать, прикоснуться и общей матери…
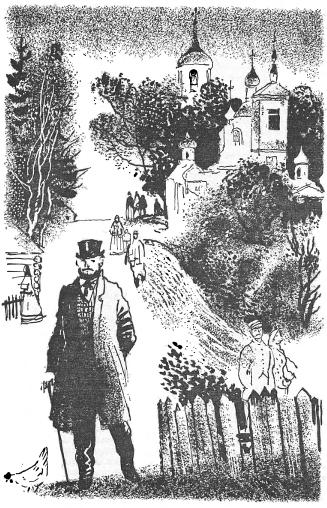
И так он это сказал как-то вкусно. Голос такой сочный журчащий, точно басок в архиерейском хоре. Говорю вам искренно: я даже позавидовал. Ведь действительно: кругом тишина и благодать… Стоит, как говорит г. Будников, слиться, а у меня тоже все эти трещинки в душе затянет, как маслом. И сразу найдется потерянный смысл. Я вот спрашиваю себя: зачем тетрадки? А зачем все это вот, вся эта тихая жизнь?.. Почему вот тот сапожник идет такой торжественный и довольный?.. Или вон Михайло не ищет никакого особенного смысла, а плывет в общем потоке жизни, то есть в ее общем значении я общем смысле. Придут люди раз в неделю в это беленькое здание, так приветливо выглядывающее из зелени, побудут некоторое время в общении с какой-то тайной, — и, смотришь, запасаются на всю неделю ощущением смысла… А ведь для многих жизнь гораздо тяжелее моей…
И вот теперь г-н Будников… Неужели и он нашел для себя это и разрешил свои смятения… Хотел было спросить, но тут мимо прошел сначала наш священник. Г-н Будников с ним раскланялся, и он ответил приветливо. И на меня посмотрел тоже с вопросительной благосклонностью… Буддиков вот обратился, может быть, дескать, и еще одного заблудшего приведет… Я тоже ответил на поклон особенно как-то тепло и благодарно и опять хотел спросить у г-на Будникова, но тут появилось еще новое лицо, уже совершенно другого настроения…
VI
Павел Семенович несколько задумался и потом спросил у Петра Петровича:
— Учился при вас некто Рогов?
— Рогов… Не припомню… Столько их училось…
— Этот был заметный, и об нем приходилось часто разговаривать в совете… Судьба его была особенная… Видите ли. Отец этого мальчика был злодей старого закала, ябедник, пьяница и сутяга, гонимый новыми временами, как волк охотниками. Тип, так сказать, запоздалый. Способности недюжинные, а не приспособился к новым порядкам. И коротал он свои последние дни среди невзгод, нищеты и пьянства. И все ему казалось, что судьба к нему несправедлива: люди умеют устроиться отлично, а он при том же, по его мнению, образе действий — грязен, голоден и гоним… И представьте, что у этого человека — семья… Жена и сынишка…
Жена — существо безответное, уничтоженное им в полном смысле слова, за исключением одного угла души. Когда дело касалось сына, — в этой, как будто совсем опустошенной, душе открывалась какая-то дверка, точно не сдавшаяся цитадель в занятом неприятелями городе, и оттуда выступало вдруг столько женского героизма, что порой старый буян и пьяница поджимал хвост. Таким образом, бог уже ее знает какой ценой, но ей удалось все-таки дать сыну образование. Поступив в Тиходол учителем, я застал этого юношу в последних классах. Мальчик был застенчивый, скромный на вид, поведения тихого. Только в глазах было что-то такое, странно-сдержанное, возбуждавшее, пожалуй, некоторую тревогу: какой-то особенный огонек, точно блеск, беспокойное внутреннее горение. Худощавый, тонкое лицо всегда бледно, и копна буйных волос над крутым лбом. Учился отлично, с товарищами знался мало, отца, кажется, ненавидел, мать обожал почти болезненно…
Теперь… извините… Придется мне несколько слов сказать о себе… Иначе — останется многое непонятно в дальнейшем… Я тогда учительствовал еще первые годы и переживал особенное настроение… На призвание свое смотрел возвышенно и, так сказать, идеально. Товарищи представлялись мне какой-то священной ратью, ну, там… гимназия эта — чуть не храм… Молодежь это чувствует и ценит… И бежит на этот огонек со всей непосредственностью и со всеми своими запросами… А ведь это и есть живая душа нашего дела… Что толку, если он придет к тебе, застегнувши вместе с мундиром на все пуговицы и свою юную душонку. С своими вопросами и заблуждениями он мне, учителю, нужнее… Да и я ему нужнее, пока сам ищу и учусь… При некоторой искренности бери их прямо руками…
Рассказчик помолчал и продолжал тихо:
— И было это у меня когда-то… Сблизился я тогда крепко с несколькими мальчиками своих классов, в том числе и с Роговым… Книги свои давал, сходились ко мне. Ну, там, за самоварчиком, запросто, задушевно, понимаете… Вспоминаю об этом, как о празднике жизни… Журнал иной раз свежий откроешь, толки, рассуждения, споры. Слушаю, — не вмешиваюсь сначала, как они колобродят тут, путаются, потом разъяснишь — осторожно, но с увлечением… А там, глядишь, иной раз родилась мысленка, другая, иной раз — ан уж тебя самого, царапнет, довольно остро… И чувствуешь: надо держаться начеку, надо самому думать и учиться. И растешь вместе с ними. И живешь…
Недолго только шло это у нас. Как-то раз призывает меня директор для конфиденциальной беседы… Ну, вы знаете сами… Теперь эти «внеклассные» влияния руководителей юношества покровительством не пользуются. А уж журналы!.. Директор, вы его знаете, — Николай Платонович Попов, — деликатный человек… Он только намекнул и затем сделал вид, что ему, в сущности, ничего неизвестно… Я было погорячился, сначала даже отказался подчиниться, апеллируя к высшему пониманию своих обязанностей. А потом… вижу, что ничего не поделаешь. Главное — не обо мне одном и речь-то идет: на мальчиках отражается… Трудно было и тяжело, а главное — стыдно, вот что всего хуже. Что я мог сказать своим молодым собеседникам? Чем объяснить? Исполняю приказание, явно бессмысленное и оскорбительное, и только! Это был для меня первый удар жизни, и я тогда не заметил, что удар-то, пожалуй, был смертельный…
Подчинился я и прекратил свои вечерние беседы. По совести скажу, что думал больше о них. Ну, молодежь-то, знаете, не так легко подчиняется в этих случаях и не все в них понимает. Однажды вечером — шасть ко мне этот Рогов с товарищем… Тайным образом. Лица возбужденные, глаза горят и глядят как-то этак особенно… Ну, я этот способ сношений отклонил. — «Нет, говорю, господа, лучше это оставить». Вижу, что мальчики вспыхнули оба… Рогов этот заговорил что-то, да только спазма схватила горло, а глаза стали вдруг злые… Но я нашел себе оправдание: за них я, особенно за Рогова и за мать его, боялся… Ведь если бы открылись наши конспирации, пожалуй, вся его карьера и весь материнский героизм — пошли бы насмарку. Так я и отступил тогда… в первый раз.
Старался зато уроки сделать как можно интереснее. Вечера у меня остались свободные… Скучно. Привыкать ведь уже начал к своему молодому кружку. А тут — пусто. Ну, я за книги. Работал, как вол, и все, бывало, прикидываешь в воображении: вот это должно их заинтересовать, вот это будет ново, а это ответит на такие-то запросы… Читаю, роюсь в книгах, коллекционирую все интересное, оживляющее, раздвигающее казенные стены и казенную сушь учебников… И все с живой мыслью о недавних собеседниках… И кажется — выходило что-то… Помню, что класс весь иной раз замирал, умы вспыхивали… Но тут вдруг стал директор ходить на уроки. Придет, сядет, слушает, молчит… Знаете сами, как это делается. Как будто и ничего, а ведь и класс, и сам я чувствую, что это уже не урок, а своего рода дознание… Потом на стороне — деликатные вопросы: вот это, собственно, вы, позвольте узнать, откуда почерпнули? Из какого утвержденного учебника? И в какой мере, по вашему мнению, это соответствует программе?
…Ну, не стану распространяться… Так, одним словом, огонь этот понемногу во мне угасал… Класс стал именно классом: живые лица стали отдаляться все больше, отошли в туман какой-то… прикосновение умственное утратилось. Отметки… планы… перечисление стилистических красот живого произведения. В данном произведении двенадцать красот. Красота первая, красота вторая… Ну, и так далее… Соответственно требованиям программы… То есть, понимаете: и не заметил, как пошла и у меня та же будниковская бухгалтерия.
Как бы там ни было, кончил этот юноша курс гимназии и уехал в столицу… Однако, в университет поступить сразу не удалось. Это было уже время этих секретных аттестаций… Может, и мои чтения тут были в игре. Одним словом — год у него пропал. Матери-то он написал, что поступил и даже — что получает стипендию, а в действительности перебивался кое-как, бедствовал и, вероятно, озлоблялся. Потом как-то все-таки стал выбиваться на дорогу… Но тут вдруг и настигни его горе: мать умерла, не дождавшись. С тех пор, как сын уехал, таяла все… Исчезла, так сказать, с горизонта путеводная звезда всей ее жизни — ну, и сила сопротивления тоже исчезла. Исчахла, знаете ли, как-то быстро, даже как будто с удовольствием. «Я, говорит, Ване теперь уже не нужна… На дорогу, слава тебе, господи, вывела. Теперь и сам пойдет». Сказала: «Ныне отпущаеши…» — и умерла. А вскоре после этого и почтенного родителя в канаве нашли… И остался мой Рогов круглым сиротой…
Однако старушка-то, видно, поторопилась: теперь-то она, может, всего нужнее была сыну. Учился он, правда, хорошо и даже как-то страстно, так сказать, без оглядки, будто торопился к чему-то. А как получил известие о смерти матери, — в душе-то, видно, оборвалось что-то… Очевидно, и она для него, в свою очередь, была единственной мечтой в жизни. Вот, дескать, кончу, стану на ноги и восстановлю нарушенную справедливость: мать, наконец, хоть на закате узнает, что есть еще благость господня и любовь, и благодарность… Хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю… Пусть хоть на миг один, да чтоб сердце радостью вспыхнуло и оттаяло. И вдруг — вместо всего могила… Обрыв — и кончено! И никакой уже благодарности не надо, и ничего уже ни вернуть, ни исправить нельзя… Да, чтоб выдержать такое испытание без надлома, нужна сила… нужна вера в общий смысл жизни… Чтобы и это казалось не одной глупой случайностью…
Ну, он и не выдержал. Опоры не было… Оступился, закрутил и стал вином заливать ядовитое чувство оскорбления и несправедливости судьбы… А там и пошло. Экзамены бросил, — дескать, теперь не для кого дипломы добывать… И понесло его случайными течениями, как лодку, брошенную на реке… Заявился опять в нашем городе… Может быть, думал зачалиться как-нибудь за материнскую могилку… Да ведь что тут могила поможет… Если бы в ней отыскался смысл какой-нибудь, тогда, конечно, другое дело… А так… взял в суде свидетельство «на право хождения» по делам и вступил на отцовскую дорожку. Жизнь повел беспутную, время проводил в кабаках, с голытьбой, и брал дела самого рискованного свойства. Год такой жизни, — и выработался в пьяного и дерзкого буяна, анфан-терибля всего нашего мирного городка, грозу мирных граждан. И откуда-то, чорт его знает, в этом застенчивом юноше объявилась вдруг наглость, а с нею и остроумие просто дьявольское: все в городе его боялись… Замечательно, что редкий городок на Руси обходится без своего Рогова. Своего рода должность, полагающаяся по штату. Тихо это всюду, мирная дремота, идиллическое спокойствие, г. Будников по улицам ходит, прямой, величавый, собственные шаги считает… По вечерам — особенно в праздники, шорохи эти поэтические, а тут где-нибудь ухает кабак вроде нашего «на Ярах», и бурлит какая-нибудь безобразная, изболевшая и одичавшая душа… А около нее, конечно, сателлиты. Это уже, так сказать, в порядке вещей, необходимый аксессуар глухих провинциальных углов…
Первое время после своего появления Рогов иногда встречался со мною… Робко поклонится и отойдет к стороне, особенно когда пьян. Раз, встретившись, я заговорил с ним и пригласил его к себе. Пришел… трезвый, серьезный, даже застенчивый… по старой памяти, что ли… Только — как-то у нас не склеилось. Встало между нами — воспоминание: я — молодой учитель со свежею верой в свое призвание, с живым чувством и словом. Он — юноша, еще чистый, благоговеющий перед моим нравственным авторитетом… Теперь он — Ванька Рогов, тиходольский дебошир и ходатай по сомнительным делам… А я… Ну, одним словом — точно стена какая-то стоит между нами и разъединяет: о главном, о том, что всего важнее, — не говорим. Чувствую, что надо бы разрушить какую-то перегородку, сказать ему что-то такое, что проникло бы в эту душу и взяло бы ее, как когда-то… И он, вижу, сам ждет как будто со страхом: вдруг ты за это, за самое больное-то все-таки схватишь… В глазах и боль, и ожидание… А у меня силы для этого нет. Оборвалась… еще, кажется, тогда, давно, когда в первый раз со стыдом пришлось отступить…
Так мне и пришлось наблюдать, в качестве, так сказать, сочувствующего свидетеля, как опускался этот юноша на глазах, пошлел, спивался, грязнел… Обнаглел, стыд стал терять, потом слышу: Рогов вымогает и попрошайничает по мелочам. Дела берет плохие: ходит по самой, так сказать, границе между просто предосудительным и уголовным. Да ходит ловко, как акробат, и над всеми смеется. Года в два-три уже совершенно определился. Фигура мрачная, грязноватая и чрезвычайно неприятная.
Ко мне иной раз стал уже заходить пьяный… И странно: в этом виде мне с ним стало как будто легче… Задача, что ли, упростилась, стала очевидна его вина, и мораль давалась легче. Помню, как-то после одной его выходки, до очевидности скверной, говорю я ему:
— Так и так, Рогов, нехорошо.
Он сначала сжался было, глаза отвел, как бы боясь нравственного удара, а после тряхнул лохмами и посмотрел мне прямо в глаза, видимо, призывая на помощь свою наглость.
— Почему бы, говорит, Павел Семенович, нехорошо?
— Нечестно, говорю.
— Ну, знаете ли, говорит, это ведь только замена одного спорного термина другим, не менее спорным. То было нехорошо, а теперь стало нечестно. А у меня, говорит, на этот счет своя теория выработалась. Честность и другое тому подобное есть не что иное, как дессерт. Дессерт же, как известно, подается после обеда. А если нет обеда, — какая же, говорит, надобность в дессерте?..
— Но припомните, говорю, Рогов, отчего у вас нет обеда… Учились вы хорошо, были уже на дороге и вдруг уклонились с пути…
Самому мне в эту минуту показалось это соображение не только убедительным, но даже неопровержимым. А он посмотрел на меня, засмеялся и говорит:
— Вы, говорит, в последнее время, кажется, на биллиарде стали иногда вечерами поигрывать?
— Ну, что ж, говорю, играю… для отдыха.
— Клапштос, говорит, знаете?
— И клапштос знаю. — А клапштос, как вам известно, удар этакой особенный, парадоксальный. От этого удара шар сначала идет вперед, а потом вдруг как бы произвольно откатывается назад… На первый взгляд непонятно и как бы противно законам движения, но в сущности просто.
— Ну, так вот, по-вашему, говорит, это что же: шар свою волю обнаруживает? Нет?.. Просто борются два различных движения… Одно действует сначала, другое берет верх после… Ну, так видите ли, говорит, — мамаша моя шла всю жизнь прямым путем, а папаша, как вам хорошо известно, вертелся волчком. Вот и я сначала шел прямо, пока хватало мамашиных импульсов… А потом, знаете, и сам хорошенько оглянуться не успел, как уж меня завертело по-отцовскому… Вот вам и вся моя биография…
И так это он сказал искренно как-то и безнадежно. Опустил голову, закрыл лицо кудрями, потом посмотрел на меня, и опять мне стало жутко. Боль в глазах. Видали вы когда-нибудь у животных, когда им очень больно?.. Собака, — на что ласковая тварь, — а и та в это время хозяина укусить готова.
— Что же, говорит… Кто тут, по-вашему, виноват?
— Не знаю, говорю, Рогов. Я вам, конечно, не судья… Да и не в виновности дело.
— Не в виновности, так в чем же? По-моему, тот виноват, кто меня клапштосом в жизнь пустил… Значит, судить некому. Вот я и двигаюсь клапштосом по жизненному полю… Исполняю волю пославшего… Так-то вот, говорит, голубчик Павел Семенович… Не найдется ли у вас около двугривенного этак серебром?.. Тоска палит, залить надо…
В первый раз он у меня тогда двугривенный попросил, и я сразу почувствовал, что бывшая между нами преграда разрушена. Что он и меня теперь может оскорбить, как и всех…
И мне захотелось защититься.
— Нет, говорю, Рогов. Двугривенного я вам не дам… Так, — хотите приходить, — приходите. Я рад… А этого не нужно.
Опустил он свою лохматую голову, посидел и говорит глухо:
— Да, Павел Семенович. Простите меня. Я и без двугривенного стану приходить. Все-таки посидишь с вами, как будто легче и точно минус какой из обычного угара…
Посидел опять. Помолчали мы оба тяжело и напряженно. Потом он опять говорит:
— Было время… надеялся я много от вас получить… Вы сами не знаете, что вы для меня значили. Вот и теперь иной раз тянет к вам. Ждешь чего-то. Да нет… бесполезно… Клапштос, — и кончено.
— Извините, говорю, Рогов. Но вы положительно злоупотребляете этим биллиардным сравнением. Ведь вы не костяной шар, а живой человек.
— И поэтому, говорит, чувствую… Шар-то, — куда его ни загони, — в лузу ли, в лужу ли, ему, костяному дураку, все равно… А человеку, почтеннейший Павел Семенович, в луже тяжело… Вы думаете, кто-нибудь сознательно и по доброй воле откажется от дессерта?.. — Не отказался бы и я… Человек я, как говорится, с рефлексом. Вижу и обсуждаю свою траекторию до конца… Скоро ведь стану свинья свиньей и уже беспросветно. Вот порой и думается: а ведь, может быть… как-нибудь… где-нибудь… какая-нибудь… точка опоры, что ли… ведь вот порой задевает еще что-то… настоящее… И есть оно где-то, наверное… настоящее-то?.. Есть ведь, Павел Семенович?
— Есть, говорю, конечно, есть.
— Ну, вот, говорит, как вы это искренно сказали. Да, должно быть, действительно есть… Так где же оно? Ну, извините, я вам не хочу ловушки ставить… Не знаете вы этого и сами. Искали когда-то, да бросили… Вот поэтому-то я только двугривенный у вас и прошу. Да еще иногда, спасибо, посижу, будто у огонька… Человек вы все-таки с душой… Иной, может быть, сумел бы и больше взять у вас…
— Так что же, послушайте, говорю я ему. Придумайте: не могу ли быть вам, действительно, полезен. — И чувствую: подается в нем что-то… растроганность какая-то почувствовалась, наглости нет… Задумался, опустил голову.
— Нет, говорит, не выйдет. И не вы, голубчик, виноваты. А потому, что… я да все мы такие… очень требовательны. Сами, как свиньи, в грязи валяемся, а с других требуем, чтобы те, кто руку протянуть хочет, сами были чище снега… Много, голубчик, силы надо. Не хватит ее у вас… Буря нужна, понимаете ли… Чтобы дохнуло огнем… Ну, тогда и чудеса бывают… А вы… Вы на меня не сердитесь?..
— Что ж, говорю, на что сердиться?
Замолчали мы оба тогда. Я не нашел, что сказать ему, а он опять стал ходить, но понемногу опять стал возвращаться к прежнему тону. Придет, сядет, и перегаром от него несет. В следующую субботу пришел таким же образом и сел рядом на крыльце… Как раз опять к вечерне ударили. И через короткое время выходит из ворот г. Будников. Щеголеватый, прямой, как всегда, и во всей фигуре довольство… Так от него и разит сознанием исполняемого долга.
Помню, что и на меня тогда его появление подействовало неприятно, а у Рогова даже лицо вдруг изменилось… Схватился с места, стал в театральную позу, шляпу с головы снял и говорит:
— Господину Будникову, Семену Николаевичу, к вечерне шествующу — от Ваньки Рогова нижайшее почтение.
И потом отвел шляпу широким этаким жестом и запел из известного романса:
Сам не в си-лах я боль-ше моли-и-иться…
Пам-мались, милый друг, за м-миня…
Передернуло меня это гаерство… Чувствую, что и мне Будников неприятен, но все-таки… Оскорбляет человека в таком чувстве, которое во всяком случае и со всякой точки зрения заслуживает полного уважения. А тут вскоре из калитки вышла и Елена и тоже в церковь идет. Он и к ней:
Офелия! О, нимфа! Помяни
Меня в твоих святых молитвах.
Это меня уже окончательно рассердило. Елена сжалась вся под наглым взглядом и наглыми, хоть и не понятными ей словами, опустила голову и скоро-скоро пошла к церкви.
— Послушайте, говорю, Рогов. Как вам не стыдно! И притом должен вам сказать… если хотите ко мне ходить, то попрошу вас покорно вести себя приличнее…
Повернулся он ко мне… и вижу, в глазах особенное выражение — злой боли: укусить собирается…
Захотелось мне несколько смягчить эту свою резкость. И говорю:
— Ведь вот вы, Рогов, не знаете ни этих людей, ни их отношений, а позволяете себе оскорблять…
Он посмотрел на меня насмешливо и говорит:
— Это вы не насчет ли идиллии? Добродетельный г-н Будников устроил счастье двух сердец. А вот, кстати, и Гаврюшенька.
И действительно, Гаврило как раз вышел из ворот. Рогов как-то противно подмигнул ему.
— Поздравляю, говорит, Гаврюшенька… с барскими!!!!!ото-почками… Умница! Узнал, видно, где раки зимуют?.. В случае надобности, говорит, — можешь рассчитывать на мои юридические познания…
Да, удивительное дело, как эти циники узнают иные вещи. Повидимому, Рогов тогда уже знал все и, вероятно, заподозрил Гаврилу в корыстных видах…
Подошел к нему и хлопнул по плечу… Тот озлился вдруг и сильно оттолкнул Рогова. Рогов чуть не упал, засмеялся н с преувеличенной развязностью пошел по панели. Поровнявшись со мной, он остановился и говорит:
— Вот что, почтеннейший Павел Семенович… Давно хотел у вас спросить: не читали ли вы… есть у Ксенофонта… разговор Алкивиада с Периклом… Если не читали, — положительно рекомендую. Хоть и на мертвом языке, а поучительно.
И пошел, напевая скверную песенку. А я через некоторое время разыскал этот диалог. Что, думаю, он хотел сказать…
Тяжелая, знаете ли, штука, но сильная. Дело, собственно, приблизительно вот в чем. Приходит как-то к Периклу юный Алкивиад… Перикл, представьте себе, к этому времени, уже почтенный человек, окруженный общим почетом, ну, там… прошлые заслуги и некоторый ореол добродетели… И, вероятно, уже брюшко и прочее. Ну, а Алкивиад — повеса, безобразник, кутила, с девочками афинскими скандалы всякие устраивает, собакам, как известно, хвосты рубил… И насчет добродетели человек мало сведущий. Ну, так вот приходит к Периклу этот порочный молодой человек и говорит: — Послушай, Перикл. Вот ты человек полный, можно сказать, добродетели до самых макушек. А я вот путаюсь без дороги и от безделья даже вот столбы выворачиваю. Сограждане недовольны. Научи ты меня добродетели и разреши сомнения. Я буду спрашивать, а ты мне, говорит, разъясняй все по порядку. — Ну, Перикл, разумеется, согласен, даже, пожалуй, рад: отчего не разъяснить молодому человеку? Может быть, и остепенится. — Хорошо, говорит, спрашивай. — Тот и спрашивает: что такое добродетель? И как ей научиться? Перикл, конечно, только усмехнулся: чти, говорит, богов, исполняй законы и вся недолга. Законы соблюдать есть первейшая обязанность гражданина и человека. — Ну, вот, отлично, отвечает ему юноша. Теперь скажи, пожалуйста, какие законы я должен исполнять: дурные или хорошие? — Тот немного даже обиделся. Да ведь закон, — значит, дескать, хорош. Что же тут толковать? — Нет, говорит Алкивиад, постой, не сердись… А уж у них, знаете ли, в это время в Афинах все эти, так сказать, основоначала замутились несколько… партии, борьба, одни других грабят, остракизмы эти, своего рода ссылка административным порядком… узурпаторы пошли; временщики там… чуть замешательство, — уж он выскочил и свой закон написал, для собственного употребления или там для кумовей и приятелей. Боги старые сконфузились, оракулы бормочут нивесть что, совсем не к делу. Одним словом, ясное-то в жизни стало уже неясно: равновесия нет, всеми признанная правда затерялась… Обновление нужно. Тучи кругом заволокли небо, и путеводные звезды, бог их знает, где они?.. Так вот Алкивиад и спрашивает: какие же, говорит, законы надо исполнять: которые предписывают хорошее или дурное? — Конечно, говорит, хорошее. — Ну, а почему же мне, говорит, узнать, какие хорошие? По какому, так сказать, признаку? — А ты, говорит, исполняй всякие; закон, говорит, на то и пишется… — Значит, и те, какие введены насилием тиранов? — Ну, этих, пожалуй, и не надо… Только, говорит, законные, так сказать, законы, — Ну, хорошо. Если, например, меньшинство насилует большинство в свою явную пользу, таких законов не надо? — Пожалуй, не надо. — А если большинство явно насилует меньшинство, противно всякой правде?.. Видите, куда этот юноша гнет: внешних признаков ему не надо, а покажи так, чтобы душой почувствовать общественную правду, высшую, так сказать, правду жизни, святыню… Ну, а Перикл-то, понимаете, уж и не того… И не то что Перикл, — весь строй жизни стоит на рабстве, на сознанной неправде… религия выдохлась, недавняя святыня, освящавшая каждый шаг, каждое движение, весь строй, все людские отношения — уж ее люди не чувствуют… Ну, Перикл туда-сюда… самому-то перед собой не хочется признать, что уже ихние законные законы выдохлись… Он этак снисходительно потрепал беспутного юношу по плечу и говорит: — Да, да! — говорит, ты, конечно… мальчик с головой… Мы, говорит, и сами в прежнее время этакие же трудные вопросы разрешали… Ну, Алкивиад видит, что уж Перикл — так сказать, признанный авторитет — одними пустяками отделывается, живого-то в нем эти противоречия не задевают, — и махнул рукой. — Жалко, говорит, почтенный человек, что я с тобой не был знаком в то время… А теперь пойду от скуки опять столбы выворачивать…
Вот этот анекдот Рогов и поднес мне, своему бывшему учителю…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
Рассказчик остановился. Поезд замедлял ход, подходя к какой-то станции. Петр Петрович протянул руку и, сняв с крючка синюю фуражку с кокардой, сказал:
— Пойти опять в буфет… Признаться, почтеннейший Павел Семенович, не понимаю я, к чему все это клонит… Это, извините, даже и не философия, а бог знает к чему. Начали про Будникова. Ну, это пожалуй: человек все-таки знакомый… Потом этот, чорт его знает, Рогов, прохвост какой-то отпетый, а тут уже, не угодно ли, и Ксенофонт, и Алкивиад… хвосты собакам рубит… Чорт знает что: какое мне, позвольте спросить, до всего этого дело?.. Нет, как хотите… Лучше пойду вторично водку пить…
Он надел фуражку и, придерживаясь за стенки от толчков останавливающегося поезда, вышел из вагона. Но в это время на другой верхней скамейке зашевелился четвертый пассажир. Он лежал в тени, по временам курил и проявлял признаки внимания к рассказу. Теперь он сошел с своей скамьи и, сев рядом с нами, сказал:
— Извините, не имею чести быть знакомым, но… я слышал поневоле ваш рассказ, и мне было бы интересно… Так что, если вы ничего не имеете против…
Павел Семенович посмотрел в лицо нового собеседника. Это был культурный человек, одетый аккуратно, с умными глазами, твердо глядевшими из-под золотых очков, которые он прилаживал обеими руками…
— Да? — сказал Павел Семенович… — Вы, значит, тоже слышали…
— Да, слышал. И меня интересует… ваша точка зрения, которая, признаюсь, мне не вполне ясна…
— Да?.. Действительно, может быть, я не вполне ясно это… Я хотел сказать… что в сущности все так связано… И эта взаимная связь…
— Налагает общую ответственность?
В лице Павла Семеновича блеснуло радостное оживление.
— Вот! Вы, значит, поняли? Именно — общую… Не перед Иваном или Петром… Все, так сказать, переплетается… Один по неаккуратности бросит апельсинную корку… другой споткнулся и, глядишь, — сломал ногу.
Новый собеседник слушал с спокойным вниманием. Но в это время в вагон вошел опять Петр Петрович, который ошибся станцией, и, окинув обоих несколько ироническим взглядом, сказал, вешая на крючок фуражку:
— Ну, вот, теперь, — не угодно ли — корка!
— Нет, Петр Петрович, — сказал Павел Семенович серьезно. — Вы это напрасно так… Тут, конечно, вопрос, так сказать…
— У вас, я знаю, все вопросы, в самых простых вещах… — сказал Петр Петрович. — Не стесняйтесь, пожалуйста. У вас есть достаточно слушателей.
— Да, пожалуйста, — подтвердил господин в золотых очках.
— Извольте… Я охотно, тем более, что все это мне, все равно, не дает покоя… Я остановился на…?
— Вы остановились, — насмешливо помог ему Петр Петрович, — на Алкивиаде… История, так сказать, древняя. Теперь последуют средние века…
Павел Семенович не обратил внимания на соль этой остроты и обратился к новому собеседнику:
— Да, так видите ли. Дело находится в таком положении: Гаврило женился, живет себе… В столе у г-на Будникова лежит билет с двумя чертами… ходят об этом нехорошие слухи и, как всегда, в преувеличенном виде. И не знает об них один только Гаврило, — работает себе попрежнему, лезет, так сказать, из кожи, старается… Мускульная эта симфония в полном ходу, глаза так и лучатся общим довольством и благорасположением…
И вдруг, однажды, натыкается на него в этакую минуту Рогов. Шел по панели мимо двора, остановился, подумал о чем-то и подозвал Гаврилу.
Ну, тот русский человек, добродушный… Не так давно толкался, а тут забыл. «Чего, говорит, тебе?» — Поди сюда, дело до тебя. Спасибо скажешь.
Признаться, что-то толкнуло меня. Хотел подозвать к себе этого Рогова и, чувствуя, что затевает он скверность, — остановить его. Но это было уже после Алкивиада… вообще, не надеялся я уже на себя. Так и остался у окна. Гляжу, — оставил Гаврило лопату, подошел и стал слушать. Сначала в лице его видно было только недоумение, отчасти даже пренебрежение. Но потом все с тем же видом колебания он отвязал фартук, пошел к себе во флигелек, надел картуз и вышел к Рогову… И потом они вместе пошли по улице и свернули к береговому откосу… А через минуту вышла к воротам Елена, стала у калитки и долго смотрела вслед двум удалявшимся фигурам… И в глазах у нее были печаль и испуг…
И действительно, с этого самого дня характер у Гаврилы круто как-то изменился. Вернулся он несколько, как будто, пьяный… Может быть, от водки, а может быть, и от огромности непосильного бремени, которое вдруг навалил на него Рогов… Во-первых, и сумма совершенно подавляющая: гора денег, превышающая самую его способность счета. И потом — источник этого богатства, возвращающий невольно мысли к прошлому Елены. Наконец, недоумение, почему Елена ему ничего об этом не сказала, и отсюда, может быть, нехорошие подозрения… В общем, разумеется, полный душевный сумбур… Две черточки, которые г-н Будников провел на билетах, — по душе Гаврилы прошли, очевидно, всего глубже и больнее… Ну, соскочил простодушный человек со своего центра. Вся эта симфония непосредственности и труда внезапно оборвалась… Заметался мой Гаврило беспорядочно, как отравленный…
И начало его ломать… Сначала все ходил угрюмый, с каким-то потемневшим лицом. Работа у него стала валиться из рук: то топор швырнет, то лопату сломает… Совершенно как хорошо пущенная машина, в которую вдруг сунули бревно… Когда же Будников удивленно и кротко стал делать ему вполне резонные замечания, что ведь вот лопата стоит денег и что он вынужден будет вычесть у Гаврилы из жалованья, — то этот кроткий прежде человек отвечал невнятными и нерезонными грубостями… А у Елены глаза все заплаканные…
Потом Гаврило уже формально запил, стал пропадать, и преимущественным местопребыванием его стал довольно грязный вертеп «Яры» на берегу, на песках, недалеко от пристани… Домишко этакой небольшой, деревянный, с мезонином, темный, покосившийся в одну сторону и подпертый бревнами. С берегового откоса можно было видеть его: все, бывало, по вечерам два оконца и дверь открытая светятся, какой-то бубен ухал, и пиликало что-то для увеселения публики… А по временам неслись смешанные крики — не то песни, не то драка и караул. Вообще — вечное беспокойство и как будто угроза. Антитеза дремлющей обывательской жизни… Бурлаки с нашей скромной и по большей части бездействующей пристани, рабочие с кирпичных заводов, как кроты копавшиеся в мокрой глине, профессиональные нищие… одним словом, народ бездомный, несчастный, беспутный и злой. Даже и пролетариат-то попорядочнее избегал этого кабака. И вот, в него-то именно и втянул Рогов Гаврилу. А за Гаврилой узнала дорогу в «Яры» и Елена, собственно для того, чтобы мужа оттуда вытаскивать…
Делала она это как-то удивительно покорно, безропотной, право, даже красиво. Раз иду с уроков, вхожу в калитку, глядь, Елена вбежит навстречу, наскоро платок на голове повязывает.
— Куда вы, говорю, Елена?
Застыдилась немного.
— Не видали вы, — спрашивает, — Гаврило Степаныч в ту сторону прошли?..
— Кажется, говорю, пошел… Да вам-то бы, Елена, туда, пожалуй, и не дорога.
Хотел даже удержать ее… Но она сердито метнулась мимо и, кажется, с некоторою гордостью кинула на ходу, что, дескать, Гаврнло Степаныч — ей муж, а она ему жена законная… А через полчаса гляжу, — ведет Гаврилу Степаныча под руку. Тот упирается, но идет и только смотрит перед собой тусклым, оловянным и непонимающим взглядом. И все-таки идет. У самой калитки уперся вдруг ногами, оттолкнул ее руку и уставился в нее… Лицо темное, и в оловянных глазах злая решимость…
— Ты, говорит, кто?.. Говори: кто ты?.. А?
Она стоит, опустивши руки, убитая какая-то. Вспомнилось мне то весеннее утро и их взаимные клятвы: «А вы, Гаврило Степаныч, бога не забудете?..» И стало мне страшно: забудет, думаю, и именно вот сейчас… сию минуту и забудет… Но вдруг луч некоторого сознания мелькнул в бессмысленном лице, и он как будто проглотил что-то. Не сказал ни слова и молча пошел к себе… И она пошла за ним, испуганная, почтительная и покорная…
И все так пошло: мигнет Рогов Гавриле, он исчезнет со двора и забурлит. Власть какую-то приобрел этот человек над Гаврилой, а Елена ее оспаривала… покорно, почтительно, робко, но настойчиво. Вероятно, считала всю эту историю наказанием, посланным ей для искупления «греха». Осунулась, приятная полнота исчезла, глаза впали… Но зато, глядя на них, я бы теперь никак не решился назвать их глупыми. Страдание всегда удивительно умно, даже у птицы… В вертепы является, мужа пьяного выводит, смеются над ней на улице, грубо задевают… — у нее за себя стыда ни капли… Только иной раз скажет шепотком: «Не хорошо, Гаврило Степаныч, люди на вас смотрят»…
Однажды, при этаком же вот случае, когда она привела его из «Яров», он вырвался из ее рук, кинулся к дверям Будникова и стал бешено колотить в них ногой. Елена как-то вся помертвела и, будто не в силах подойти к нему, глядела только, как человек в кошмаре, когда к нему приближается что-то давно ожидаемое и страшное, против чего нельзя уже бороться… Но тут вдруг дверь открылась, и на пороге появился г-н Будников… Спокойный, даже величавый, с чувством полного превосходства. Я даже, правду сказать, несколько удивился… Как бы ни было, все-таки положение щекотливое. Подробностей я еще тогда не знал, но все-таки чувствовалась некоторая нечистота и неаккуратность… И вдруг ясность взгляда, спокойствие, достоинство. И не то чтобы притворство. Нет, — заметно это было бы… Просто — полная невозмутимость.
— Что, говорит, тебе, Гаврило, нужно? Зачем стучишь ногой? Не знаешь, как надо позвонить… Вот, видишь: звонок…
И показывает ручку звонка. Гаврило посмотрел на ручку и растерялся… Действительно, дескать, ручка и, значит, ногой совершенно-таки незачем… А г-н Будников с верхней ступеньки продолжает:
— И вообще, говорит, что ты о себе думаешь и что тебе, потерянному человеку, от меня нужно? Что, обидел я тебя, поступал с тобой неправильно, жалованье хоть на день один задержал? Ну, вот ты стучал ногой… Хорошо. Вот я к тебе вышел… Что же тебе надо?
Гаврило — ни слова…
— Ну, так вот, говорит, я тебе скажу с своей стороны: лопата опять сломана, панель не подметена, лошадь не напоена, до сих пор… Лошадь бессловесная, ничего сказать не может… но, при всем том, она живая и чувствует… слышишь, ржет вот…
Этот аргумент подавил Гаврилу до такой степени, что он, побежденный совершенно и окончательно, повернулся и… отправился прямо в конюшню: и через минуту, даже как будто не пьяный, повел в поводу лошадь к водопою… А г-н Будников спокойно запер ключом свою дверь и пошел со двора. Проходя мимо моего палисадника и догадываясь, что я все видел, он остановился и, грустно покачав головой, сказал:
— Да вот, толкуют: народ, народ… не угодно ли полюбоваться…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
Скандалы эти стали уже обращать внимание. Заговорили в городе. Судили, конечно, разно. Одни стояли за Будникова. Стоит ли верить слухам? Да и ничего ведь, в сущности, неизвестно. Какие-то, с одной стороны, глухие толки, а с другой — явные скандалы и безобразное нарушение общественной тишины… Но было и другое мнение. Люди низшего звания сочувствовали Гавриле. Должно быть, представлялось им, что г-н Будников, умный и сильный, похитил у Гаврилы какое-то право вроде талисмана, что ли, и теперь колдует каким-то образом, чтобы этот талисман потерял свою силу… И вот десятки глаз поворачиваются к окнам г-на Будникова и смотрят на него, когда он проходит, прямой и спокойный, как будто не замечая, что за ним тянется это облако недоумения, подозрения, осуждения, вопроса… вообще, греха. И в каждом взгляде отражается нехорошая мысль, и в каждом сердце шевельнется нехорошее чувство… Это ведь своего рода темная туча… Сотни одинаковых душевных движений, спутанных, неясных, но злых… И все направляются к одному центру…
А Будников, надо заметить, был до известной степени популярный и прежде пользовался общей благосклонностью… Даже Рогов, когда случалось ему проходить мимо нашего двора, завидя г-на Будникова с лопатой или граблями, прежде остановится, бывало, и скажет:
— Господин Будников, Семен Николаевич, труждается… Трудивыйся да яст.
Или:
— Господин Будников помогает ближнему дворнику трудами рук своих. Похвально!
И пройдет дальше, как мимо явления безразличного или даже приятно развлекающего…
А тут все это окрасилось иначе… У меня даже физическое ощущение какое-то являлось… вроде кошмара. Как будто эти две черты… или что-то в личности г-на Будникова пропитали собою всю атмосферу… Даже, представьте, почти до галлюцинации… Идешь в гимназию или из гимназии… Высчитываешь в уме отметки… И покажется вдруг, что это господин Будников идет за тебя этим размеренным шагом, довольный от сознания исполненного долга… Или задаешь урок, или читаешь необходимую нотацию и слышишь, ну вот просто-таки слышишь эти будниковские нотки в своем голосе… когда он нищим внушает трудовые правила, или читает Гавриле мораль по поводу сломанной лопаты, или мне самому советует «отбросить гордыню и смириться»…
Да, есть в этом обыденном, в этой смиренной и спокойной на вид жизни благодатных уголков свой ужас… специфический, так сказать, не сразу заметный, серый… Где тут, собственно, злодеи, где жертвы, где правая сторона, где неправая?.. И так хочется, чтобы проник в этот туман хоть луч правды живой, безотносительной, не на чертах карандашом основанной, действительно разрешающей всю эту путаницу… настоящей, о которой догадывается даже Рогов… Вы меня понимаете?
— Кажется, понимаю, — серьезно сказал господин в очках.
— Г-н Будников тоже, кажется, начал ощущать, что около него неладно что-то. И заметался, но, как это часто бывает, метнулся не туда, где настоящий выход… Пришел раз ко мне в обычный срок, двадцатого. Ну, разумеется, я, как всегда, угощаю чаем… Выпил, как обыкновенно, только вид не совсем обыкновенный. Не то грустный, не то торжественней. Кончил деловой визит, деньги тщательно уложил в книжечку, отметил… и все не уходит… Начал говорить обиняками… вообще о ненормальности жизни, в частности о своем одиночестве, о какой-то ошибке, происшедшей от предрассудка и гордости… Потом свел на Елену и Гаврилу. Гаврила оказался полным негодяем, а Елена ошиблась и теперь глубоко несчастна… И он чувствует себя виновным, что выдал ее, но исправить это нелегко… И деньгами исправить всего труднее. Что значат деньги в руках пьяницы?.. И так далее, все обиняками, из которых, однако, под конец мне стало ясно, что г-н Будников желает повернуть всю эту запутанность к исходному, так сказать, пункту, то есть развести Елену с Гаврилой и жениться на ней самому… Тогда, значит, две черты сами собой уничтожаются и исчезают… Повидимому, он уже успел посоветоваться об этом кое с кем и в том числе с о. Николаем… Теперь решил посоветоваться еще со мною…
— А что же, — говорю, — Елену вы об этом спросили?
— Нет, говорит, не спрашивал еще… Я к ней… может быть, вы изволили заметить, даже не подхожу, чтобы не было никаких поводов… Но я знаю, что ей нужно… И не имею оснований сомневаться…
Попробовал я представить с своей стороны некоторые соображения, но г-н Будников не стал слушать… Быстро попрощался и ушел… Как будто опасаясь за цельность этой своей системы действий…
А через некоторое время начали, в отсутствие Гаврилы, шастать к Елене какие-то старушки с погоста, а к Будникову какие-то консисторские субъекты. Раза два, под вечер, гляжу: идет от Будникова и Рогов… Вот оно, думаю, что; молодой-то мой человек дошел уже до своего предела, и теперь понятно, зачем он спаивает Гаврилу, подготовляет нужную для г-на Будникова бракоразводную обстановочку…
И показалось мне все это, в целом, до такой степени безобразным и безвыходным, что я задумал переменить квартиру, чтобы просто-напросто уйти от этого всего… Бессонница замучила… Опять по саду шатаюсь. И однажды застаю в нем Елену. Лежит на той самой скамейке, где я сидел в то утро, весной… А теперь осень… Умирает это все, обнажается… Осень ведь большой циник… Ветер треплет опавшие листья, смеется… Лежат они на грязной, мокрой земле. А на мокрой скамейке лежит женщина лицом книзу и плачет… так и бьет всю ее плачем… Впоследствии я узнал: комбинация г-на Будникова, разумеется, была совершенно неосуществима. Услыхав об этом предположении, она только всплеснула руками: «Пусть, говорит, подо мной земля провалится, пусть высохну, как щепка…» Ну, и так далее… «Лучше заройте меня живую в землю вместе с Гаврилом Степановичем»… А Гаврило Степаныч и дома уж не ночует. И угасает недавнее чистое счастье, а она и понять не может, в чем дело, и не умеет себя отстоять. Билет… две черты… кумушки с паперти, Будников, Рогов. А она глупа и покорна, и боится, что над ней сделают что-то без ее воли…
Подошел было я к ней… хотел как-нибудь утешить. Но когда дотронулся до нее и под рукой затрепетало это бабье тело… таким оно мне показалось тогда глупым, что я даже содрогнулся, точно от бессильной жалости…
И ушел… Забыл все, и захотелось мне все бросить и отгородиться от всего. Идет мимо господин Будников… Пусть идет… Рогов делает гадости… Пусть делает! Глупая Елена пьяного мужа ведет… Пусть ведет… какое мне дело? И кому попадет билет с двумя чертами, и кому эти глупые черты дадут умное право… не все ли равно?.. Все разрознено, все случайно, все бессвязно, бессмысленно и гнусно…
IX
Павел Семенович остановился и стал глядеть в окно, как будто забыл о рассказе…
— Ну, что же, чем же все-таки кончилось? — осторожно спросил новый слушатель.
— Кончилось?.. — очнулся рассказчик. — Конечно, все на свете чем-нибудь кончается. И это кончилось глупо и просто. Однажды ночью… звонок ко мне. Резкий, тревожный, нервный… Вскочил я в испуге, туфли надел… выхожу на крыльцо… никого. Только показалось мне, что Рогов за углом мелькнул. Ну, думаю: шел мимо пьяный и злой и захотел лишний раз досадить мне… Напомнить, что вот я сплю, а он, Ванечка Рогов, любимый ученик, на улице дебоширит и хочет об этом довести до моего сведения. Запер я дверь, лег опять, засыпать начал. Вдруг — опять звонок. Я не встаю. Пускай, думаю… Только опять звонок, и в другой раз, в третий… Нет, думаю, тут, видно, что-то другое. Накинул опять пальто… Отворяю дверь. Стоит ночной сторож. Борода в инее. «Пожалуйте», говорит.
— Куда, говорю, что ты, братец?
— К Семену Николаевичу, говорит, к господину Будникову… У них… неприятность…
Я как-то так, не понимая ничего, машинально оделся, иду. Ночь светлая, холодно, поздно… У господина Будникова в окнах огни, на улице где-то свистки… ночное движение… Подымаюсь по лесенке, вхожу. И первое, что мне кинулось в глаза, — было лицо Семена Николаевича, господина Будникова… Только не прежнего, а совсем нового. Лежит на подушке и смотрит куда-то, в какое-то пространство неведомое… Странно так… Остановился я на пороге и подумал: «Как же это? Такой был знакомый человек и вдруг… совсем другой…» Совсем не тот, который приходил раз в месяц и выпивал два стакана чаю. И не тот, который хлопотал о разводе Елены, а некто, занятый другими мыслями. Лежит неподвижно, важный, и на нас ни на кого не глядит и видит, как будто, совсем другое… И никого не боится, и всех судит: и себя, то есть прежнего Семена Николаевича, и Гаврилу, и Елену, и Рогова, и… ну, и меня тоже… И так это, понимаете, стало мне ясно…
А затем я увидел Гаврилу. Стоит у окна, в углу, жалкий, но спокойный. И так как я многое в ту минуту понимал как-то сразу, то я подошел к нему и говорю:
— Ты это сделал?…
— Так точно, говорит, Павел Семеныч. Я-с.
— Как же ты решился?
— Не знаю, Павел Семеныч…
Потом я уже заметил доктора, который сказал мне, что всякая помощь бесполезна… Потом приходили, приезжали, входили, сидели и писали протоколы… И так мне показалось тогда странно, что молодой следователь, такой аккуратный человек и такой уверенный, распорядился не отпускать Гаврилу и Елену и производит какие-то розыски… И помню, как он усмехнулся, когда я спросил: зачем это?.. Вопрос, конечно, странный, но тогда мне казалось, что все это не нужно… И когда стали уводить Гаврилу и Елену, я как-то невольно поднялся с своего места и спрашиваю: «И меня тоже?» После явились слухи, будто у меня не все в порядке. Но это неверно. Никогда так ясно не было в голове… Следователь удивился. «Если смею, говорит, посоветовать, то — вам надо воды выпить и успокоиться». — «А Елена, спрашиваю, зачем?» — «Будем, говорит, надеяться, что все разъяснится в благоприятном для нее смысле, но теперь… при первоначальном дознании… печальная обязанность»… А мне все кажется, что делает он не то…
Увели их, а я пошел к себе и сел на крыльце. Было холодно… Ночь была ясная, осенняя, спокойная, с белым и чистым инеем. В небе звезды мерцают и шепчут. И так много во всем какого-то особенного смысла… Вот прямо слышишь таинственный шопот, только разобрать не можешь… Не то какая-то далекая тревога, не то спокойное и близкое участие.
Я как-то вовсе не удивился, когда, ко мне тихонько подошел Рогов и робко сел на крыльце рядом. И долго сидел молча… И я даже не помню, говорил ли он что-нибудь, но я знал все… Он не думал об убийстве. Он хотел по-своему «выиграть у г-на Будникова дело Елены», Для этого нужно было овладеть билетом, на котором, как он полагал, была передаточная надпись… И ему нравилась эта остроумная комбинация: овладеть незаконными путями доказательством законного права. Видел в этом нечто даже юмористическое… Незаконное овладение законными доказательствами в виде предполагаемой передаточной надписи… Для этого он и втерся к Будникову в доверенность по бракоразводному делу… Разведал все в квартире и послал одного из своих послушных клиентов из «Яров» с приказом захватить намеченную шкатулку. А Гаврило должен был открыть дверь г-на Будникова вторым ключом, которого, по странной оплошности, Будников у него не отнял. Но Гаврило, вместо того, чтобы остаться у дверей, пошел сразу наверх. И мне казалось, что я сам видел, как он шел тяжелой походкой, с омраченной головой, с темною враждой в душе… И как он встал на пороге, и как г-н Будников проснулся и, должно быть, даже не испугался, а все вдруг понял…
А у меня в голове все стоял тот момент из прошлого, когда в мою квартиру такой же светлой ночью прибежали два гимназиста, а я стоял перед ними, охваченный стыдом и бессилием… И как у одного впервые вспыхнул в глазах огонь… злой и насмешливый…
И показалось мне, что я сейчас разгадаю что-то такое, что должно объединить все это: и эти высокие мерцающие звезды, и этот живой шорох ветра в ветвях, и мои воспоминания, и то, что случилось… В юности это ощущение бывало у меня часто… Когда свежий ум искал разгадки всех вопросов и большой правды. И когда казалось иной раз, что вот-вот уже стоишь у порога и что все становится ясно… А потом все исчезает.
Сидели мы долго. Потом Рогов встал.
— Что же вы теперь? — спросил я.
— Не знаю, — ответил он, — что тут нужно… Но пока, кажется мне, надо итти туда, где теперь Гаврило и Елена…
А сам стоит… Так как многое понимал я тогда яснее, чем обыкновенно, то и тут понял, что он ждет, чтобы я протянул ему руку. Я протянул, и он вдруг припал к ней, страстно и долго…
А потом оторвался и пошел… прямо по улице. А я смотрел ему вслед, пока была видна тонкая фигура моего бывшего ученика.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Некоторое время в купе стояло молчание, нарушаемое только клокотанием поезда, сквозь которое доносился протяжный свисток. Хлопнула дверь, по коридору прошел кондуктор, объявляя на ходу:
— Станция Н-ск. Десять минут.
Павел Семенович торопливо встал, взял в руки небольшой чемоданчик и, кивнув с какою-то грустною лаской своим собеседникам, — вышел из вагона на площадку. Я тоже стал собирать свой багаж, так же как и господин в золотых очках. Петр Петрович оставался один в купе. Посмотрев вслед Павлу Семеновичу, когда за ним закрылась дверь, он улыбнулся господину в золотых очках, покачал головой и, помотав пальцем около своего лба, сказал:
— Всегда был чудак… А теперь, кажется, не все дома. Слышал я, что службу он бросил. Бегает по частным урокам…
Господин в золотых очках пристально посмотрел на него, но ничего не сказал.
Мы вышли.
Дело с точки зрения репортажа оказалось мало интересным. Присяжные оправдали Гаврилу (Елену не судили), а Рогова признали виновным в подстрекательстве, но заслуживающим снисхождения. Председателю много раз пришлось останавливать свидетеля Павла Семеновича Падорина, бывшего учителя, то и дело уклонявшегося от фактических показаний в сторону отвлеченных и не идущих к делу рассуждений…
1903
Назад: Мороз*
Дальше: Комментарии

