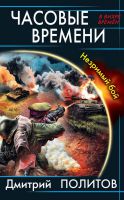9. Возвращение
На несколько минут я очнулся в какой-то незнакомой мне комнате. Возле кровати с кружкой воды в руках стоял Закиров. Сбоку на табуретке сидел Лопатин. Я спросил, что с танками?
— Прорвались! Сгорела твоя машина. Да подорвался на мине Татаринов. Остальные все вышли. Ты лежи спокойно. Сейчас приедут из санбата, — сказал, садясь на край постели, Лопатин.
Я хотел еще что-то спросить, но потревоженный мозг снова отказался воспринимать что-либо. Потолок начал крениться на бок, стол и лавки, стоявшие вдоль стен, почему-то переворачивались вверх ножками, и я снова впал в беспамятство.
Почти два месяца провалялся я в госпитале, Как все надоело! Полтора месяца лежал в Киеве, а потом многих из нас перевели в Новоград-Волынск.
На дворе весна, тепло. По канавам еще весело журчат ручейки, а кругом уже сухо.
Перед окнами моей палаты — дорожки, усыпанные крупным желтым песком. Они в разных направлениях пересекают обширную зеленую лужайку. В огороженном невысокой чугунной решеткой госпитальном саду, вскапывая под газоны и клумбы влажную, душистую землю, копошатся с лопатами выздоравливающие. Теплый ветерок ласково шелестит молодой, сочной, только что распустившейся листвой тополей и ив. Из пробежавшей низко над городом темно-синей тучи, которую еще видно на горизонте, пролился короткий теплый дождик. В прозрачном как хрусталь воздухе ни одной пылинки. Полной грудью вдыхаешь его и чувствуешь, как весь наполняешься силой, здоровьем.
А какое дивное небо! Посмотришь минуту, другую в эту бездонную голубую чашу, и закружится голова. Тело как будто потеряет свою тяжесть и ты, легкий, почти невесомый, несешься в безбрежном, сверкающем океане в бесконечную даль.
Кажется, что война ушла куда-то далеко-далеко или что ее вовсе нет и никогда не было, а ты только что очнулся от тяжелого кошмарного сна. Однако в тихие ночи доносится и сюда далекий гул орудий, война еще продолжается, и где-то там льется кровь близких и дорогих людей.
Наши части заняли Бердичев, Казатин, Винницу и идут с каждым днем все дальше на запад, очищая родную землю от фашистской погани, а меня все еще не хотят выписывать, ссылаются на тяжелую травму мозга и нервной системы, хотя чувствую себя я уже превосходно.
Сегодня снова говорил с врачом, и тот, наконец, обещал в ближайшие дни отправить меня на комиссию. За все время пребывания в госпитале я не получил ни одного письма ни из бригады, ни из дома.
После обеда ко мне подошла сестра и попросила зайти в канцелярию. Там, к великому моему удивлению и радости, вручили мне целую пачку писем, перевязанных толстым шнуром. Делопроизводитель, молоденькая девушка со вздернутым носиком, виновато улыбаясь, призналась, что по распоряжению врача выдавать мне их было запрещено.
Забыв поблагодарить девушку, я схватил пачку и побежал к себе в палату. Четыре письма были из бригады, два из дома и три от школьных товарищей, воевавших сейчас на разных фронтах.
Что сталось с Кудряшовым и Никитиным, оставшимися в лесу с ранеными? Добрались ли автоматчики и Ваня Рыбалченко через фронт до своих? Как идут дела в бригаде? — вот что главным образом беспокоило и волновало меня все это время вынужденного бездействия. Поэтому конверты со штемпелем нашей полевой почты я схватил в первую очередь.
Два письма были от Кудряшова, одно от Витьки Герасимова и одно, самое пространное, написанное с умопомрачительными крючками и завитушками, было от моего механика Закирова. Как жаждущий не отрывается от кружки воды, так я не отрывался от писем, пока не проглотил их залпом. Уже потом стал внимательно перечитывать каждое в отдельности.
— Что пишут? — спросил меня сосед по койке, пожилой капитан-пехотинец Колосков, с которым мы за это время крепко подружились.
— Много нового, Алексей Васильевич, — ответил я ему. — Далеко вперед ушли они без нас. А я вот, здоровый человек, лежу здесь, когда там товарищи воюют.
— Был бы здоров, задерживать не стали бы, — возразил капитан. — В бригаде с больными возиться некогда. Ладно, читай, мешать тебе не буду. О новостях расскажешь потом, — сказал Алексей Васильевич, потянувшись к костылям и, грузно опираясь на них, вышел из палаты.
Перечитал письма еще раз. Теперь я все знал. Знал, что Кудряшов с ранеными находился в лесу больше недели, а когда наши части освободили Винницкий район, он, сдав тяжело раненых в госпиталь, вместе с автоматчиками и выздоравливающими вернулся в бригаду.
Наконец, стало мне известно, что произошло и с моими родными. С отцом в 1942 году я еще переписывался и знал, что он воюет на Воронежском фронте. Последнее письмо от отца было из астраханского госпиталя. С тех пор переписка оборвалась, и я не знал, жив он или нет. Мать с сестрой эвакуироваться не успели и оставались на Брянщине в Алтухове в партизанской зоне, где в одном из отрядов воевал муж сестры. Вся Брянщина боролась с врагом. Мои школьные товарищи, не успевшие уйти в армию, и знакомые девушки были в партизанских отрядах. Под контролем партизан был огромный район. Они взрывали мосты, сбрасывали под откос воинские эшелоны. Их лихие отряды врывались в деревни села, уничтожая врагов везде к всюду, карая подлых наемников, предателей Родины — полицейских.
Теперь вся наша семья, кроме меня, была в сборе. Отца по здоровью и возрасту из армии демобилизовали, и он начинал заново устраивать свое хозяйство, восстанавливая полуразрушенный дом. «После госпиталя ты, наверное, приедешь в отпуск, — писала мать. — Как хочется увидеть тебя, убедиться, что ты действительно жив и здоров! Каждый день ходим на станцию к поездам и смотрим, а вдруг ты выйдешь из вагона…»
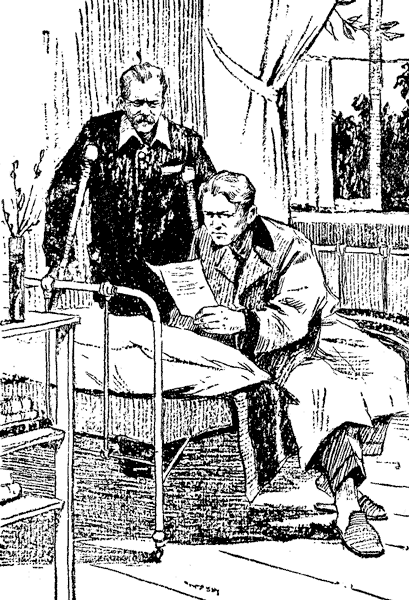
Крепко хотелось и мне повидаться со стариками, побывать в родных краях, где дорог был каждый куст, каждое дерево, где все напоминало о счастливых днях юности, ушедшей уже так далеко, но от этого ставшей еще более дорогой и близкой.
Вот письма друзей: Володи Ротова, Ивана Жарикова. Три года назад в тихую майскую ночь лежали мы на душистой траве на обрыве и мечтали, что будем делать после окончания школы, как будем жить и трудиться. Под обрывом, играя галькой, мелодично разговаривал ручеек, выбивавшийся родником из-под круто падающих пластов породы. Таких родничков было здесь много, от них веяло прохладой. Чуть дальше, где расстилался обширный луг, тянувшийся от лесоучастка Пальцо до реки Навля, белело, клубящееся облако ночного тумана. Луг был усыпан цветами, а дальше тянулись к реке заросли ивняка. Десятки небольших ручейков сливались вместе и впадали в большую и бурную речку, которая издали казалась широкой серебряной лентой.
Тогда мы мечтали стать пограничниками и вот так же лежать где-нибудь на отведенном рубеже, вслушиваясь в ночные шорохи, всматриваясь в тьму, выслеживая лазутчиков.
Торжественная тишина леса, причудливые облака тумана над лугом, едва долетавшая туда от поселкового клуба красивая мелодия старинного вальса приятно возбуждали и волновали нас, и мы невольно переходили на шепот, очарованные прелестью майской ночи.
А сейчас Ротов, наверное, где-нибудь на прифронтовом аэродроме готовит самолет к боевому вылету. Жариков сидит за рычагами танка, а я вот валяюсь в госпитале.
Если в мирные дни мы мечтали охранять священные рубежи нашей Отчизны, зорко оберегать границы от тайных врагов, то теперь с этим врагом мы встретились лицом к лицу. И я, и мои друзья чувствовали полное удовлетворение, что вложили какую-то долю солдатского труда в общее дело разгрома и уничтожения подлых захватчиков. Нам не придется при встрече краснеть ни друг перед другом, ни перед теми, кто крепко бил фашистов на фронтах.
Вошел капитан Колосков.
— Ну как, отвел душу? — спросил он меня, присаживаясь на койку.
— Не говори, Алексей Васильевич, сегодня я именинник.
— Что пишут из дома?
— Ждут. Зовут отдыхать после госпиталя. Хочется старикам повидаться.
— Да и молодые, небось, не прочь? — лукаво подмигнул Колосков.
— Еще бы, Алексей Васильевич. Хоть и прошло три года, а ведь кажется, улетела целая вечность.
Колосков лег на постель и натянул до подбородка простыню. Мы долго молчали, думая каждый о своем. Мне было немного неловко перед этим человеком за свою радость. Вот лежит он передо мной бледный, с впавшими щеками, капельки пота выступили на лбу от тяжелой, непривычной ходьбы на костылях. Только серые волевые глаза смотрят на меня весело, и я чувствую, вижу, что и он радуется вместе со мной.
Колосков остался совсем одиноким. Его жена и сын погибли во время бомбежки в эшелоне, где-то неподалеку от Минска. Больше у него никого не было, ни родственников, ни родных. Нет теперь у него и маленького домика, возле которого он когда-то выращивал молодой садик. Ничего нет. Весь поселок, где он жил до войны, сожжен дотла.
Колосков был тяжело ранен. Ему выпилили раздробленную кость, и сейчас одна нога была много короче другой. Рана с трудом заживала, но он уже прошел врачебную комиссию и на днях выписывался из госпиталя.
На поправку здоровья ему дали четыре месяца. Правда, сначала его хотели вообще демобилизовать, но благодаря его настойчивым просьбам в армии оставили, и он был рад, что снова сможет вернуться на фронт.
О том, где провести предоставленный ему отпуск, Колосков не думал. Теперь, когда прочитаны письма родных, я знал, что могу предложить ему поехать к нам на Брянщину.
В палату вошла сестра и объявила, что меня вызывают на медицинскую комиссию. Я быстро собрался и пошел за ней по длинным коридорам в ординаторскую комнату, где скоро должна была решиться моя судьба.
Около часа водили меня от одного врача к другому. Приказывали закрывать глаза, вытягивать руки, стоять на одной ноге, стукали, слушали, так что в конце концов я возненавидел эту большую белую комнату и мысленно поклялся ни при каких обстоятельствах больше не попадать в такую обстановку.
Комиссия решила из госпиталя меня выписать и предоставить мне отпуск. Я вначале категорически отказался от отпуска. Председатель комиссии, старый седой полковник, постыдил меня, потом поругал, погрозил последствиями, и в конце концов приказал пойти в отпуск.
Когда я вернулся в палату, Колосков копался в своей тумбочке, сортируя и аккуратно увязывая свои вещи.
— Ну, как дела? — спросил он, обернувшись ко мне.
— Иду в отпуск.
— Вот, это хорошо, — сказал Колосков. — Я предвидел, что будет именно так. Вот и я ухожу в отпуск, хотя ни к чему это мне.
Он почему-то разволновался и, свернув папиросу, вышел на балкон. Пошел покурить и я.
Солнце уже закатилось, наступили вечерние сумерки. Только из какой-то палаты доносился сюда звонкий стук костяшек домино, да слышался шелест вырывавшейся из брандспойта сильной струи воды: госпитальный служитель поливал засаженные цветами клумбы внизу под нами.
— Куда думаешь ехать? — спросил я Колоскова.
— Не знаю, — задумавшись, ответил он. — Поеду куда-нибудь, а там видно будет. Может, на дороге где остановлюсь.
— Литер на проезд уже выписал?
— Нет еще. Завтра.
— Слушай, Алексей Васильевич, — сказал я» взяв его за рукав, — поедем со мной к моим старикам. Места у нас дивные, лес, речка, луг. Ухаживать за тобой будут, как за родным. Да и поправишься ты там в домашней обстановке быстрее и раньше вернешься на фронт.
— Спасибо, друг, — сказал Колосков, — только с какой стати я поеду туда? У вас ведь там тоже прошлись эти звери и разрушили все дотла. Не до меня, небось, будет твоим родным.
— Брось-ка так думать, Алексей Васильевич. Будут рады тебе, как самому дорогому гостю.
Колосков не стал больше отказываться. Сестра погасила свет, но мы еще долго шептались с ним обо всем, что каждый в себе вынашивал в годы суровой войны. Мы строили планы на будущее.
Утром проснулся я очень рано и стал собирать свой незатейливый багаж. После завтрака в палату вошла сестра и, обратившись ко мне, сказала:
— К вам посетители. Прошу спуститься в приемную.
Я недоумевал, кто же это мог быть? Знакомых здесь не было, бригада далеко. Высказав сестре свое сомнение, не ошибается ли она в том, что посетители пришли ко мне, я вышел в приемную. Трудно рассказать, как я был изумлен и обрадован, когда увидел перед собой сидевших на диване в белых халатах Ивана Федоровича Кудряшова и Ваню Рыбалченко.
Засыпая их вопросами и тем самым не давая ответить ни на один, я не чувствовал, что веду себя как мальчишка. По-отцовски смотрели на меня умные, чуть смеющиеся глаза моего замполита.
Обнявшись, мы вышли из приемной на воздух и удобно расположились на плащ-палатке, раскинутой на зеленом ковре травы. Угощая меня присланными из бригады гостинцами, Иван Федорович с Ваней рассказали о всех новостях.
Ваня снял белый халат, и я увидел на его выцветшей гимнастерке новенький блестевший эмалью орден Красной Звезды. Я обнял его и расцеловал, поздравляя с высокой наградой. Ваня был горд и счастлив.
— Ну, а теперь разреши и тебя поздравить, — крепко пожимая мне руку, сказал Иван Федорович, подкручивая свободной рукой свои, начавшие уже серебриться, длинные казацкие усы. — Командующий докладывал в Ставку о результатах нашей операции, и нам вынесена благодарность. Читай вот это, — торжественно протянул он мне пакет от командующего. В нем было поздравление в связи с присвоением мне звания Героя Советского Союза. Письмо подписано командующим, членом Военного совета и начальником штаба.
Я был ошеломлен и не находил слов, а лишь крепко жал руки друзей.
— А как все другие? — вырвалось у меня.
— Не беспокойся, награждены. Никого не забыли, — сказал Кудряшов.
Я расстегнул его белый халат и увидел на груди поблескивающий золотом орден Ленина. Мы крепко обнялись и расцеловались.
— Вот поправишься, отвезешь ордена родителям Петрова и Кобцева, — сказал Кудряшов.
— Нет, Ваня, это сделаешь ты, — возразил я. — Они твои питомцы. Ты многое сделал, чтобы вдохновить их на подвиги. Да и с родителями сумеешь поговорить лучше меня.
— Хорошо, — сказал Кудряшов.
Этот яркий весенний день был для меня днем незабываемой радости.
Однако, кроме приятных вестей, Иван Федорович принес и печальную. Смертью храбрых пал в бою с врагами Боря Никитин. Наш доктор, гвардеец-герой, гранатой и автоматом защищал своих раненых бойцов до последнего вздоха.
Мы долго еще лежали в саду, пока Кудряшов рассказывал о том, как они держались до подхода наших войск.
После того как ушли танки, Иван Федорович выставил часовых и начал помогать Никитину перевязывать раненых. Было немного дымно от поставленных в палатке двух печек, ело глаза, но зато никто не мерз. Никитин и Чечирко всю ночь не отходили от двух тяжело раненых автоматчиков, безуспешно пытаясь отнять их у смерти.
К вечеру третьего дня пребывания в лесу Кудряшов послал башнера Кирсанова, оставшегося здесь по его собственной просьбе, в разведку в направлении небольшой деревушки, по карте предполагавшейся километрах в семи от леса. По пути в деревню Кирсанов обнаружил более обширную рощу, чем та, в которой расположились раненые. Отсюда уже хорошо была видна и полузанесенная снегом деревушка. Ради предосторожности разведчик пошел лесом.
Но едва он сделал несколько шагов, как сзади на него навалились какие-то люди. Они связали его, обезоружили, забили в рот кляп из пропахшей дымом рукавицы, завязали глаза и повели за собой. «Ну, влип, — думал Кирсанов, с трудом переставляя ноги в глубоком снегу. — Что подумает теперь замполит, когда не дождется меня?
Будут они там вместе с ранеными лежать в снегу, пока их всех не перебьют гитлеровцы».
О себе он не думал. Его беспокоила мысль о том, что, попавшись так глупо в лапы врагов, он тем самым дает им повод обнюхать кругом каждое дерево и отыскать группу Кудряшова.
Что может сделать горстка людей против вооруженной оравы фашистских карателей? Чувство огромной непоправимой вины и презрения к самому себе терзало его сейчас больше предстоящих пыток. Он замычал и в бессильной ярости стал вырываться из рук державших его людей. Но те лишь посмеивались и, толкая его в спину прикладом автомата, волокли дальше.
Скоро пленившие Кирсанова люди вынули из его рта прокопченную рукавицу. Затем развязали глаза. Оглядевшись кругом, хотя было уже темно, Кирсанов увидел, что находится в лесу. Возле него стояло человек шесть разношерстно одетых, хорошо вооруженных людей.
— Что, Семен, господина арийца схватили? — спросил одного из пришедших внимательно рассматривавший Кирсанова человек.
— Какой это ариец? Предателя взяли, — презрительно сплюнув, сказал другой.
— Шеститко, что ты там остановился? Иди, докладай командиру да тащи с собой того иуду, — раздался из темноты недовольный голос.
На душе у Кирсанова отлегло. Свои! Партизаны! И он уже весело зашагал за человеком, которого назвали Шеститкой.
В землянке, куда его ввели, было душно. На застланном плащ-палаткой столе тускло мерцал огонек светильника. За столом сидело двое. Один — в военной гимнастерке с расстегнутым воротом, второй — в штатском, изрядно уже поношенном костюме.
В углу, возле сложенной из необожженного кирпича печки, сидел на корточках третий, подбрасывая в огонь еловые смолистые поленья.
После продолжительного допроса и беседы все выяснилось. Командир отряда послал к Кудряшову с Кирсановым четырех партизан. Еще через два дня группа Кудряшова вместе с ранеными была уже в расположении отряда. Там прожили они около недели. Многие раненые начали поправляться, Кудряшов помог отряду продовольствием и боеприпасами.
Но вот однажды разведчики принесли тревожную весть. В селе Александров Гай был собран отряд карателей численностью до ста пятидесяти человек, который сейчас двигался к лесу, где располагалась партизанская база.
Партизанский отряд Васильева по численности был небольшим. К его шестидесяти бойцам присоединилось теперь одиннадцать наших, считая Никитина и Чечирку. Оставив десять человек при раненых, отряд выступил из лесу, чтобы на опушке, в двух километрах от лагеря, принять бой.
Каратели действовали не очень решительно. Бой продолжался сутки. Скоро к гитлеровскому отряду, больше чем наполовину истребленному, подошло подкрепление. Три миномета, поставленные на фланге наступающих, стали выводить из строя наших автоматчиков и партизан. Комиссар отряда, тот самый, что сидел тогда в землянке в штатском костюме, взяв с собою пять бойцов, под прикрытием темноты пополз к минометной батарее. Но один из бойцов, а затем и второй были ранены и остались лежать на снегу.
Доктор Никитин пополз к раненым. Над головой и с боков свистели пули, но Никитин не обращал внимания на обстрел и упрямо полз, дальше… Вот он приблизился к первому оставшемуся лежать на снегу партизану, но через минуту уже двигался дальше, — партизан был мертв. Возле второго Никитин остановился и начал перевязывать его рану. В пятидесяти метрах от них показались ползущие по снегу немцы.
В двадцати шагах от него вскочили сразу четыре полицая и бросились к нему, пытаясь захватить доктора живым.
Поднявшись во весь рост, доктор стал отбиваться. Со стороны леса на помощь к нему приближались партизаны. Фашисты и полицаи, отстреливаясь, бросились бежать. Наши люди нашли Никитина лежащим на снегу. По переносице из левого виска его стекали еще теплые струйки крови.
Так погиб, защищая раненых, фельдшер Борис Никитин.
Замечательным врачом, воином и товарищем был этот славный человек. Всеми любимый и уважаемый, он навсегда сохранился в моей памяти. И многие будут с любовью вспоминать о нем, рассказывая своим детям и внукам о суровых временах и о славных боях, в которых они вместе с ним принимали участие, защищая свою Отчизну от ненавистных врагов.
К утру партизаны увидели, что по дороге из Александрова двигалась колонна советских танков, прорвавших оборону противника и гнавших, гитлеровцев на Запад.
Четыре автоматчика вместе с их проводником Ваней Рыбалченко, посланные нами через линию фронта с захваченными в Поповке штабными документами, на четвертый день благополучно перешли передовую и все порученное им доставили в штаб бригады.
С разрешения комбрига Ваня остался в нашем подразделении. Мальчик хорошо помнил ту ночь, когда к ним в Шишиловку ворвались советские танки. Он крепко полюбил мужественных и веселых людей, которые освободили его родную деревню. Ему хотелось быть таким же, как они. Ваня мечтал непременно стать танкистом.
Иван Федорович Кудряшов относился к Ване, как родной отец. Он помогал пареньку учиться, доставал книги, сам составлял для него задачи.
В свободное от занятий время Ваня изучал пулемет. Большая дружба была у него и с водителем Закировым. Тот горячо, с увлечением объяснял мальчику устройство танка, рассказывал о капризах машины, случавшихся чаще всего по причине небрежности водителя, внушал маленькому танкисту любовь к технике.
— Я обязательно буду таким же водителем танка, как ты, — радостно, с разгоревшимися от восторга глазами, говорил Ваня Закирову.
И тот гордился своим учеником.
— Да, он будет им, хорошим будет танкистом, — говорил Закиров о любимом воспитаннике и друге.
* * *
Где вы теперь, друзья-однополчане? — хочется спросить, выражаясь словами всем нам знакомой песни.
О многих из них я слыхал добрые вести. Залечив раны, они трудятся теперь во имя счастья нашего народа и во славу могучей, непобедимой Родины. Укрепляя мощь и силу своего социалистического Отечества., они сражаются на переднем крае великой борьбы за мир во всем мире, и дружбу между народами.
Горе тем, кто вынашивает кровавые замыслы и строит планы нового нашествия на нашу мирную страну! Мы всегда начеку, всегда готовы дать сокрушительный отпор любому агрессору, откуда бы он ни появился. Мы будем беспощадно громить врага до полного его уничтожения. Порукой тому наш боевой опыт, наша безграничная любовь и преданность Коммунистической партии и великому советскому народу.
Назад: 8. Обратный путь
На главную: Предисловие