Глава одиннадцатая
Прошла неделя. Женька за это время ни разу ко мне не подошел и не сказал ни слова. Меня будто б и не было в классе. А если нам случалось на перемене столкнуться в коридоре, он просто обходил меня, словно я не человек, а какой-нибудь столб. Однажды я все-таки не вытерпел и окликнул его, сделав вид, что мне нужен красный карандаш. Но в ответ Женька на меня даже не взглянул и процедил сквозь зубы:
— Я с трусами не хочу разговаривать.
После этого случая я твердо решил ни за что больше к нему не подходить. Не хочет дружить — напрашиваться не стану.
В Дом пионеров я не пошел, хотя в понедельник получил открытку, где меня извещали, что занятия исторического кружка будут проводиться по вторникам, два раза в месяц.
Весь вечер во вторник я просидел над книгой «Два капитана». Читал до самого ужина, пока мать почти силой не усадила меня за стол. Но после ужина, едва допив чай, я снова схватился за книгу. Что за чудеса? Почему тогда, в пятницу, эта книга показалась мне неинтересной? Теперь я не мог от нее оторваться. Вместе с Саней Григорьевым мчался я в бой на самолете, вместе с ним храбро бросал в лицо трусливому жулику Ромашке полные презрения слова, хотя Саня был весь изранен, а Ромашка цел и невредим, да к тому же еще держал в руке пистолет. Вместе с отважным летчиком пробирался все дальше и дальше, в глубь полярных снегов, чтобы раскрыть тайну гибели экспедиции капитана Татаринова… «Бороться и искать, найти и не сдаваться!..»
Я перевернул последнюю страницу и закрыл книгу. Закрыл ее с таким чувством, какое бывает, когда в яркий солнечный день выйдешь вдруг из кино, жмурясь от нестерпимого света и еще переживая то, что минуту назад видел на экране. Да, бороться и искать с таким упрямством, как Саня Григорьев, могут немногие. Разве сравнишь, к примеру, наши с Женькой поиски с теми, которым посвятил всю свою жизнь Саня?.. Впрочем, Женька тоже упорный и может чего угодно добиться, если захочет.
К концу недели как-то незаметно в школе накопилось у меня множество дел. Домашние задания, дежурства, подготовка к сбору, посвященному Чехову… В хоккейную команду я записался еще в первый день после каникул, и мы частенько тренировались за школой на маленьком катке. Постепенно я стал забывать и о нашей с Женькой ссоре и о задании Ивана Николаевича. Но бывало, не скрою, вдруг мелькнет иной раз мысль: «Вот бы Женька увидел…» Или: «Эх, жаль, нету рядом Женьки!..» Так случалось, когда во время хоккейной тренировки мне удавалось послать шайбу точно в ворота или пройти, гоня ее перед собою клюшкой, через все поле; это бывало, когда не выходил дома какой-нибудь пример из задачника по алгебре; бывало и по другим причинам. Все-таки, что там ни говори, а друзьями мы с Женькой были настоящими…
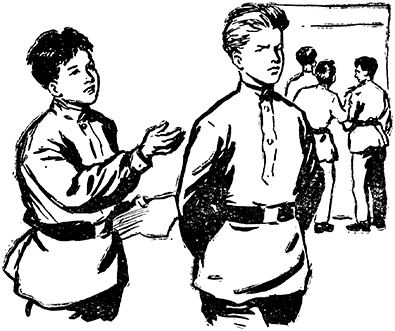
В воскресенье мать послала меня в магазин за подсолнечным маслом. Я оделся, захватил бутылку, потому что масло продавали разливное, выскочил на улицу и возле самого дома столкнулся с Лешкой Веревкиным. Пальто у него, как и в прошлый раз, было расстегнуто, и из-под него виднелся фотоаппарат.
— Еду в зверинец, снимать, — деловито сообщил он. — Хочешь со мной?
— Леша, а Леш! — взмолился я. — Ты подожди немножко, а? Я только куплю масло, отнесу домой и куда хочешь с тобой поеду.
— Ладно, — снисходительно согласился Веревкин. — Только смотри не задерживайся, а то для съемок погоду упустим.
Куда там задерживаться! Если бы в магазине была громадная очередь, я бы и то, наверно, изловчился как-нибудь, чтобы пролезть поскорее. Но у прилавка покупателей не было, и минут через пятнадцать мы с Лешкой уже бежали к остановке автобуса.
— А ты чего, Лешка, свой аппарат под пальто носишь? — полюбопытствовал я. — Можно ведь сверху. А то простудишься еще на морозе, все время расстегнутый.
— Ты ничего не понимаешь, — сказал Веревкин. — Настоящие фоторепортеры никогда на пальто аппаратуру не носят. Я видел одного, из Москвы приезжал к отцу на фабрику. У него, думаешь, один аппарат? Целых три! И еще какая-то коробка. И все это под пальто.
— Может, тебе просто какой-нибудь глупый репортер попался, — с сомнением проговорил я.
— Сам ты глупый. В Москве дураков не бывает.
— По-моему, дураки всюду есть, — подумав, решил я.
— Это по тебе видно, — засмеялся Веревкин.
…Зверинец у нас в городе небольшой. То есть парк сам по себе не маленький, но зверей там немного. Конечно, слона, как в Московском зоопарке, нет, и носорога тоже, и бегемота. Но олени, лось, тигр с тигрицей, волки, рысь, два медведя — белый и бурый — есть. Ну, барсуки там, зайцы разные, ежи, черепахи и прочая всякая мелочь — это не в счет. Этого и в любом живом уголке можно насмотреться. Летом в нашем зверинце всегда бывает много народу. А зимой почти никого. Да летом и снимать, конечно, интереснее. Но не ждать же тепла и солнышка, если надо сфотографировать медведя или оленя!
В заснеженном парке, где среди деревьев стояли клетки, посетителей было мало. Пустынные дорожки и свесившиеся над ними белые, мохнатые от инея ветки, замерзший пруд, где в летние дни плавали жадные до хлебных корок утки и гуси, — все это выглядело тоскливо и неуютно.
— Давай, Сережка, я для начала сфотографирую тебя на фоне оленя, — важно сказал Лешка, расстегивая футляр. — Встань вон туда.
Я послушно подошел к клетке, где, высоко подняв красивую голову, стоял и грустно смотрел на меня северный олень в темно-серой теплой шубе с косматым воротником на шее.
— Сейчас установим выдержку, — говорил Веревкин, вытаскивая картонку с цифрами и надписями. — Так… Портрет на воздухе. Месяц январь. Небо облачное… Чувствительность — сто восемьдесят. Получается при полной диафрагме… одна двадцать пятая секунды.
Он высчитывал, морща белесые брови, что-то крутил на своей картонке и на аппарате, а я стоял и терпеливо ждал. Олень тоже ждал, задумчиво пожевывая мягкими губами, пофыркивая и нюхая снег.
— Готово! — сказал Лешка. — Теперь замри.
Я замер, стараясь не дышать, выпучив глаза. Веревкин приставил аппарат к глазу и велел мне отойти немного в сторону, потому что олень, оказывается, в кадр не попал. Потом он вспомнил, что не проверил какую-то глубину резкости, и снова стал что-то крутить. Наконец у него все сошлось, и он крикнул:
— Снимаю!
Затем он сфотографировал отдельно оленя и отдельно меня, причем сказал, чтобы я не пялил глаза, как верблюд, а стоял, как нормальный человек. После этого мы пошли дальше. Возле каждой клетки повторялась та же история. Лешка снимал сперва меня на фоне какого-нибудь животного, потом зверя отдельно и меня отдельно. Так и шло: я вместе с медведем, медведь сам по себе и я без медведя; я вдвоем с волком, волк без меня и я без волка…
— Вот если бы можно было тебя в клетку к тигру посадить, — мечтательно вздохнул Веревкин. — Был бы мировой кадр. Хоть прямо в стенгазету.
— Конечно, — поежившись, сказал я. — А сверху надпись: «Шестой класс „А“ с прискорбием извещает о безвременной кончине ученика Кулагина Сергея…» И вокруг черная каемка.
— Ты ничего не понимаешь, — почему-то рассердился Лешка. — Бывают комбинированные съемки. Можно снять так, будто ты вообще взорвался. Или с крыши упал… Я еще буду такими съемками заниматься.
С этого воскресенья стали мы с Лешкой Веревкиным друзьями не друзьями, а так, приятелями. Конечно, с Женькой Веревкина сравнивать было нельзя. Женька никогда ничем не хвастал, а Лешка, признаться, был порядочный хвастун. Женьку я уважал за честность и прямоту, а Веревкин любил приврать. Но зато у Женьки не было фотоаппарата, а у Лешки он был. Правда, в среду утром, встретив меня у школы, Лешка признался с огорчением, что из его снимков в зверинце ничего не вышло, потому что пленка оказалась засвеченная. Но тут же уверил меня, что в следующий раз непременно все получится. Он пообещал даже, что мы будем фотографировать вместе и он обязательно меня научит и даст самому поснимать.
Мы часто стали встречаться с Веревкиным. Он заходил ко мне домой, а я к нему. Моей матери он очень понравился. И правда, Лешка разговаривал со всеми очень вежливо; если к нему обращался кто-нибудь из старших, то обязательно вставал. Он как-то сказал мне, что его мать специально занимается с ним правилами хорошего тона. Я впервые узнал от него, что когда приходишь в гости, то нельзя, например, зевать; чихать можно только в носовой платок; не надо первым совать руку, когда здороваешься со старшими; за столом нужно сидеть прямо, не класть на стол локти, не наклоняться низко над тарелкой, жевать надо либо на правой, либо на левой стороне, а не набивать полный рот, как обезьяна. Все эти правила Лешка заучил очень здорово. Но как-то, когда мы ехали в автобусе и на одной остановке в дверь влезла старушка, Лешка нарочно отвернулся и сделал вид, будто ее не замечает, и место ей уступила какая-то девушка. Может быть, впрочем, в его правилах есть только про чихание и про то, как жевать. А о том, что старшим надо уступать в автобусе место, Лешка нечаянно не выучил. Женька-то уж, наверно, не отвернулся бы, хоть, я уверен, правил не знает.
Дома у Веревкиных все были тоже очень вежливые и аккуратные. Особенно Лешкина бабушка. Но из-за занятий фотографией у Лешки все время с ней были неприятности. То вдруг у нее пропадут все защипки для белья — они нужны Лешке, чтобы сушить пленку; то вместо соли всыпет она в суп столовую ложку закрепителя, то разобьет нечаянно какую-нибудь склянку, и Лешка начнет на нее ворчать. Но однажды, когда она вместо какой-то своей микстуры выпила Лешкин фотораствор и ей сделалось дурно, Веревкин не на шутку перепугался, побледнел и побежал, не одеваясь, в больницу — вызвать врача.
Как-то раз, когда мы с Лешкой собирали у него дома из конструктора шагающий экскаватор, почтальон принес письмо.
— Это от дяди Юры! — обрадованно сказал Лешка. — Из Хабаровска. Видишь штемпель?
На круглой печати, поставленной на марку с изображением самолета «ТУ-104», действительно можно было разобрать название города Хабаровска.
— У меня дядя, мамин брат, директор спичечной фабрики, — оживленно рассказывал Веревкин, вертя в руках конверт, глядя сквозь него на свет и даже нюхая. — Вот хорошо, если бы он приехал. Он веселый, все время шутит!.. А в позапрошлый год, помнишь, я в школьный живой уголок белку принес? Это он мне из тайги привез в подарок.
— Как ты белку принес, я помню, — кивнул я. — Мы еще тогда удивлялись, почему ты ее себе не оставил.
— Для коллектива, — веско пояснил Лешка. — Пусть общая будет. А то дома от нее спасения нету. Клетка маленькая… И опять же хлопот много: кормить надо, чистить за ней… — Веревкин вздохнул и положил конверт на край стола. — Чужие письма распечатывать нельзя, — с сожалением сказал он.
Потом Лешка рассказал, что дядя у него в Отечественную войну был командиром полка.
— Он и в гражданскую еще воевал. Партизаном был на Дальнем Востоке. Помнишь, песня такая есть:
И останутся, как в сказке,
Как маячные огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.
Конечно, я знал и помнил наизусть эту песню. Мы в школе и в пионерском лагере пели ее не раз.
— Вот дядя Юра станцию Волочаевку брал в гражданскую войну, — сказал Лешка. — Он тогда был партизаном. И Хабаровск тоже освобождал от белых. Раньше он во Владивостоке жил, а лет пять назад переехал в Хабаровск.
Хабаровск!.. Хабаровск!.. Мне показалось, что я совсем недавно где-то слышал об этом городе, кто-то в нем был, но где и когда — не мог вспомнить. Да к тому же Лешка вдруг стал меня ругать за то, что я вставил не на место поперечную планку в нашем экскаваторе, и я принялся исправлять свою ошибку.
Но когда я возвращался от Веревкина домой, мне опять вспомнилось: Хабаровск!.. Кто же там жил из моих знакомых?..
На перекрестке я почувствовал, что кто-то взял меня за рукав. Обернувшись, я увидел высокого улыбающегося юношу и не сразу узнал Володю, Светланиного брата, от которого нам влетело на Овражной улице.
— Что, не узнал? — весело спросил он. — Ну как, зажили боевые раны?
Я не понял, о каких ранах он спрашивает: о тех, которые я получил от Васькиных приятелей, или о каких-нибудь еще. А Володя продолжал расспрашивать:
— Ну, нашли учительницу? А к Купрейкину ездили? Я, между прочим, нашим ребятам в институте рассказал про ваши поиски. У нас там тоже есть любители истории. Нашлись даже такие, что позавидовали вам. Говорят, только бы не бросили искать мальчишки. Ведь могут и правда новое героическое имя открыть.
Не знаю, почему вдруг мне стало как-то неловко признаться, что мы с Женькой поссорились и если он и ищет неизвестную учительницу, то уже один, без меня. И я пробормотал что-то не слишком понятное и вразумительное.
— Смотрите, не отказывайтесь от этого дела, — сказал Володя. — Я почему-то уверен, что вы найдете. Главное — не сдаваться. Ни в коем случае не сдаваться, а искать, искать, искать.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» — промелькнул у меня в голове девиз Сани Григорьева. Да, может быть, Женька и найдет эту учительницу, может быть, в городском музее будет даже висеть ее портрет рядом с портретом Николая Иванова. Может быть!.. Вспомнит ли тогда Женька, что мы начали поиски вместе? Наверно, вспомнит, но уж, конечно, никому не скажет, что первые дома на Овражной улице мы обошли с ним вдвоем, что вместе мерзли на бревнах, вместе целый день провозились дома у старушки Ксении Феоктистовны, прибирая квартиру за каких-то неизвестных нам тимуровцев из двадцать девятой школы…
Стоп! Ксения Феоктистовна! Бабушка Ксения!.. Эго она говорила, что приехала к нам в город из Ижевска, а раньше жила в Хабаровске. Так вот почему мне вспомнилось название этого далекого города!
— Не забудьте свое обещание, — говорил между тем Володя. — Когда найдете вашу учительницу или хоть известия о ней какие-нибудь появятся, непременно зайдите рассказать.
— Мы зайдем, — кивнул я невесело. — Может, Женя один зайдет, без меня…
— А лучше бы вместе. Дружба у вас теперь еще крепче станет. Уж я-то знаю, поверь мне. Если вместе с кем-нибудь делаешь одно хорошее дело, то потом дружба с этим человеком становится крепче стали. Любую нагрузку выдержит. В любой беде не сдаст.
Он простился со мной и широко зашагал по переулку к Овражной улице. Я посмотрел ему вслед и побрел своей дорогой. Грустно и тяжело стало вдруг у меня на душе. «Крепче стали!..» Нет, что-то не стала она крепче, наша с Женькой дружба. От одной неудачи взяла и рассыпалась. Мне вспомнились объяснения отца, когда я спросил, что такое сопротивление материалов: «Чем больше материал испытывает нагрузку, тем больше он этой нагрузке сопротивляется…» А как же дружба? Чем больше нагрузки, тем она скорее разрушается? Так, что ли? И еще вспомнилось: «Дерево меньше выдержать может, чем железо, а железо — меньше, чем сталь…» А человек? Сколько же может выдержать человек? Подумаешь, сталь! Вбили себе в землю сваю, стой и поддерживай какой-нибудь мост. Свалились бы на эту сваю такие несчастья, какие иной раз выпадают человеку!..
От всех этих мыслей стало мне совсем невесело, и домой я пришел хмурый, молча поужинал и лег спать.
Назад: Глава десятая
Дальше: Глава двенадцатая

