Книга: Последняя осень. Стихотворения, письма, воспоминания современников
Назад: «Из записок об Анатолии Передрееве» Рассказ А. Передреева
Дальше: Анатолий Чечетин. «Этюды о Николае Рубцове»
Эдуард Крылов. «На первом курсе»
Какое-то время мы жили с ним в одной комнате. Стол его всегда был завален стихами, старыми и новыми, рукописными и отпечатанными на машинке. И я никак не мог понять, когда же он их пишет. Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим» стихи. Днем у него явно не было для этого времени, вечерами мы шли к кому-нибудь в гости или к нам кто-нибудь приходил. Ложились всегда поздно, и утром я видел его обычно еще спящим.
Но однажды я проснулся очень рано, в пятом часу, и вышел в коридор. Рубцов, в пальто с поднятым воротником, совершенно ушедший в себя, мерил шагами коридор. Он не сразу заметил меня, а увидев, остановил:
— Вот, послушай строчки.
И прочитал почти законченное стихотворение, которое позже стало называться «Плыть, плыть…».
Над стихами он работал всегда и везде, но лучшие его часы — это глубокая ночь и самое раннее утро. Потом он снова ложился спать. Не помню, у кого написано о Есенине, что тот в самом тяжелом состоянии мог заснуть за столом на пятнадцать — двадцать минут и проснуться совершенно трезвым. Точно так же мог Рубцов. Он был готов в любую минуту встать и начать работу.
О Рубцове порою говорят и даже пишут как о человеке характера тяжелого, вздорного, неуравновешенного, чуть ли не злого. Ссылаются при этом на различные эксцессы. Да, эксцессы были. Вспомню некоторые из них. К его близкому другу, поэту А. П., пришла девушка. Самого А. П. не было, его ждали с минуты на минуту, а пока мы, несколько человек, вполне безобидно коротали время. Один из малознакомых нам гостей вдруг начал говорить двусмысленности, а затем сделал нечто вроде попытки облапить девушку. Николай молча встал и двинул парня так, что тот рухнул на кровать, сломав пополам гитару.
Другой случай. Мой друг А. Ч. привел своего товарища специально «на Рубцова». Тогда хождения «на Рубцова» стали какой-то модой, поветрием, и Рубцов это тонко почувствовал. Именно в этот период он часто и, казалось, без всякого повода категорически отказывался читать свои стихи. Так было и на этот раз. Но товарищу, видимо, было жалко уходить, не послушав Рубцова, и он настойчиво просил его почитать. Рубцов неожиданно для всех закатил ему пощечину. Все были шокированы, потому что ни малейшего основания для этого не видели. Позже я спросил у Рубцова, зачем он это сделал.
— А пусть не ходят смотреть на меня, как в зверинец, — ответил он.
В компаниях он мог быть самым разным. То центром всеобщего внимания, то глубоким и тонким собеседником, то безудержным весельчаком, то молчаливым наблюдателем, то совершенно незаметным «неучастником».
Он был всяким, но никогда не был ни вздорным, ни злым.
О поэзии и поэтах, как ни странно, говорить он не любил. К поэзии своих друзей — Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Владимира Соколова, Глеба Горбовского — был снисходительным, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости.
Философствовать, в отличие от всех нас, он не любил, но если уж «заводился», то спорил страстно, готовый дойти хоть до кулачной драки. На жизнь стремился смотреть просто — «Звезды на небе — ночь! Солнце на небе — день!», — но сам мучился и страдал от сложностей жизни.
Преподавателю по стилистике он показал стихотворение «Осенняя песня» («Потонула во тьме отдаленная пристань. По канаве помчался — эх — осенний поток…»). Стилист стихотворение похвалил, но решительно возразил против «эх». Рубцов стал с ним спорить, но переубедить не смог.
— Как он не понимает, как не понимает, что в этом «эх» — все: и движение, и настроение. К черту стилистику, если она мешает мне выразить то, что я хочу, — сказал он сердито.
Из невообразимого хаоса бумаг на своем столе Рубцов каким-то образом выуживал необходимые ему стихи, складывал в тоненькие стопочки и разносил по редакциям журналов. Возвратясь, смеялся:
— Загадка. Берут, но всегда самые слабые. Ну почему не взять вот эти или эти — в них все-таки что-то есть.
Однажды, но это было уже не на первом курсе, он собрал книгу стихов и отнес в издательство.
— Понимаешь, — рассказывал он мне, опять же смеясь, — редактор читает мои стихи семье, друзьям, знакомым, переписывает их для себя, а издавать не хочет.
Увы, такое время было… Но я не помню, чтобы кто-нибудь смеялся так хорошо, так увлеченно, как Рубцов. Каким-то мелким, заливистым смехом. В глазах его часто мелькала хитринка — быстрая, почти неуловимая.
…Все разъехались на каникулы, и только мы с Рубцовым оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Николу. Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскрытый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускал желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов заливисто смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил. Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее в руки и тихо вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы». Тридцать восемь стихотворений. Я прочитал ее всю, и, каюсь, мне захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадям, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно (все-таки книжка вроде — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ему в глаза), и я снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.
— Вот посмотри. Хорош, правда? Дочке везу, — и он опять пустил цыпленка прыгать по полу.
Я попросил у него книжку.
— Извини, не могу. Это единственный экземпляр. Всего их было шесть.
И он рассказал мне историю появления этой книжки.
Мы стали прощаться, и он попросил меня обменяться шарфами. Я принес ему шарф в черно-белую клетку, получив взамен его темно-бордовый.
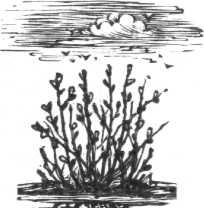
Назад: «Из записок об Анатолии Передрееве» Рассказ А. Передреева
Дальше: Анатолий Чечетин. «Этюды о Николае Рубцове»

