Книга: Большая книга мудрых притч со всего света
Назад: Муравей. Притча Ивана Андреевича Крылова
Дальше: Петух, Кот и Мышонок. Притча Ивана Ивановича Дмитриева
Человек и Конь
Притча Ивана Ивановича Дмитриева
Читатели! Хотите ль знать,
Как лошадь нам покорна стала?
Когда семья людей за лакомство считала
Коренья, желуди жевать;
Когда еще не так, как ныне,
Не знали ни карет, ни шор, ни хомутов;
На стойлах не было коней, ни лошаков,

Слепой нищий. Лоуренс Альма-Тадема. 1856 год. Художественный музей Уолтерса, Балтимор (Мэриленд)
И вольно было жить, где хочешь, всей скотине,
В те времена Олень, поссорившись с Конем,
Пырнул его рогами.
Конь был и сам с огнем,
И мог бы отплатить, да на бегу ногами
Не так проворен, как Олень;
Гоняяся за ним напрасно, стал он в пень.
Что делать? Мщение от века
Пружина важная сердец;
И Конь прибегнул наконец
К искусству человека.
А тот и рад служить: скотину он взнуздал,
Вспрыгнул к ней на спину и столько рыси дал,
Что прыткий наш Олень в минуту стал их жертвой:
Настигнут, поражен и пал пред ними мертвый.
Тогда помощника она благодарит:
«Ты мой спаситель! – говорит; —
Мне не забыть того, пока жива я буду;
А между тем… уже невмочь моей спине,
Нельзя ль сойти с меня? Пора мне в степь отсюду!»
– «Зачем же не ко мне? —
Сказал ей Человек. – В степи какой ждать холи?
А у меня живи в опрятстве и красе
И по брюхо всегда в овсе».
Увы! Что сладкий кус, когда нет милой воли!
Увидел бедный Конь и сам, что сглуповал,
Да поздно: под ярмом состарелся и пал.
Слепец, собака его и школьник
Притча Ивана Ивановича Дмитриева
Бедняк, живой пример в злосчастии смиренья,
Согбенный старостью, притом лишенный зренья,
С котомкой чрез плечо и посохом в руке,
Бродил по улицам в каком-то городке,
Питаясь именем христовым, —

Приезд институтки к слепому отцу. Василий Григорьевич Перов. 1870 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Обедом, не всегда, наверное, готовым;
Но он и в бедности сокровищем владел:
В вожатом друга он примерного имел.
Кто ж это? Брат, сестра родная
Иль просто родственник? Нет, выжлица дворная,
Которую Слепец Добрушкой называл;
Не по шерсти он ей, по свойствам имя дал.
Снурочком к поясу привязана слепцову,
Она всегда была его послушна слову;
Бежала перед ним, то глядя на него,
То вдоль по улице чутьем своим искала
Благотворителя. Не раз сама бывала
Без пищи до ночи, – все это ничего…
Терпела и молчала.
Однажды мой Слепец
Бредет с собачкой мимо школы.
Откуда ни возьмись мальчишка-удалец.
Ну теребить Слепца, трясти за обе полы,
Потом, собачку отвязав,
«Ступай, – кричит он ей, – даю тебе свободу.
К чему тебе за добрый нрав
Покорствовать уроду
И по миру ходить?
Знай нищий свой порог
У церкви, стой он там и жди,
что пошлет бог».
Добрушка слушает и к старцу только жмется,
Как будто думая: «Кто ж без меня займется
Несчастным? Нет, не разлучусь с тобой!»
«Ступай же, дурочка», – толкнув ее ногой,
Шалун еще сказал; она к земле припала
И молча на Слепца умильный взор кидала.
«Так сгинь же вместе с ним!» – повеса закричал

Заяц. Альбрехт Дюрер. 1502 год. Галерея Альбертина, Вена
И, делая прыжки, к собратьи побежал.
А нищий ощупью, дрожащею рукою
Вожатку на снурке за пояс прицепил
И благодарною кропил ее слезою.
Жестокий эгоист! А ты не раз бранил
Смиренным именем добрейшей твари в свете!
Содрогнись: ты один у басни сей в предмете.
Ружье и Заяц
Притча Ивана Ивановича Дмитриева
Трусливых наберешь немало
От скорохода до щенка;
Но Зайца никого трусливей не бывало:
Увидя он Ружье, которое лежало
В ногах у спящего стрелка,
Так испугался,
Что даже и бежать с душою не собрался,
А только сжался
И, уши на спину, моргая носом, ждет,
Что вмиг Ружье убьет.
Проходит полчаса – перун еще не грянул.
Прошел и час – перун молчит,
А Заяц веселей глядит;
Потом, поободрясь, воспрянул,
Бросает любопытный взгляд —
Прыжок вперед, прыжок назад —
И наконец к Ружью подходит.
«Так это, – говорит, – на Зайца страх наводит?
Посмотрим ближе… да оно
Как мертвое лежит, не говорит ни слова!
Ага! Хозяин спит, – так и Ружье равно
Бессильно, как лоза, без помощи другова»

Отшельник. Джон Сингер Сарджент. 1908 год. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Сказавши это, Заяц мой
В минуту стал и сам герой:
Храбрится и Ружье уж лапою толкает.
«Прочь, бедна тварь! – Ружье молчанье прерывает. —
Или не знаешь ты, что я, лишь захочу,
Сейчас тебя в ничто за дерзость преврачу?
От грома моего и Лев победоносный,
И кровожадный Тигр со трепетом бегут;
Беги и ты, зверек несносный!
Иль молнии мои тебя сожгут».
– «Не так-то строго! —
От Зайца был Ружью ответ. —
Ведь ныне умудрился свет,
И между зайцами трусливых уж не много.
Ты страшно лишь в руках стрелка, а без него —
Ты ничего».
Ничто и ты, закон! – подумает читатель, —
Когда не бодрствует, но дремлет председатель.
Пустынник и Фортуна
Притча Ивана Ивановича Дмитриева
Какой-то добрый человек,
Не чувствуя к чинам охоты,
Не зная страха, ни заботы,
Без скуки провождал свой век
С Плутархом, с лирой
И Пленирой,
Не знаю точно где, а только не у нас.
Однажды под вечер, как солнца луч погас
И мать качать дитя уже переставала,
Нечаянно к нему Фортуна в дом попала
И в двери ну стучать!
«Кто там?» – Пустынник окликает.
«Я! я!» – «Да кто, могу ли знать?»
– «Я! та, которая тебе повелевает
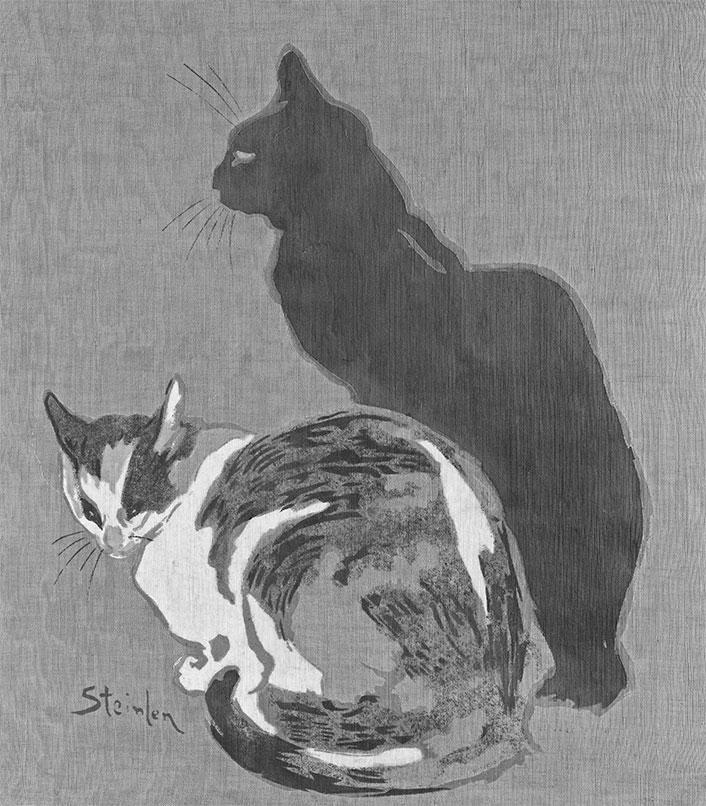
Две кошки. Теофиль-Александр Стейнлен. 1923 год
Скорее отпереть». – «Пустое!» – он сказал
И замолчал.
«Отопрешь ли? – еще Фортуна закричала. —
Я ввек ни от кого отказа не слыхала;
Пусти Фортуну ты со свитою к себе,
С Богатством, Знатью и Чинами…
Теперь известна ль я тебе?»
– «По слуху… но куда мне с вами?
Поди в другой ты дом,
А мне не поместить, ей-ей! такой содом».
– «Невежа! да пусти меня хоть с половиной,
Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжалься над судьбиной
Великолепия… оно уж чуть дышит,
Над гордой Знатностью, которая дрожит
И, стоя у порога, мерзнет;
Тронись хоть Славою, мой миленький дружок!
Еще минута, все исчезнет!..
Упрямый, дай хотя Желанью уголок!»
– «Да отвяжися ты, лихая пустомеля! —
Пустынник ей сказал. – Ну, право, не могу.
Смотри: одна и есть постеля,
И ту я для себя с Пленирой берегу».
Назад: Муравей. Притча Ивана Андреевича Крылова
Дальше: Петух, Кот и Мышонок. Притча Ивана Ивановича Дмитриева

