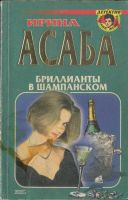Четвериков Борис Дмитриевич
Котовский
Книга 2. Эстафета жизни




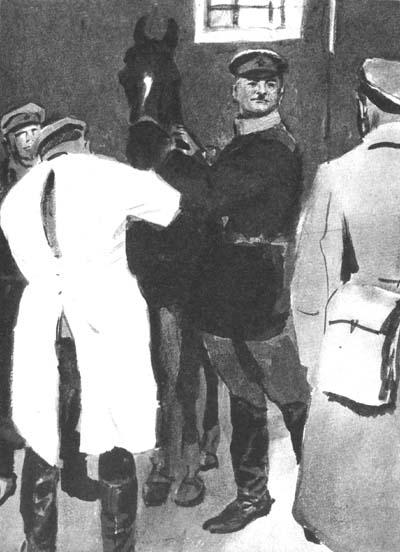

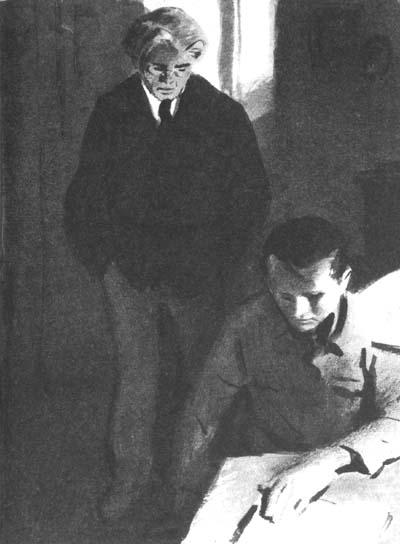
П Е Р В А Я Г Л А В А
1
Когда можно считать, что кончилась в Советской России гражданская война? Когда прозвучал последний выстрел? Самый последний, после которого действительно настала тишина?
Григорий Иванович Котовский часто размышлял об этом, перебирая в памяти отгремевшие бои, минувшие атаки, походы, треск вырвавшихся вперед пулеметных тачанок, сверкание обнаженных клинков.
Кончилась ли гражданская война в тот день, когда генерал Деникин, бросив свою разбитую армию на произвол судьбы, отплыл из Новороссийска на французском военном корабле? Это был март 1920 года. Генерал избегал смотреть в глаза своим унылым адъютантам. А французские матросы еле сдерживали смех, глядя на побитого белого генерала.
Впрочем, может быть, гражданская война прекратилась в тот день, когда в феврале 1920 года Иркутский ревком вынес смертный приговор Колчаку за измену отечеству? Тогда иркутский финотдел принял по описи 5143 ящика и 1680 мешков с золотыми слитками, которые хотел увезти с собой Колчак, прихватив это золото, видимо, на память о любимой родине.
А может быть, считать концом гражданской войны взятие Блюхером Перекопа? Или тот знаменательный день 15 ноября 1920 года, когда французский адмирал прислал на крейсер "Корнилов" барону Врангелю насмешливую радиограмму: "С почтительным приветствием желаю счастливого пути до Константинополя"? Или тот блистательный день 16 ноября 1920 года, когда командующий Южным фронтом Фрунзе телеграфировал Ленину: "Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован"?
Но пулеметные очереди продолжали прорезывать тишину, выстрелы из-за угла продолжали выхватывать из советских рядов лучших людей. Котовский при одном воспоминании о гибели боевых друзей и соратников приходил в ярость:
- Дорого вам обойдутся эти злодеяния, господа империалисты! И напрасно стараетесь. Разве можно заставить солнце не взойти над землей! Разве можно остановить половодье, замедлить приход весны!
И так щемило сердце, когда сознавал, что невозвратимы утраты, что больше никогда не придется ему увидеть светлой улыбки комиссара Христофорова, брызжущей жизнерадостности красавца Няги, рассудительного спокойствия папаши Просвирина, буйной отваги Макаренко, верности долгу многих и многих, сложивших головы в жарких схватках с врагом.
- Эх, ребятки, ребятки! - горевал Григорий Иванович. - До чего же мне жаль вашей загубленной молодой жизни! А случись начать все сначала, не задумался бы опять повести вас в бой. Зачем же и жить, если не для блага матери-родины? И разве жизнь измеряется днями? Жизнь измеряется славными делами!
Тут Григорию Ивановичу вспомнился командир полка, который сожалел, что Котовскому не удалось "отбояриться от корпуса". Котовский при одном этом воспоминании потемнел и нахмурился. Брови у него сдвинулись, глаза стали острыми.
- Леля, ты не помнишь, как звали пехотного командира, который хвастался, что у него превосходный квас приготовляют?
- Это Мосолов, что ли? - тотчас откликнулась Ольга Петровна из соседней комнаты. - Как не помнить! Он еще говорил, что вы выполнили на сто процентов заданную норму по защите революции и теперь имеете право на перекур. Мосолов это! Комполка, Павел Архипович Мосолов.
Котовский и сам помнил, что Мосолов. Но у него была такая манера: если ему человек не очень нравился, он нарочно путал, перевирал его фамилию, а то уверял, что и вовсе ее запамятовал.
- Мосолов? Ты точно помнишь? А не Мозгляков? Ишь ты! Мосолов! Приезжай, говорит, роскошным квасом угощу. Выполнили, говорит, заданную норму по защите революции. Гадость какая! Вот ведь и командир, и даже коммунист, кажется, а как рассуждает! Леля! Как это у Ленина говорится? Мелкобуржуазная стихия страшнее всяких Деникиных? Верно. Хорошо сказано! Еще кровь после гражданской войны не засохла, а этот Моргунов - или как его? - уже квас заваривает, изволите ли видеть, требует перекура! Права на перекур! Нет, голубчик Москаленко! Коммунистом нельзя быть от сих до сих, только от восьми утра до пяти пополудни, только в приемные часы. Коммунистом нужно быть всегда и во всем, в каждом поступке, в каждом помысле. Иначе ты не будешь коммунистом...
Вот тут и определи, когда кончилась гражданская война!
Ну хорошо. Управились с Петлюрой. Гонялись за бандой Грызло, истребили Гуляй-Гуленко и еще десяток-другой "гуляев". Кажется, все? Можно заняться мирным трудом? Не тут-то было!
Сгинул черный барон, но гуляет по Северной Таврии батька Махно со своим сподручным - анархистом Волиным-Эйхенбаумом. Убийства, грабежи. Вырезывает семьи советских служащих от мала до велика, не щадя ни детей, ни женщин. Нападает даже на штабы советских воинских частей. Одно за другим поступают неутешительные сведения. Вот раздеты догола и убиты двенадцать красноармейцев. Вот ограблен ветврач. Убит каптенармус, везший обмундирование. Еще и еще убийства, еще ограбления. Махновцы делают дерзкие вылазки и прячутся в балках, степях. И где ни копни - в селах, на хуторах - всюду напрятано оружие.
Помнит все передряги этой изнурительной степной войны Григорий Иванович. Задача поставлена - в кратчайший срок очистить от банд Украину. Включились в это дело 1-я Конная, 2-я Конная, 4-я армии. Хорошо поработали богучарцы. Решительно действовала Интернациональная кавалерийская бригада. Вскоре нащупали махновский отряд Каретникова. Загнанный в деревню Андреевка и окруженный со всех сторон Махно использовал небрежность как раз вот таких пентюхов вроде Мосолова и прорвался на север. Для его преследования были созданы специальные летучие отряды. Наконец Махно вынужден дать бой в районе сел Федоровка - Акимовка, разбит, и куда же ему податься? Конечно за кордон! Конечно в Париж! К своим хозяевам!
Вот вы и прикиньте! Всего лишь Махно, а возни сколько? Считать ли эти кровавые стычки продолжением гражданской войны? Считать ли, что гражданская война кончена, если в одну только Тамбовскую губернию понадобилось отправить против эсера Антонова кроме бригады котовцев отряд особого назначения, взвод батареи, полк кавалерии, полк особого назначения ВЧК, автоброневой отряд имени Петросовета...
Редко удается Григорию Ивановичу размышлять обо всем этом в одиночестве. Всегда кто-нибудь да заглянет: тот пришел за советом, этот с жалобой. Приезжали старые соратники по боевым походам. Григорий Иванович успел приглядеться к каждому. Когда он высмотрел, что у мальчика, прибившегося к бригаде еще в Тирасполе - у Кости Гарбаря, - музыкальные способности? Когда заметил, что Миша Марков ведет дневники, и составил для него план будущего? Когда решил послать командира Николая Криворучко на Военные академические курсы?
Григорий Иванович Котовский рассылал по всем направлениям своих кавалеристов. Эти по возрасту демобилизованы, так пусть разводят сады, выращивают сахарную свеклу - скоро стране будет нужно много опытных красных агрономов. Те пусть едут получать образование.
Котовский, как сеятель, разбрасывал семена, как садовник, делал прививку диким яблоням. Пусть растут люди, пусть учатся, много понадобится верных ленинцев для построения социализма.
2
Проводил он в учение и Мишу Маркова с Оксаной. Пришли они прощаться, сели на краешке стульев рядком. Оксана смущается, даже порозовела.
- Залюбоваться на вас можно! - сказала Ольга Петровна. - Такие славные ребята!
Тут уж и Марков растерялся:
- Какие мы славные? Самые обыкновенные.
- Не спорь. Да и время сейчас такое - обыкновенных нет, повывелись.
Оксана и Ольга Петровна накрывали на стол, возились по хозяйству и беседовали, причем попутно Оксана получила множество практических советов.
- Непременно учись, - говорила Ольга Петровна, протирая тарелки, сейчас вся Россия учится. Дорожи каждым часом, ничего не откладывай, чтобы после не жалеть. Кто знает, что еще будет? Всякое может быть.
Мишу Маркова увел к себе Григорий Иванович. Глянул Миша в кабинете Григория Ивановича на огромную, во всю стену географическую карту. Вот она, Советская держава, раскинулась! Дороги, дороги, куда хочешь, туда и поворачивай.
Котовский сразу поймал его пытливый взгляд.
- Хороша? - широким жестом охватил он цветные пятна губерний, голубые извилины рек, кругляшечками обозначенные города и села. - Наша!
В голосе его звучала гордость. Так хозяин показывает свои угодья леса, пасеки, пастбища.
Марков уезжал в Петроград. Он уже знал Москву, поэтому ему не так страшно было ехать в большой незнакомый город. И потом - ведь с ним Оксана!
Котовский говорил и как будто вглядывался во что-то, что еще не ясно видно:
- У капиталистов все держится на необразованности. Когда народ мало знает, его легче обманывать. Что ни набреши, всему поверят. А нашей стране нужны умные, образованные люди. Я заметил - ты пишешь дневники. Раз у человека потребность записывать мелькнувшие мысли, значит, у него писательская жилка. Учти. Писатель - это знаешь что такое? Это, брат, звание! И ответственность! И труд! Не все выдерживают, а ты выдержишь. Уж если такие походы одолел, значит, луженый, значит, силен.
Котовский задумчиво смотрел на Мишу.
- Конечно, талант нужен. Есть у нас дуболомы, воображают, что в писатели можно назначать - выдал ему направление, дал справку об уплате членских взносов, - и готов Лев Толстой. А дело-то, видать, посложнее. Тут с кондачка нельзя подходить. Вот если бы по садоводству, я бы тебе все растолковал. А насчет писательства - это пускай с тобой Крутояров опытом делится. В гражданскую он военным корреспондентом разъезжал, тогда мы с ним и познакомились. Занятный человечина. Толковый. Спрашиваю, какие курсы надо кончать, чтобы в писатели удариться? Для этого полагается, отвечает, чтобы жизнь трепала, чтобы живого места на тебе не осталось, чтобы ты сто профессий перепробовал, сто раз умирал, да не умер, и голода хватил и достатка... Я его останавливаю - не довольно ли, а он мне еще двадцать статей перебрал: и что язык свой надо так понимать, чтобы каждое слово факелом горело, и что все знать - все ремесла, все науки, всю историю, знать больше, чем все академики, вместе взятые, больше, чем лесорубы, рыбаки, охотники, сталевары, акушеры, звездоплаватели... Спрашиваю - ну а сам-то он так-таки все и знает? Все превзошел? А он мне по-латыни: scio quod nihil scio - единственное, что знаю, - что ничего не знаю. Дело, говорит, в том, что все это яйца выеденного не стоит, если нет таланта. Спрашиваю, а что такое талант? Этого никто не знает, и если, говорит, кто-нибудь будет уверять, что знает, врет, собачий сын.
- Может быть, критики знают? - робко спросил Марков.
- Критики? Едва ли.
- И вы, Григорий Иванович, не знаете? - совсем упал духом Марков.
- Ну, я-то знаю. Талант - это от большой души. Как пение птицы. Только и талант ни черта не стоит, если направлен во зло человеку. Талант предназначен, чтобы правде служить, революции. А если талант хитрит, виляет, на сторону мировой буржуазии переметнется - будь он проклят такой талант, пропади он пропадом. Понятно?
- Конечно понятно. Если, например, живет в каком-нибудь городе изобретатель. Думает-думает - и для смертной казни электрический стул изобретет...
- Вот-вот! На нем на первом и надо этот стул испробовать!
Мише Маркову пришлось по душе предложение Котовского, и он собирался еще что-то добавить остроумное, но тут раздался голос Ольги Петровны:
- Мужчины! Долго вы там будете тары-бары растабаривать? Им на поезд скоро, а я их даже еще не покормила!
Когда настал час расставания, Миша почувствовал, что у него что-то защипало в горле. И как ни храбрился, робость его охватила, так бы, кажется, бросился к мамаше котовцев Ольге Петровне и спрятался у нее, как маленький, в коленях от всех бед.
Опять - и уже в который раз! - все летело кувырком, все рушилось, ломалось. Ведь как ни воевал Миша, как ни щеголял отвагой и выправкой, в душе он все еще был юнцом и постоянно чувствовал спокойное руководство и опору, всегда знал, что рядом - Котовский, что Котовский не ошибется, Котовский выручит, Котовский - и командир, и отец родной, и начальник, и воспитатель - изберет самый правильный путь и поведет по нему.
Марков не мыслил себя вне рядов котовцев. Он вжился в этот простой и трудный солдатский уклад, стал настоящим конником и полюбил товарищей сильных, честных, отважных людей. И коня полюбил, понял его нутром, сноровкой, добился того неизъяснимого состояния, когда конь и всадник нераздельны, составляют одно целое, молниеносно принимают решение и каким-то особым чутьем избирают лучший для данного случая поступок. Овладел Марков и строевым делом - слитностью со всеми всадниками, умением по первому еле уловимому знаку начальника точно и согласованно выполнить команду. Все эти навыки стали второй натурой Маркова, его существом, плотью и кровью. Сможет ли он примениться к новым условиям? Завершалась еще одна полоса жизни, а впереди все было так неясно!
И почему это жизнь так устроена, как будто все время перебираешься в ледоход через широкую реку? Льдины плывут, сталкиваются, крошатся. Еле успеешь прыгнуть на новую льдину, как та, на которой стоял, дает трещину, расползается и исчезает бесследно в бурлящей пучине, как будто и не было ее никогда.
Давно ли это произошло, когда они с отцом с лихорадочной поспешностью собрались и ушли из дому? На всю жизнь осталось в глазах видение: в распахнутой двери силуэты двух женщин. Ветер развевает их волосы, треплет подолы. Женщины стоят неподвижно. Это мать и сестра Татьянка. Жалость, страх, смешанные с отчаянной решимостью, овладели тогда Мишей. "Прощайте! Мы уходим! Дорогая сестренка! Милая мама!" - кричало все его существо. Но они молчали - и он, и отец. И шли все дальше от дома - навстречу ветру и неизвестности.
В тот день кончилось лазоревое детство. А детство бывает только раз. В один миг разлетелось вдребезги глубокое детское убеждение, что домашний мир неподвижен, нерушим, что мама, сестренка, пятнистая кошка Марта, пыльная улица в железнодорожном поселке Кишинева и пыхающий дымогарной трубкой отец - все это установлено раз и навсегда, на вечные времена, как Птоломеева система, что все это создано специально для Миши, чтобы ему было удобно и хорошо.
Потом и с отцом разлучились. Тоже как-то внезапно. Ушел он поспешно, было даже неловко, что он уходит из отряда. Ушел - и как в воду канул. Был отец - и нет его. А вокруг все безмятежно, как будто ровным счетом ничего не случилось, как будто бы Миша не расстался с отцом, как будто бы никто и не уходил. По безучастному небу все так же плывут улыбчивые облака. Так же, как всегда, рождаются студеные рассветы, так же добрые деревья машут ветвями утомленным путникам, такие же непоседливые люди проходят и проходят мимо. А отца нет... Где он? Жив ли он? Хуже всего неизвестность. А дням какое до этого дело? Бегут как ни в чем не бывало!
Хорошо быть составной частью чего-то незыблемо прочного. Котовцы. Раз навсегда установленный уклад. Могут быть раненые, могут быть убитые, но это ничего не нарушит. Так же всегда на своем месте будет командир, так же стройны ряды, такие же будут привалы и водопои, такие же сигналы в атаку...
И вдруг теперь все изменилось, все исчезло, все растаяло, как клок дыма на пронизывающем ветру. Марков оказался один, сам по себе. Все нужно решать самому. Страшно и непривычно!
Григорий Иванович смотрит понимающими грустными глазами: разлетаются соколы!
- Адрес написан на конверте. Письмо хорошенько спрячь. Да чего там, найдешь и без адреса, не маленький. Язык до Киева доведет. Едешь ты к настоящему человеку. Писатель. Книги пишет. Неужели ты его не видел, когда он к нам приезжал? Тогда прошел слух, что бригаду расформируют, что бригада не нужна, а он после такую статьищу накатал - любо-дорого! Вознес до небес, а злопыхателей уж так раздраконил, только перья летели. Не помнишь? Небритый такой. В очках. На всякий случай запомни фамилию: Крутояров, Иван Сергеевич. А то письмо потеряешь - будешь как в лесу по Питеру бродить. Большой город, я там бывал. Знаю.
- Зачем же? Я не потеряю...
- Значит, Оксана, договорились: пиши сразу же, как доберетесь до места, - в свою очередь наказывала Ольга Петровна. - Все запомнила?
- Все, Ольга Петровна! И что улицы надо не дуже швидко переходить, сначала подывись влево, потом подывись вправо... и что домашнюю хозяйку из себя не строить, получить специальность... и что, если яйца всмятку варить, надо досчитать до ста и вынимать... и что обязательно в Эрмитаж сходить...
- Забудешь что - в письме спрашивай. Постой, хоть поцелую тебя! И тебя, Миша! Не робейте, ребята!
- Да, да! Не робеть! Не хныкать! Марш-марш! Колонна - по два! В атаку! Ура! Фамилию запомнил? Крутояров!
Миша Марков подхватил несложную поклажу, взял за руку Оксану, и они пошли.
И долго еще стояли на крыльце и махали им родные, близкие, дорогие комкор Котовский и Ольга Петровна.
Вокзал был рядом. На перроне было безлюдно.
- Как же мы теперь? - спросила Оксана, растерянно озираясь.
- Держись за меня! - ответил Миша, храбрясь. - Была команда - не хныкать. Вопросов нет?
3
Можно ли без песни побеждать? Можно ли без песни вообще жить? Песня сопровождала бойцов Котовского во всех походах. Почему-то особенно полюбилась всем русская народная песня "Скакал казак через долину". Ее пели на привале, после горячего боя, после ратных подвигов. Пели - и как рукой снимало усталость, словно после глотка студеной колодезной воды. Пели - и молодела душа, остывали горячие головы. Хорошая эта песня, она стала своеобразным гимном котовцев. Было и еще много хороших песен, так же как и много хороших, за душу хватающих голосов.
Бывало, как зальются, как уйдут в верха запевалы - будто за сердце схватят и не выпускают до последнего словечка песни.
Савелий мастер был запевать, а песен знал без счету. Каждый, кто пришел в бригаду, принес и щедрой рукой подарил всем на радость свои превосходные песни, а ведь нет больше нигде на свете таких задушевных, стройных, то задумчивых, то беспечно-удалых песен, как в нашей стране. Савелий знал песни, какие любят в пензенских деревнях, знал и раздольные волжские, и песни Приуралья. Где Савелий, там и прибаутки, и раскатистые взрывы смеха, около Савелия любят собираться.
- Запевай, Савелий, время дорого.
- Пели, пели, да есть захотели, - отговаривался Савелий, но больше для фасону, чтобы покуражиться.
- Хоть одну, дядя Савелий, еще в котлах не закипело.
- Да ну вас, что вы меня, старика, подбиваете, вон у вас молодежи сколько, покличьте Ивана...
- Ивана-а? Он поет как нищего за суму тянет! А ты у нас - райская птичка!
Савелий польщен. По его лицу видно, что выбирает, с которой песни начать. Тут уже кружок теснее собирается, все настораживаются, все готовы подхватить. А Савелий зажмурится, сморщится, а как откроет глаза - это уж другой Савелий, стряхнувший с себя все мелочи, отодвинувший все пустые заботы, Савелий - вдохновенный певец.
А все вокруг заулыбаются, лица засветятся - вот она, крылатая песня, с ней можно идти - не споткнуться, сражаться - не отступить, работать - не умаяться.
Не кокуй-ко ты, моя кукушка,
Не кокуй-ко ты, моя рябая!
заводит Савелий. И сразу дрогнет, сожмется сердце, казалось бы, и песня не печальная, а слезы навертываются на глаза - от восторга ли, от потрясения ли.
Савелию только начать. Закончил одну, наперебой заказывают другую. Сначала пристанет к пению несколько голосов, потом больше, больше. Стройный, согласный хор сливается в трехголосье:
Прощай, сторонушка родная,
Прощайте, милые друзья,
Благослови, жена, не знаю
Иду на смерть, быть может, я...
И после этой протяжной - задорная, разухабистая:
Как во поле-полюшке
Елочка стоит,
Елочка стоит
Кудреватая...
Давно уже пора на ужин. Нехотя расстаются с чародейством, с песенным волшебством. Но впереди целый вечер. А тут присоединятся к любителям пения украинцы... А кто встречал хоть одного украинца, который не знал бы множества изумительных украинских песен и не владел самым превосходным голосом? Они научили бойцов петь "Ой у лузи", "Реве та стогне", научили песне о вдове, которая "брала лук дрибненький", и о той дивчине, которая "в синях стояла, на козака моргала". А там затянут кавалеристы-молдаване свои протяжные дойны...
Из поездки в Петроград, куда ходили бить Юденича, котовцы привезли новые песни, которым научили питерские рабочие, сражавшиеся в одном с котовцами строю. Полюбилась с тех пор бойцам песня про кузнецов, чей дух молод, "Смело, товарищи, в ногу", с большим чувством, стройно и торжественно исполняли "Интернационал".
И где бы ни заводили песни, везде непременно оказывался юный пулеметчик Первого кавполка, общий любимец Костя Гарбарь.
Он старался быть достойным звания котовца. Выполнял важные поручения, пробираясь в тылы врага. Однажды попал в плен, не растерялся, бежал и принес сообщение о расположении войск белополяков, за что был награжден орденом Красного Знамени. Он уже не ограничивался тем, что подносил патроны. Он стал пулеметчиком Первого кавполка Отдельной кавалерийской бригады Котовского и участвовал во всех боях.
Но вот кончался бой, и Костя снова превращался в застенчивого паренька, со звонким голосом, удивительным слухом и впечатлительной душой. Ольга Петровна часто видела, как он слушал пение птиц, не перестававших петь даже в те грохочущие годы. Костя испытывал неизъяснимую любовь к пернатым. То он бросал крошки голубям, галкам, воробьям где-нибудь на задворках деревни, то мастерил скворечник... А когда в освобожденном от вражеской своры городе политотдел бригады проводил митинг, устраивал спектакль, тут уж никогда не обходилось без живейшего участия Кости.
Заветной мечтой Григория Ивановича было создать духовой оркестр. А время было такое, что не до оркестров, да и откуда было взять необходимые инструменты, где добыть музыкантов?
Григорий Иванович распорядился, чтобы выискали среди бойцов таких, кто умел играть на чем-нибудь.
- Пусть он хоть на балалайке "Барыню" может отколоть, - объяснял Котовский, - или даже совсем ни на чем не играет, но наклонность у него к музыке есть, слух есть!
Второй приказ - бережно собирать музыкальные инструменты, какие попадутся среди трофейного имущества.
- Что попорчено - починим. Что непригодно - выбросим, - говорил Котовский командирам полков и эскадронов. - А музыка вот как нам нужна! Музыка дух поднимает, музыка - это знаете какое великое дело! Там, где человек давно бы свалился без сил, под музыку он промарширует от востока до запада.
И ведь добился своего Григорий Иванович! Уже в двадцатом году - на что трудный год! - в бригаде появился оркестр, свой великолепный оркестр. В нем было человек четырнадцать - пятнадцать музыкантов. Когда они принимались с усердием за работу, получалось очень внушительно: стекла дрожали.
Устраивали иногда и спектакли. Обычно на спектакль приходили и местные жители, и бойцы. Перед началом оркестр играл революционные песни, особенно хорошо получалась "Варшавянка". Исполнялись также старинные марши. Начинался митинг с вопроса о текущем моменте, потом выступали ораторы по темам: "Что такое капитализм", "О бюрократизме", "За что мы боремся". После выступлений пели "Интернационал", а затем шла пьеса "Червонный огонь", или "Мартын Боруля", или "Сватанье на Гончаривцах".
Костя был одним из самых усердных участников шумового оркестра и хоровой декламации "По рельсам дней". Он старательно выговаривал:
Звуков гроза!
Враз тормоза
Грохнули, грянули,
Дрогнули, прянули
В даль! - говорят.
В путь! - говорят.
В даль! В даль! В даль!
По окончании спектакля непременно устраивались танцы, и тогда оркестр, к полному удовольствию местных красавиц, старательно отбивал такты падеспани, краковяка, играл вальсы "На сопках Маньчжурии", "Оборванные струны" и в заключение при шумном одобрении присутствующих наяривал русскую "Барыню" и украинский гопак.
Как любил свою "музыку", так он называл оркестр, Григорий Иванович Котовский! Как гордился своим детищем! Иногда он сам присоединялся к оркестрантам и играл на кларнете. Лицо его делалось серьезным, сосредоточенным. А музыкантов до того воодушевляло участие в оркестре командира, что они буквально творили чудеса. Играя на слух, они вскоре разучили попурри из оперы "Запорожец за Дунаем" и фантазию "Колосья" на темы русских народных песен.
- Слыхали? - спрашивал Котовский. - Орлы! Даже из оперы могут! Квалификация!
И тут же отдавал строгое приказание:
- Выдать музыкантам все как полагается по форме, чтобы были красавчиками, - ведь музыканты у всех на виду! А вы, музыканты, постарайтесь, чтобы ремни были всегда подтянуты, обмундирование аккуратно пригнано, чтобы трубы блестели ярче солнца! Понятно?
Затем Григорий Иванович рассудил, что оркестру не пристало ездить на разномастных лошадях. Подобрали одинаковых белых коней, один к одному, и Котовский часто проверял, хорошо ли у них расчесаны гривы, ровно ли подстрижены хвосты.
- Чтобы картинка была! Лошадь человеку - крылья! Запомните. А музыка - она поднимает человека вверх, благородные чувства рождает.
После одного концерта Григорий Иванович вызвал к себе Гарбаря, обнял его за плечи:
- Молодец, Костя! Здорово у тебя получается! А я все смотрел-смотрел на тебя и думал - а ведь у парня талант, у парня музыкальные способности обнаружились, нельзя, думаю, зарывать в землю талант, довольно стыдно будет зарывать талант!
Костя слушал, похвалы ему нравились, но дальнейшие слова командира заставили его насторожиться.
- Так вот, Костя. Я все взвесил, все обдумал и считаю, что настало время тебя в люди выводить.
"В какие люди? - встревожился Костя. - Разве может быть на свете более почетное место, чем бригада Котовского, дивизия Котовского, кавалерийский корпус Котовского?"
- Мы должны, - продолжал Котовский, ласково разглядывая Костю, любуясь им, - мы обязаны помочь тебе стать хорошим, образованным музыкантом - таким, чтобы ты вполне изучил это дело. Что говорить, приятно послушать "На сопках Маньчжурии", хорошо этот вальс звучит, любят его. Но это еще узенькая тропинка у подножия высоченных утесов. Давай, Константин Андреевич, брать неприступные выси, крутые подъемы. Ты мой питомец, и я позабочусь, чтобы ты серьезно занялся музыкой, чтобы ты стал настоящим музыкантом.
Этот разговор расстроил Костю. Не подшутил ли над ним командир? Не мог же он на самом деле посоветовать учиться музыке? И кому посоветовать? Пулеметчику! Бойцу, прошедшему все военные дороги! Коннику Котовского!
И назавтра Костя размышлял о странных речах командира:
"Главное, еще называет меня по имени-отчеству! Никто еще никогда не называл меня так!"
Думал, думал, да и позабыл об этом разговоре. Вдруг вызывают в штаб.
Явился. Порядок знает.
А в штабе ему сообщают, что по приказу командира корпуса Константина Гарбаря переводят в музыкантскую команду.
Кровь прилила к щекам Кости. Он почувствовал себя оскорбленным, униженным, как будто его ударили по лицу.
Выскочил из штаба и даже не может сообразить, в какую сторону ему надо. В музыкантскую команду! Его, строевика! Его, бесстрашного пулеметчика! Да за что же это, за какую провинность? Что он, обозник какой-нибудь, тыловик, чтобы его в музыкантскую команду зачислять?!
В полном расстройстве чувств, весь опустошенный, окаменевший, шагал Константин Гарбарь по улице. Удар казался ему тем более болезненным, что исходил от обожаемого командира, которому он беспредельно верил.
Хорошо же! Он службу знает. Приказ есть приказ, и надо его выполнять.
Явился, как полагается, к краскому Сорокину и отрапортовал четко, бесстрастным голосом, что "прибыл в ваше распоряжение такой-то, такой-то боец-пулеметчик Первого кавполка". Отрапортовал, но голос зазвенел и осекся, подступили непрошеные слезы. Это привело в еще большее отчаяние: не хватает, чтобы разревелся, как мальчишка!
Но встретил ласковые, умные, чуть улыбающиеся, все понимающие глаза капельмейстера полка Ивана Дмитриевича Сорокина. Казалось, он проникает в самые сокровенные мысли, участливо расспрашивая Костю о его родных, о его детстве, рассказывая о себе:
- Вы знаете, Гарбарь, мне так посчастливилось: окончил в Петрограде класс военных капельмейстеров и получил назначение в такую прославленную воинскую часть! Я повстречал здесь истинных ценителей музыки. Впрочем, музыку нельзя не любить. Мне очень понятны слова гениального Глинки: "Музыка - душа моя". Как это верно!
Сначала Гарбарь слушал капельмейстера насупясь. Очень боялся, что его начнут утешать или уговаривать. Но Иван Дмитриевич был чуткий человек. Главное, он на самом деле любил музыку самозабвенно, даже исступленно, и невольно заражал этой любовью других. Вместе с тем он был застенчив и скромен до чрезвычайности. Скажи ему кто-нибудь, что он человек большой культуры, что он редкостный знаток музыки, особенно русской, - Иван Дмитриевич переполошился бы, замахал руками:
- Да ну вас совсем! Какой я знаток! Какая там культура!
Прошло немного времени, и Гарбарь перестал стыдиться своего нового назначения, понял, что не зря Котовский откомандировал его в музыкантскую команду. Теперь Константин Гарбарь недоумевал, как он мог обидеться на то, что его сделали избранником, поверили в его талант?
Начались настойчивые, упорные занятия. Сорокин учил Костю игре на трубе. Он был требователен, не довольствовался малым, не любил делать кое-как, лишь бы что-нибудь получалось. Он хотел, чтобы музыкант не только овладел инструментом, но и глубоко знал свое дело. Поэтому старался привить любовь к музыке, к народной песне, стремился расширить кругозор оркестрантов. Костя узнал от учителя множество таких вещей, о каких раньше не имел и понятия. Костя занимался элементарной теорией, изучал историю музыки. И удивлялся: как же он мог жить, ничего этого не зная?
- Давно известно: с тех пор как возникло различие между скотом и человеком, - надо быть человеком, а не скотом, - говаривал Иван Дмитриевич. - Но если кто-нибудь упрямится? Мне, товарищи, крепко запомнилось чье-то утверждение, что только для злых людей не существует песни. На самом-то деле, ну как же без песни? Вы только подумайте! Наши лучшие люди - революционеры, большевики - уж, кажется, боролись, рисковали жизнью, томились в тюрьме - вроде бы не до песен. Ан нет! Я близко знаком с одним человеком, он вместе с Лениным, в тех же краях отбывал ссылку. Так он рассказывал: только соберутся, бывало, вместе, там, в сибирской глуши, непременно поют. Поют "Смело, товарищи, в ногу", "Замучен тяжелой неволей", "Вихри враждебные"... Это так естественно и понятно: песня душу возвышает, песня крылья дает! Кстати, знаете ли вы, кто песню "Смело, товарищи, в ногу" написал? Не знаете? Так я вам расскажу. Она написана в Бутырской тюрьме, написал ее Леонид Петрович Радин, а исполнена она была впервые самими политическими, когда их вывели из Бутырки, отправляя в этап. Да, друзья, песня - это великое дело. И какие прекрасные песни создал наш народ!
Иван Дмитриевич смущенно замолк.
- Извините меня, пожалуйста. Я немного увлекся. Но ведь есть вещи, о которых нельзя спокойно говорить. Продолжим занятия.
Но извинялся он напрасно. Слушали его всегда с удовольствием. За короткое время оркестранты поняли своего учителя и привязались к нему. "Красный маэстро" - любовно называли его.
А Костя Гарбарь вступил в волшебный мир чудес. Что ни день - новые откровения. Все наводило на размышления, все изумляло, заставляло по-новому смотреть не только на музыку - на всю жизнь. Все повергало в трепет и смятение. Ведь у Кости фактически не было детства. Сразу солдат, партизан, сразу - бои, трудные переходы. Все сразу, вдруг, без интервалов, без постепенных перемен. И учиться не оставалось времени. Теперь приходилось наверстывать.
И Костя нажимал. Хлынули в его сознание широким потоком самые разнообразные факты, обобщения, теории. И все необходимо было усвоить. А чего можно достигнуть без труда?
Костя целый день ходил как в тумане, узнав, что Петр Ильич Чайковский за двадцать восемь лет композиторской деятельности создал 76 опусов, 10 опер, 3 балета. Да кажется, чтобы написать одну такую оперу, и то не хватит самой длинной человеческой жизни! И легко сказать: опус. Чего стоят такие "опусы", как шесть симфоний! А концерты?!
Когда Костя, поехав с Иваном Дмитриевичем в Москву, впервые услышал музыку Чайковского в отличном исполнении, он даже заболел. Это было настоящее потрясение. Были они на опере "Евгений Онегин". Костя не поверил Ивану Дмитриевичу, что "Евгений Онегин" только через пять лет после создания попал на большую сцену, что "Руслан" Глинки после первой же постановки был снят с репертуара на пятнадцать лет, что "Каменный гость" Даргомыжского был встречен враждебно и публикой и критикой и тоже снят с репертуара, что так же не повезло и "Борису Годунову"... Все это Костя слушал недоуменно.
Он был зачарован, он бредил музыкальными образами, мелодиями. Иван Дмитриевич, счастливый, что его ученик так жадно впитывает впечатления, рассказывал о "могучей кучке", о том, что Алябьев написал более ста романсов, Варламов - более двухсот пятидесяти и что многие романсы Глинки устарели из-за безвкусных текстов. Иван Дмитриевич рассказывал и сам то и дело напевал. Или подбегал к пианино и наигрывал отрывки из арий, романсов... И трудно сказать, кто больше увлекался - учитель или ученик.
Так вот и шли дни. И шла учеба. И складывались определенные вкусы, определенные взгляды. Константин Гарбарь становился взрослым. А Котовский, оказывается, глаз с него не спускал, был в курсе всех его переживаний и успехов.
Котовский не только сам присутствовал на концертах и слушал выступления духового оркестра, давно уже перешедшего от незамысловатых полечек к исполнению серьезных вещей. Котовский настоял на том, чтобы послушали его "музыку" Михаил Васильевич Фрунзе и Александр Ильич Егоров. Котовский знал, что Егоров женат на пианистке и сам отлично разбирается в музыке. Во Фрунзе Котовский ценил опытного полководца, образованного марксиста, но знал также о его пристрастии к литературе, о его дружбе с Фурмановым, о его любви к пению.
В этот вечер оркестранты страшно волновались. Начиная концерт, их красный маэстро, бледный, с выступившими каплями пота на лбу, прошептал:
- Ну, ребятки, не подкачайте! Сегодня у нас такие слушатели... Душу выверните, но покажите, на что вы способны!
Концерт понравился. Фрунзе задумчиво сказал:
- Какие неисчерпаемые запасы вдохновения таятся в народе! И какая же прекрасная жизнь будет на земле, когда коммунистическое общество даст возможность каждому выявить все свои способности, всю красоту души!
Егоров, прищурясь, молча слушал, что говорит Фрунзе. И только после долгой паузы вздохнул:
- Казалось бы, отвоевали - и дыши полной грудью. Так нет же, и сейчас не затихают бои. Я сужу по своей работе в Коллегии военной промышленности. Ох трудно! Это вам не шашки вон, в атаку марш! Там враг виден сразу - вот он весь, руби. Здесь его нужно еще распознать, еще решить, как с ним поступить дальше, действовать ли убеждениями или гнать взашей. Сложное время.
Все трое - Котовский, Фрунзе и Егоров - стояли возле самого оркестра. Фрунзе был коренаст и внушителен, широкоплечий Егоров с открытым русским лицом был ему под стать, а Котовский, словно отлитый из бронзы, складный и сразу привлекающий к себе внимание, дополнял эту живописную группу.
Вскоре после этого памятного для Гарбаря дня его вызвал Котовский.
- Поздравляю, товарищ музыкант! - воскликнул Котовский, как только Гарбарь появился в дверях. - Теперь перед тобой будет открыта широкая дорога. Иди и не робей! Отправляем тебя в Москву, все уже согласовано и утрясено. Будешь слушателем военно-капельмейстерского класса. Дальше сам посмотришь, что и как. Мой же наказ один: всегда находись в гуще сражений!
4
Что касается Савелия Кожевникова, то тут вопрос был ясным. Савелий благополучно добрался до своей Уклеевки - деревни на шестьдесят дворов, раскинувшихся на косогоре.
Это случилось в феврале, а февраль - бокогрей, широкие дороги, он предчувствует весну, солнечные деньки, цветущее раздолье. Встретили Савелия с почетом: герой! Ни одной избы не миновал Савелий, у всех откушал хлеба-соли. И все приговаривал:
- Наша кобылка ни одних ворот мимо не проедет, все заворачивает!
А кругом братья да сватья, одни близкие, другие дальние родственники, что называется, нашему огороду двоюродный плетень. Блинами потчуют. Савелий давно блинов не едал, но знает, как макать блины в сметану:
- Где блины, там и мы! Накладывай!
Однако видит: живет народ не густо. Совсем разорен, землю-то засеяли осколками да минами - пустырь! Все надо начинать сначала. Спасибо товарищу Ленину: продразверстку заменил справедливым натуральным налогом. А то отощали до последней крайности: день не варим, два не варим, день погодим да опять не варим. И это где? В Пензе, испокон веку славившейся урожаями! Где яблони и вишни цветут!
Савелий за годы скитаний чудес наслышался, повидал жизнь. Рассказывает землякам:
- Теперь все по-новому будет. Не так, как в старину, все по приметам да на глазок: ранний сев ярового начинали с Юрия, средний - с Николы, поздний - с Ивана, огурцы сажали на Леонтия-огуречника, а овес полагалось сеять, когда босая нога на пашне не зябнет. Или взять, к примеру, садовое дело. В наших краях выходили в полночь потрясти яблони - это считалось для пользы урожая. А какая в том польза? Дело будет вернее, коли руки приложить, а поработаешь до поту - так и поешь в охоту, и будет чего поесть.
Правильно рассуждал Савелий, одного не учел: безлошадной стала Пензенщина. А без лошади какое хозяйство? Слыхать, тракторы будут выданы, а до той поры хоть пропадай.
И вот надумал Савелий написать Котовскому, слезно просить о подмоге.
"Дорогой отец и товарищ командир! - писал Савелий. - Вел ты нас в бой, учил побеждать, а теперь пришло время одерживать победы над недородом. Мелка река, да круты берега. Ответишь отказом - не обижусь, а только вся надежда на тебя. Мы знаем, что всегда ты откликался на людское горе. Без коня, сам знаешь, трудно поправиться. На чужом коне в гости не ездят, а без коня и одной борозды не проведешь. После полного разорения мы вроде как погорельцы..."
Письмо было обстоятельное. Савелий рассказывал о всех деревенских делах, полный отчет представил своему любимому командиру. Сообщил, что межи в Уклеевке уничтожили, хозяевать будут по-социалистически, что отстраиваются, и лес в сельсовете уже отпущен, и что он, Савелий, по поручению схода передает красному командиру революционный привет.
Много писем приходило в Умань командиру корпуса. Писали со всех концов и по самым разнообразным поводам. Бывшие бойцы и командиры бригады просили взять их обратно в корпус. Обращались и с другими просьбами. Один хлопотал, чтобы ему поставили протез. Другой благодарил за материальную поддержку. Писали Котовскому с большой любовью, были трогательны и искренни их обращения к "дорогому, незабвенному нашему папаше, командиру славного 2-го кавкорпуса".
Ни одно письмо не оставалось без ответа, ни одна просьба не оставалась неудовлетворенной. Ольга Петровна не раз слышала, как Котовский наказывал:
- Командир - воспитатель своей части, он служит примером для массы не только на службе, но и в личной жизни. На нас смотрит народ.
Ольга Петровна думала:
"Эти слова следовало бы поместить в служебном кабинете каждого начальника, каждого командира, каждого руководителя - все равно, на военной он службе или на гражданской".
Не раз Ольга Петровна замечала, что высказывания Григория Ивановича содержат ценные мысли. Вот только нет времени записывать. А жаль. Особенностью Котовского было умение схватывать самое основное.
"Может быть, - думала Ольга Петровна, - сказывается привычка давать команду - команда должна быть предельно ясна и лаконична. Может быть, играет роль и то обстоятельство, что он всегда с народом, с простыми, простосердечными людьми. С ними нельзя хитрить, нельзя говорить уклончиво, туманно. С ними либо молчи, либо руби правду-матку".
Получив письмо от уклеевского председателя, Котовский тотчас справился, нет ли в корпусе лошадей, ставших непригодными к боевой службе. Такие лошади нашлись.
- Если нашлись лошади, - решил Котовский, - то должно найтись и зерно "Рассвету" для посева!
Савелию сообщили, что он может приезжать за подарком. Он приоделся, расчесал бороду и приехал важный, представительный, в сопровождении приемочной комиссии, состоящей всего из двух человек, как он отрекомендовал их, - два брата Кондрата.
От зерна долго отказывался, а когда уломали, стал вымерять, прежде чем дать расписку в получении:
- Без меры и лаптя не сплетешь.
Григорий Иванович пригласил всех к обеду. Тут опять пошли савельевские побасенки да прибаутки - одна другой занятнее. Усаживаясь за стол, он заявил, что, сколько ложка ни хлебай, не разберет вкуса пищи. А когда его земляки стали из вежливости отказываться, Савелий посоветовал:
- Не поглядев на пирог, не говори, что сыт.
Но прибаутки прибаутками, а о делах успел поговорить и горячо благодарил за помощь.
Котовскому было приятно видеть, как человек стал иным только потому, что при своем основном деле. Повадки другие, сознание, что отныне положение уравнялось: Котовский над корпусом, а он, Савелий, над урожаем командир.
Однако за степенностью просвечивали, как солнечные зайчики сквозь облачную хмурь, прочная любовь и уважение.
- Теперь уж вы к нам наведайтесь, - говорил он, - не погнушайтесь. Не все такая сермяжная жизнь будет, ужо поправимся. Кабы не проклятая война, давно бы расцвела Расеюшка лазоревым цветом на свободе.
А потом как бы по секрету добавил:
- Мое соображение такое: они, подлюки, - те, кто с интервенцией лезет, - для того нас и ворошат, для того нас и от дела отрывают, чтобы после Советскую власть охаять: вот, мол, глядите, люди добрые, ничего у них из социализму этого не получается! Ай неправильно говорю? Скажи?
- Не пройдет у них этот номер! - жестко ответил Котовский. - Мы пушечки-то приготовим, чтобы не повадно было нос к нам совать.
- Это-то да! Свинье в огороде одна честь - полено...
- Пушечки приготовим, а тем временем и по хозяйству сообразим. Такая расчудесная жизнь у нас пойдет, что любому-каждому станет ясно - вот какое устройство надобно для всех на земле. А что капиталисты злобятся - так им на роду это писано.
- Всю ночь собака на луну пролаяла, а луне и невдомек, - поддакивал Савелий.
- Луна далеко, а мы и близко, да не укусишь.
Погрузили в вагоны лошадей, которых корпус передавал коллективу "Рассвет". Савелий распрощался, прослезился напоследок:
- Многих ты человеком сделал, дорогой наш командир! Ох многих!
Забрался в вагон, вспомнил что-то и выпрыгнул снова на платформу.
- А что, правда или нет, будто международная буржуазия жалуется: большие, дескать, убытки понесли они в России, что, дескать, очень это им обидно?
- Пишут, восемь миллиардов всадили.
- Еще бы немного - вся Россия - фьють?
- Вроде того.
- Плачутся?
И наклонясь к самому уху командира корпуса:
- Когда волк примется хныкать, жаловаться на горькую волчью судьбу и проливать горючие слезы, держись подальше от волчьей пасти, не заслушайся смотри, сожрет!
- Знаю! - отозвался Котовский. - Я это хорошо знаю!
Савелий с минуту смотрел ему в лицо и, видимо вполне успокоенный и удовлетворенный, снова полез в вагон.
Поезд все не трогался. Савелий подошел к окну. Котовский смотрел на пензенского чудодея, любовался и гордился им.
"Какая цельная натура! Какое сердце! - думал он, улыбаясь. - Кабы не уймища обязанностей, кабы не корпус, не все заботы и неотложные хлопоты махнул бы с ним в деревню и работал бы агрономом! Вот бы свеклищу вырастили! Вот бы поставляли государству хлеба! Такие бы дела заворачивали, что любо-дорого посмотреть, что небу жарко бы стало!"
Савелий как будто догадался, о чем думка у его командира, крикнул из окна:
- Благодать у нас в Уклеевке! Греча цветет! Эх, командир, нам бы с тобой вместях действовать! Ведь земля - она памятная, она благодарственная, она на ласковое слово сторицею воздает. Ты не обижайся на меня, старого болтуна. Любя я! Разве не понимаю, что ты птица большого полета? Очень даже понимаю и чувствую!
Как бы одобрительно отзываясь на слова Савелия, раскатисто закричал паровоз:
- Ого-го-о!
Вагон качнулся, лязгнул и двинулся.
В Т О Р А Я Г Л А В А
1
Тишина... Полная тишина. Советская страна занята мирным трудом: исправляет взорванные мосты, очищает пашни от осколков снарядов. По железным дорогам снова должны мчаться нарядные поезда, на полях снова должны колоситься золотые урожаи.
Россия в эти дни походила на жилище, в котором только что похозяйничала шайка грабителей. Все перепортила, переломала, что могла, разворовала, разграбила и ушла с мешками награбленного, перешагнув через лужи крови, стынущие у порога. Что и говорить, добыча была богатая. В Архангельске передрались из-за складов льна. Англичане ухватили больше, чем американцы. На Кавказе вывезли всю нефть, в Черном море угнали все корабли. Японцы грузили на свои суда что попало: каменный уголь, лес, ценные меха... Ничем не брезговали.
К 1920 году уровень экономики России был низведен до уровня экономики царской России второй половины девятнадцатого столетия.
- Вот с чего приходилось начинать.
Тишина была обманчивой! Коварной была тишина! Правда, уже никто не засылал войска на нашу землю, не выгружал оружие в наших портах. Но там, за рубежом, отливали новые пушки, готовя нападение на Страну Советов, разрабатывали новые планы, вынашивали новые заговоры.
"Русский Рокфеллер", как называли его в парижской прессе, известный в коммерческих кругах фабрикант Рябинин был одним из тех, кто создал в 1920 году в Париже Русский торговый, финансовый и промышленный комитет, так называемый Торгпром. В Торгпром входили бежавшие из России банкиры, промышленники, нефтяные короли. Торгпром располагал огромными средствами. И хотя он объявил, что будет бороться с большевиками на экономическом фронте, на самом деле отнюдь не ограничивался одним экономическим фронтом, участвуя в любом мероприятии, направленном против красной Москвы.
Живя в Париже, Рябинин подчеркнуто говорил только на русском языке, хотя владел и французским, и английским, и немецким. Будучи вхож в самые аристократические круги эмиграции, он с нарочитой грубостью заявлял:
- Вы тут, поди, только по-французски? Ножкой шаркаете? Вот и прошаркали матушку-Россию.
Рябинин - что греха таить - недолюбливал французов, недолюбливал Америку, уверял, что американцы - даже не нация, а так, какое-то ассорти. Но больше всего ненавидел немцев. Считая, что он так богат, что может позволить себе не стесняться в выражениях, Рябинин бранил всех, но упрямо доказывал, что русские правители, русские "хозяева жизни", как он называл, - превосходные, достойные люди. Ведь Рябинин не терял надежды, что в России еще вернутся старые порядки, что Рябинин России еще понадобится.
На званом ужине у какой-нибудь графини Потоцкой или княгини Долгоруковой Рябинин любил произносить длинные тосты. С бокалом шампанского в руках он ораторствовал и не обращал внимания, что кое-кто из присутствующих пожимает плечами. Если это скучно и неинтересно хорошенькой дочке княгини Долгоруковой, то найдутся и серьезные люди... Пусть послушают! Это им полезно!
- Коммунистические ораторы, - пускался в рассуждения Рябинин, уверяют, что все мы дураки. Царь у них болван, министры - кретины, помещики ходят с плетками и лупят крестьян. Для темного народа это, может быть, лестно, что все дураки, а посему - бей буржуазею, товаришши, ура. Но, господа, неверно же это! Вот недалеко от меня сидит Феликс Феликсович Юсупов. Нуждается ли он в ликвидации неграмотности? Да он Оксфордский университет окончил! Вот мы и объединили в Торгпроме наши капиталы и наши сердца, чтобы вернуть Россию, сбившуюся с дороги, на правильный путь - на путь капитализма!
Рябинин говорил на эти темы всюду, где только бывал. Ему казалось, что этим он поддерживает затухающую надежду русской эмиграции. Но Рябинин не ограничивался одними словами. Недаром он встречался с некими весьма подозрительными субъектами, вроде известного главаря русских эсеров Сальникова, недаром заседал на конференциях различных обществ, комитетов, совещался с председателем Русско-Азиатского банка Путиловым, прикидывавшимся этаким рязанским мужичком, со знаменитым миллиардером худощавым брюнетом Жоржем Манделем, который известен всему миру как Ротшильд, наконец, бывал даже в таких организациях, как кутеповский "Союз галлиполийцев"...
Вся жизнь Рябинина была посвящена одному: борьбе с непонятным, новым и ненавистным, имя чему - коммунизм.
2
Десятый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков) не успел начать своей работы, как пришло сообщение из Петрограда: в Кронштадте поднят мятеж, на город наведены жерла орудий.
Остров Котлин, где находится Кронштадт, с давних пор называли "орешком", который не раскусишь. Остров расположен в двадцати четырех верстах от дельты Невы, в восемнадцати верстах от порта Терриоки. Заговорщики удачно использовали момент. Они выступили, когда сильно поредели старые кадры моряков, ушедших защищать завоевания революции. На смену им во флот попало немало так называемых "жоржиков" и "клешников" самой разношерстной братвы, которую нетрудно подбить на любую авантюру.
В целом план восстания был разработан опытными людьми. Вдохновителями являлись, как выражаются в дипломатическом мире, "некоторые иностранные государства", руководителями - обиженные на революцию царские военные, а подстрекателями - все те же меньшевики и эсеры. Лозунги подобрали подходящие: "Советы без коммунистов", "За свободную торговлю", "Власть Советам, а не партиям". И газеты капиталистических стран кричали, что это не мятеж, это народная революция.
Как оживились некоторые правители, которые места себе не находили со дня установления Советской власти! Как зашевелились эмигрантские круги! Кое-кто распределял уже министерские посты... Торгпром прислал из Парижа два миллиона финских марок, считая, что на такое дело денег не жалко. Проявил трогательную заботу и французский посол в Финляндии. Ведь изменники родины подняли оружие во славу иностранных торгашей, зарившихся на русскую нефть, на русские леса, на русское золото. Иностранцам было глубоко безразлично, кто будет управлять Россией в случае переворота: немудрый царь или плохонький президент, лишь бы они слушались и давали потачку "деловым людям".
Известие о Кронштадтском мятеже не вызвало растерянности у депутатов Десятого съезда: не впервые приходится отражать вылазки врага. По предложению Ленина для ликвидации мятежа были немедленно направлены в Петроград триста депутатов съезда.
Весна в 1921 году была поздняя. В марте на московских улицах было еще совсем по-зимнему. Но Петроград встретил сырыми туманами, коварной оттепелью.
Делегаты съезда спокойно и решительно приступили к делу. План был разработан еще в Москве. Совещания проходили также в пути, в вагонах. Этим людям казалось, что они не предпринимают ничего необычного, невероятного. Надо штурмовать. А как штурмовать? Только по льду. Выбора-то нет! И никому из них даже в голову не пришло, что подобный штурм многими был бы сочтен немыслимым.
Да, они шли по тающему льду Финского залива на штурм неприступной Кронштадтской крепости, расположенной на острове и, казалось бы, недоступной для сухопутных сил. Они шли по тающему льду на штурм крепостных бастионов острова Котлин - эти неистовые большевики! Они были, видимо, из той породы, о которой гласила надпись на медали, выбитой при Петре в честь славной победы над шведской эскадрой: "Небывалое бывает".
Да, они шли по тающему льду... Иногда лед проваливался. По наступающим били из орудий, били наугад, ночная тьма не позволяла вести прицельный огонь, а те, кто наступали, облачились в белые маскировочные халаты и двигались одновременно с нескольких направлений: от Ораниенбаума, от Красной Горки, от Сестрорецка, от устья Невы.
Когда снаряду все-таки удавалось попасть в цель и два-три человека исчезали в пробоине, те, кто шли рядом, смыкались, и цепь неуклонно двигалась дальше.
Восемнадцатого марта над Кронштадтской крепостью снова взвился красный флаг. Делегаты съезда, петроградские коммунисты, курсанты военных училищ, красноармейцы 501-го Рогожского полка, 499-го Лефортовского полка, славные участники боев с колчаковской армией и еще многие участники этого штурма, может быть, сами себе не верили, что могли совершить такие чудеса.
3
В дни Кронштадтского мятежа одним из первых прибыл в Гельсингфорс хлопотливый, непоседливый американский резидент Гарри Петерсон. Он за последнее время осунулся, почернел, движения его стали порывистей, скулы острей, голос резче: и борьба, которой он посвятил жизнь, - борьба против Советской России, - пока не давала никаких результатов, и в личной жизни полная неразбериха.
Гарри помнил наперечет все мероприятия, затеваемые за последние годы для уничтожения коммунизма. Нельзя сказать, чтобы эти заговоры, военные походы и восстания были бездарны, непродуманны. Нет! В них было вложено немало тонкого расчета и кругленьких сумм. Разве не достаточно популярны были Керенский и Краснов, и разве плохо их финансировали? А монархическая организация Пуришкевича?
Гарри даже оживился, и нечто, отдаленно похожее на улыбку, появилось на его невыразительном одеревенелом лице.
"Клянусь предками, неплохо было задумано: громить винные склады и, так сказать, на базе "рашен водка" произвести государственный переворот! Картинно! Помнится, эта организация носила вполне приличное название "Русское собрание" - ничуть не хуже других. Кстати, ведь это Пуришкевич придумал во времена Николая Второго "Союз русского народа", который был в действительности "Союзом против русского народа"? Тот же Пуришкевич!"
Петерсон горько призадумался:
"Олл райт! Краснов... Пуришкевич... А какие результаты? Краснов арестован, отпущен под честное генеральское слово, и слова не сдержал. А Керенский? Этот старый дурак удрал, переодевшись - с этакой-то мордой! - в женское платье. Пуришкевича тоже поймали, он прятался в кухне, напялив на себя поварской колпак. И что у них за пристрастие к переодеваниям?"
Гарри откусывает кончик сигары и выплевывает его.
"Какие же выводы? Пункт А: белые вожди не популярны. Пункт Б: использование наемных убийц и ничем не брезгующих проходимцев - лучший способ поддержать пошатнувшийся престиж".
Гарри Петерсон самодовольно ухмыльнулся, очевидно вспомнив кое-какие моменты из собственной практики: может быть, убийцу Урицкого Канегиссера, может быть, выстрелы в Ленина террористки Фанни Каплан... может быть, банды, которые он перебрасывал через границу в Советскую Россию, или предстоящую посылку в Россию полковника Свежинского с заданием убить Ленина.
Так размышлял Гарри Петерсон, скучая в чистеньком номере гельсингфорсской гостиницы, помещавшейся на главной улице - Эспланаде, и поджидая вестей из Кронштадта, где вот уже сутки шло сражение.
Когда надоело торчать в номере, Гарри вышел прогуляться. Погода была отвратительная, с моря дул пронизывающий ветер, налетая какими-то шквалами. Памятник Рунебергу, мокрый и унылый, тускло поблескивал на пьедестале. Прохожие быстро шли по панели в резиновых плащах или с зонтиками, вот-вот готовыми вырваться из рук и взмыть в безнадежно-серое непроглядное небо.
Продрогнув, Петерсон вернулся назад. Город ему не нравился, погода не нравилась, все раздражало. Прошел в ресторан, с неприязнью оглядел пустующие столики и потребовал бутылку вермута. Придрался к чему-то и сделал замечание официанту. Пить расхотелось, вернулся в номер, лег на диван, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, не относящемся к делу, о чем-нибудь игривом, легкомысленном. Но ничего такого не приходило в голову.
"Я правильно сделал, что включился в кронштадтское мероприятие. Тут пахнет жареным, и надо держать ухо востро, мигом кто-нибудь перехватит самые жирные куски. И в Архангельске, когда там высаживался десант, и в грандиозной ставке на Колчака, и в Одессе - всюду только и гляди, что утянут пол-России из-под носа. Вот и приходилось следить друг за другом, а при случае и подставлять ножку. Где высадились на русский берег французы, немедленно появлялись англичане и американцы, а уж в Омск - кто только туда не понаехал в ожидании дележки! Даже захудалая Турция, даже невесть кто! Все так и не сводили глаз один с другого и правильно делали: никому не хотелось опоздать к пирогу и получить пригорелую горбушку. А как же? Не каждый день представляется случай заглатывать такой лакомый кусочек, как Сибирь! Шуточка сказать - Сибирь! Мигом бы освоили. Разве приятно смотреть Соединенным Штатам, как расхватали подоспевшие раньше пираты всю Африку, Азию - со всеми их алмазами и золотыми россыпями, со всеми бананами, черт их побери! Кто только не нажился! И французы, и англичане, даже, прости господи, голландцы, чтоб им было пусто с их голландским сыром, даже эта мелкоплавающая инфузория Бельгия... А тут - Сибирь... Всемилостивый бог! Мигом бы синдикаты, тресты... Местное население к чертям собачьим... Голова кружится, как подумаешь, какие перспективы намечались! И все шло успешно до самого этого города с трудным названием... как его? Бу-гу-руслан. А потом... Всем известно, что было потом. Хотел бы я посмотреть, что это за птица - этот красный полководец с трудной фамилией... как его? Фр... Фрунзе. Откуда он только взялся?"
4
Размышления Петерсона прервал стук в дверь. Петерсон все понял, лишь только увидел пришельца: это явился генерал Козловский собственной персоной. У него был несколько обескураженный вид, но свое смущение он старался прикрыть бравадой:
- Милль пардон... Вас, может быть, удивляет столь внезапное вторжение? С корабля, выражаясь фигурально, на бал! Впрочем, не с корабля, а с катера!
Один ус у него был спален. Рука забинтована, он поцарапал руку, прыгая в шлюпку.
- Не рассказывайте! - остановил генерала Гарри Петерсон, едва тот собрался докладывать. - Я сам расскажу, что вы намерены сообщить: все шло сначала успешно, потом неуспешно. В заключение появился какой-нибудь Фрунзе...
- Как! Вы уже знаете? - изумился генерал. - Вот это, милль пардон, по-американски! Да, именно так и было. Первое наступление мы отбили. Они вызвали курсантов, пригласили делегатов какого-то, милль пардон, коммунистического съезда... Насчет Фрунзе - не знаю, а Тухачевский - да, Тухачевский там был. Это у них восходящая звезда... И еще, как его?.. Ворошилов. Луганский рабочий, говорят. И какой-то Фабрициус... Или Фаброниус... У меня имеется полный список, если пожелаете ознакомиться...
- Скажите, пожалуйста! Суворовы!
- Бр-р! Не хотел бы я им в руки попасть!
- А этот... долговязый? Погиб? Бывший командир линкора?
- Вилькен? Мы отбыли из Кронштадта в одном катере, и как раз вовремя. Вилькен продрог, потребовал к себе в номер коньяку и принимает, милль пардон, ванну.
Гарри Петерсон сухо попрощался с генералом. Давно ли он так же выслушивал неутешительные вести от Тютюнника?
Собственно говоря, теперь можно было со спокойной совестью уезжать. В этом скучном городе делать больше нечего. Гарри Петерсон всю ночь проворочался, вздыхая и охая. Он не любил неясности. Он все понимал, все в жизни было для него бесспорно, взвешено, распределено. Он жил безошибочно. Но никак у него в голове не укладывалось одно обстоятельство. Хорошо, скажем так, - Кронштадт восстал. Петерсон добросовестно изучал историю. Он знает, что в 1914 году здесь взорвались на русских минах три германских крейсера и эсминцы. Ничего не могли поделать с Кронштадтом и в годы революции ни немцы, ни английская эскадра. И вдруг русские... Что за дьявольщина? Кронштадт неприступен? Так или не так? Какая же сила заставила этих господ усмирителей бунта идти на верную смерть? Проваливаться под лед? Гибнуть под пулеметным огнем? Выполнять чей-то абсурдный, ни с чем не совместимый безумный план наступления? Петерсон понимает, когда выходят на ринг два опытных профессиональных боксера. Оба отличаются бычьей силой, оба с ограниченным, примитивным умом, но с железными бицепсами. Оба хотят разбогатеть, стремятся получить денежное вознаграждение, выбиться в люди, хорошо есть, хорошо одеваться, щеголять, разукрасив грудь медалями и жетонами, покупать женщин, нанимать репортеров - словом, шикарно жить. Естественно, что при таких условиях они ставят на карту все, идут ва-банк. Это Петерсону понятно, тут есть логика, тут есть последовательность, тут есть смысл. А тем что надо, голытьбе? Допустим, одних перестреляли, оставшиеся завладели Кронштадтом. Что дальше? Какая выгода? Завтра опять тот же скудный паек, те же лишения. Что ими движет? Страху на них нагнали? Поставили позади идущих на штурм пулеметы? Голова может лопнуть от таких размышлений! Ничего не понять! Абракадабра! И все они такие - эти русские. И литература у них не как у людей. Например, Достоевский! Гарри не мог его читать, он чувствовал, что, прочти еще одну страницу - и он станет бросаться на людей или уверять всех, что он - Иисус Христос. Бред! Чистейший бред! Раскольников стоит на коленях... Иван Карамазов запросто беседует с чертом... Нет уж, увольте!
Сейчас Гарри Петерсон штудирует Ленина. Надо! Надо изучать противника, выискивать у него слабые струнки. Агентура добыла обширнейшие материалы - книги, газетные статьи, стенограммы, даже секретные приказы и шифрованные телеграммы. Тоже ничего не уловить. Какое-то неистовство! Дерзость невероятная! Другой давно бы спасовал. Фронты. Подвохи. Измена. Бунты. Кроме того - зверский голод, надо же это понять, - полнейшая разруха - ни патронов, ни топлива - форменным образом ничего, ноль, пустое голое место...
Гарри устал думать, строить догадки. Голова как свинцовая. Главное, сколько ни думай, ничего не понять, все иррационально, дико, в других каких-то плоскостях...
Гарри встает с постели, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу, а потом вглядывается в мутную мглу, как в провал, в дыру мироздания.
Кажется, все-таки светает. С трудом, но светает. Нет! Довольно! Сегодня же прочь отсюда! Иначе в самом деле сойдешь с ума. Но он не успокоится, ни за что не успокоится, пока не уяснит все до конца. Именно потому, что он чего-то недопонимает, как, может быть, недопонимают и все, кто борется с этими безумцами, - именно потому и постигают неудачи, преследуют неудачи - подумать только! - их, владык мира, их, всемогущих, их, владеющих людьми, техникой, миллиардами!
5
Перед отъездом у Гарри Петерсона состоялась встреча с Сальниковым, которого он знал ранее и который вдруг вынырнул как из-под земли. Петерсону нравился этот худощавый щеголь с вкрадчивым голосом и холодными глазами, да и не удивительно, что нравился: оба они любили рисковать, оба с увлечением плели бесконечные интриги, оба находили прелесть в темных заговорах и - как это называется в кругах уголовных преступников - в "мокрых" делах.
Петерсон был сдержаннее, пожалуй, бесцветнее. Сальников отличался отчаянной дерзостью, бурным темпераментом, вел крупную игру, не останавливался перед самыми бесстыдными сделками, полагая, что в борьбе все средства хороши.
Кажется, не было на свете человека, который не знал бы этого, на первый взгляд заурядного имени. Кто-то из журналистов даже называл его в обширных обозрениях "авантюрист номер один". Его элегантный сюртук и лакированные ботинки видывали в приемных министерств и правительственных учреждений то в Лондоне, то в Париже, то в Копенгагене, то в Вашингтоне. Он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Для него, казалось бы, не существовало ни пограничных кордонов, ни обязательных виз. То он разгуливал по Москве, то инструктировал мятежников в Ярославле. Сегодня вел конфиденциальную беседу с генералом Гайда, обосновавшимся в Праге после разгрома Колчака. Назавтра оказывался в Италии.
Он бывал всюду, где можно встретить сочувствие борьбе с коммунизмом, его лично знали правители государств, мечтавшие о превращении России в колонию, матерые шпионы, орудовавшие на советской земле, белогвардейские генералы...
Петерсон хотя и не подал виду, но очень обрадовался встрече. Даже скука прошла! Даже этот маленький городишко с большими претензиями, даже эта богомерзкая погода - на все он взглянул другими глазами. Вот когда можно узнать самые свежие новости! Вот когда можно поговорить с человеком своего круга!
Впрочем, маленькая поправка: с человеком своего круга, но отнюдь не заслуживающим полного доверия. Нет, Гарри Петерсон никому не доверяет и придерживается того взгляда, что можно сколько угодно считать всех без исключения честными, но жить среди них следует так, словно все они отъявленные негодяи и мошенники. Гарри даже подумал, приветливо здороваясь с посетителем и как будто бы широко, открыто, доверчиво улыбаясь:
"Нельзя поручиться, что регистрационная карточка на этого субъекта не хранится в секретных сейфах французского Дезьем-бюро... Не исключена возможность, что он связан и с английским Интеллидженс сервис... Но это еще туда-сюда. Однако я надеюсь, что он не состоит агентом Чека? Это было бы уже слишком!"
Для Гарри Петерсона имело большое значение, что Сальников - русский, уже одно это взвинчивало. Что бы Гарри ни говорил, что бы ни делал, в нем всегда сидела, как заноза, мысль о Люси, которая, теперь непонятно даже, была жена его или не жена. Гарри охотно прощал себе, если поступал с кем-нибудь вероломно, и считал это в порядке вещей, даже ставил себе в заслугу. Но чтобы с ним обошлись вероломно! Нет, этого он не мог простить, не мог даже помыслить об этом.
Он помнил каждое слово, каждое движение мускула на лице Люси и на физиономии княгини Долгоруковой в тот памятный день расставания. Он много думал об этом, все взвесил, все расценил. Для него было громом среди ясного неба сообщение, что мать и дочь решили ехать в Париж. То есть как так решили? Кто решил? Предварительно это не обсуждалось, не было ни тени намека на их намерение. Ехать в Париж! Без него! И помимо него, как будто он не был главой дома!
Гарри догадывался, что все это - штучки дорогой мамочки. Люси никогда бы не додумалась. Люси - премиленькая дурочка, и это ей очень к лицу. А чертовой княгинюшке захотелось тряхнуть стариной, покрасоваться в тех сферах, где она как рыба в воде. Чего лучше - Париж! Там русских графов и князей больше, чем правоверных в Мекке. Ну и ехала бы одна, гладенькой дорожки, что называется! Так нет же, и дочку потащила! Видите ли, девочка хандрит, девочке необходимо рассеяться! Чума бы тебя забрала с твоим рассеянием! И он-то хорош! Надо было воспротивиться! Главное, Люси не выпускать из рук, на худой конец даже отправиться с ними, а через недельку княгиню оставить где-нибудь в Марокко, или на Мадагаскаре, или в Конго, где-нибудь в малярийных болотах, а взбалмошную девчонку увезти. Теперь поздно обо всем этом думать, упорхнули птички. И что он скажет патрону? Расхвастался: "Роскошное имение!.. Старинный род!.." Вот тебе и имение! Вот тебе и старинный род! По сей день Гарри не может придумать, как распутать всю эту историю. Как нарочно, все время приходится иметь дело с русскими, говорить по-русски, да Гарри и сам любит щеголять хорошим произношением, русскими народными поговорками, идиомами... И каждый раз где-то в тайниках его сердца отзывается: "Люси"...
- От всей души сочувствую вашим неприятностям! - любезно улыбаясь и безупречно владея голосовыми средствами, мимикой, интонацией, произнес Сальников.
Гарри вздрогнул, на миг ему почудилось, что Сальников выражает сочувствие по поводу семейных невзгод, а не по поводу неудавшейся кронштадтской авантюры.
- Мои неприятности - это и ваши неприятности, - в тон собеседнику ответил Гарри, вполне овладевая собой.
- Тем более досадно проиграть этот тур. Ведь удалось поднять Кронштадт и одновременно раздуть разногласия внутри коммунистической партии. Этакий "двойной нельсон"! Представляете? Сознайтесь, сделано это умелыми руками.
Гарри усмехнулся. В голосе Сальникова прозвучали горделивые нотки автора, довольного своим произведением.
- А разве плохо была задумана, - возразил Гарри, - например, операция, охватывающая чуть не два материка - Европу и Азию, когда адмирал Колчак ринулся с востока, а с тыла ударила армия Юденича? Было учтено все, вплоть до солдатских портянок. Но какой-то злой рок висит над нами. Всякий раз повторяется одно и то же: прекрасное начало и плачевный конец.
- Сэр, - перешел на английский язык Сальников, - эта гостиница... как вы полагаете, - вполне удобное место для откровенных разговоров?
- Можете быть спокойны на этот счет, - развеселился Гарри, в свою очередь хвастая техникой и предусмотрительностью. - Я всюду вожу с собой специалиста по электрическим установкам и микрофонам, не говоря о том, что смежные номера всегда занимают мои сотрудники, а перед окнами и в коридоре дежурят мои люди.
- В большом ходу поговорка "стены имеют уши". Но чем лучше пол и потолок? Вы меня извините, сэр. Будь это не Гельсингфорс, а ваша постоянная резиденция, я бы никогда не позволил себе коснуться этого вопроса. Но у меня какой-то дурной характер: люблю видеть собеседника в лицо, и мне не нравится, если торчит одно его ухо. Хотя убежден, что болтливые опаснее злых, как гласит народная мудрость, но с вполне серьезным человеком предпочитаю и полную откровенность и полный tete-a-tete*.
_______________
* Tete-a-tete - с глазу на глаз (франц.).
Гарри Петерсона такая предпосылка тоже устраивала, он тоже любил беседовать без свидетелей, а в случае надобности применял механическую запись.
Да! Теперь он определенно не жалел, что приехал в этот ужасно приличный и ужасно скучный городок. Накопилось много вопросов, в которых более компетентного консультанта, чем Сальников, он и не желал бы. А так как беседа принимала более интимный характер, Гарри нашел своевременным и уместным извлечь из шкафика бутылку превосходного мартини. Теперь они повели разговор, поудобнее усевшись в неудобных гостиничных креслах и время от времени потягивая ароматный напиток.
Сальников несколько раз пытался перейти на английский, полагая, что Петерсону легче будет на родном языке выражать сокровенные мысли. Но Гарри снова возвращался к русскому языку, показывая, что в совершенстве владеет им и даже не растягивает "а" и вполне справляется с буквой "ч".
- Вы упомянули о разногласиях внутри коммунистической партии. Очевидно, вы имеете в виду "децистов", троцкистов, "буферную" платформу и прочее в этом же духе? Не кажется ли вам, что значение этих разногласий несколько преувеличивается?
- Надо брать весь комплекс явлений в их совокупности, чтобы составить суждение о данной ситуации, - теряя легкость построения фразы, начал тоном лектора Сальников. - Давайте вспомним, что этому предшествовало. Когда Ленин выступал на съезде Советов и совершенно определенно говорил о временном отступлении, то Лев Давидович Троцкий резюмировал, что кукушка прокуковала конец Советской власти. Тут имелось в виду все, вместе взятое: и голод, и разруха, и восстания в деревне, и усталость. Если уж договорились до таких вещей, то, видимо, речь идет не о каких-то там частных тактических расхождениях и спорах. Троцкий только подытожил, или, как говорится, поставил точку над "и".
- Но ведь господин Троцкий и сам коммунист?
- Троцкий - все что угодно по мере надобности. Когда ему удобно - и коммунист. Был момент, когда бундовцы возлагали на него надежды. Напрасно. Бундовцы для него недостаточно масштабны. Но если будет выгодно, он, не задумываясь, установит для евреев черту оседлости. Троцкий - это прежде всего Троцкий. Я так полагаю, сэр.
- Да, да, я знаю характеристики этого деятеля, сделанные многими, в том числе отзывы Ленина.
- Ленина?! - переспросил Сальников, думая, что ослышался. Он никак не ожидал и со стороны Петерсона ссылки на такой авторитет.
Но Гарри не обратил внимания на вопрос, будто не слышал его, и продолжал, щеголяя памятью и осведомленностью:
- В юности Троцкий ходил по Одессе в синей блузе и писал психологическую драму. В тысяча девятьсот третьем году был меньшевиком. В девятьсот четвертом порвал с меньшевиками, в пятом снова примкнул. Ленин отмечал его ультрареволюционную фразу и отсутствие мировоззрения. А зачем умному человеку мировоззрение? У вас, господин Сальников, есть мировоззрение?.. Но продолжим о Троцком. Блок ликвидаторов. Противник Ленина. Впередовцы. А в девятьсот семнадцатом примкнул к Ленину. В Брест-Литовске поступил вопреки директиве Ленина. Приехав из Брест-Литовска, публично признал свою ошибку. И тут же сколотил оппозицию. И кажется, снова признал ошибку? Или не признал? Мне кажется, эта маневренность говорит в его пользу. Ведь так? В мировой прессе его окрестили "красным Наполеоном". Не кончит ли он островом Святой Елены? А вы какого мнения о нем? Фигура это или не фигура - вот что меня интересует.
- Если вы позволите напомнить, - с напускной скромностью вкрадчиво промолвил Сальников, - один далеко не глупый англичанин выразился примерно так: Троцкий так же не способен равняться с Лениным, как блоха со слоном.
- Я знаю, о каком англичанине вы говорите: Локкарт. Остроумно. Но блохи кусаются.
И Гарри понял, что от Сальникова нельзя ожидать другой оценки Троцкого, так как Сальников сам мечтает стать диктатором России. Он замолк и стал внимательно разглядывать Сальникова, решая вопрос, годится ли в диктаторы этот поджарый джентльмен - хладнокровный убийца, талантливый мистификатор и прирожденный дипломат. Конечно, если его поставить у власти, он, как и Троцкий, откроет границы для предприимчивых людей и быстро превратит Россию в нормальную капиталистическую страну с каким-нибудь страшно революционным названием. В этом Гарри Петерсон не сомневался. Но удержится ли он? На какие слои общества он опирается? Какими приманками снова загонит в стойло вырвавшегося на свободу и нюхнувшего вольного ветра дикого вепря, этот разбушевавшийся не в меру народ?
Сальников в свою очередь изучал Петерсона. Они не в первый раз встречались. Сальников знал, что за спиной Петерсона крупные капиталисты. Но еще Сальникову было известно, что, кроме поддержки любого мероприятия, направленного против советского режима, у Петерсона ничего не было за душой. Сальников старался определить, насколько влиятельны деловые круги, которые представляет этот американец. Денег у него много. Но ведь у голландца Детердинга их еще больше!.. Что касается аппетитов, то у всех они хорошие. Пасть, пожалуй, шире всего открыта у немцев... Эти с удовольствием заглотали бы весь божий мир и запили его кружкой пива.
Так оба долго молчали и обнюхивались, как собаки, встретившиеся на дороге. Сальников при этом осторожно отмечал, что не всякий гриб в кузов кладут, а Петерсон пришел к неопределенному выводу, что qui vivra, verra поживем - увидим.
Гарри Петерсон первым прервал молчание:
- Господин Сальников! Вы не обидитесь, если я признаюсь в своих сомнениях относительно очень популярной в России партии, - я имею в виду эсеров...
Сальников вежливо слушал. Но Гарри заметил какое-то движение, какой-то жест, выражающий протест.
- Знаю о ваших контактах с эсерами, но вы - особая статья: если вам понадобится, вы образуете еще десять таких партий и придумаете для них недурненькие платформы. В сущности, партия - это когда один говорит, а все остальные поддакивают. Не сочтите за комплимент - я не умею говорить комплименты, - вы из той породы, которая делает игру. Так устроен мир.
Сальников опять шевельнулся, как бы протестуя против слишком откровенной похвалы. Гарри ответил на это афоризмом:
- Скромность - результат опытности, сэр! Так говорят на моей родине. Но продолжим об эсерах. Я по должности изучал русские политические течения и нахожу большое сходство между русскими эсерами и русскими анархистами. Только анархисты призывали убивать всех подряд, а эсеры - на выбор.
- Не совсем так, - лениво процедил Сальников. - Или даже совсем не так.
- Эсеры, - продолжал Гарри, явно вызывая на спор и на откровенность, - это партия, у которой много жертв и мало толку. И потом, согласитесь: в ваших рядах слишком много провокаторов.
- Это характеризует только полицию, а не нас.
- Каляев и Шпайзман повешены, Покотилов и Швейцер погибли при взрыве, Дулебов и Бриллиант сошли с ума...
- Сэр! Вам следует писать историю революции!
- А провокаторы? Один Евно Азеф чего стоит.
- Азеф - любопытнейшая фигура, если хотите знать. О нем будут писать монографии. Это поэт насильственной смерти. Но разгадка его загадочности прозаически проста: деньги. Он любил цитировать Гейне: основное зло мира то, что бог создал слишком мало денег. За деньги он готов был любого убить, Плеве так Плеве - ему безразлично. Его мировоззрение укладывалось в формулу: Je m'en fiche - плевать. В этом смысле он вполне современен!
- А эта ваша... Жученко? Которую разоблачил Бурцев? Лучше бы вам, мистер Сальников, свою, новую партию создать, чтобы на ней не висели тени прошлого. Как вы думаете?
- Я так и поступил, сэр. Только у меня не партия, у меня армия: зеленые братья. Вы правы, когда говорите, что эсеры - это и устарело и дурно пахнет. Дряхлые Брешко-Брешковские и Марии Спиридоновы - пыльный архив. Я уже не говорю о таких ископаемых, как Авксентьев, Вологодский. Сейчас другие времена, другая тактика, а все эти психопатки - это старо, как диккенсовские дилижансы. К чему такая бравада: спрятать в дамскую сумочку браунинг, подойти, выстрелить и затем терпеливо ждать, когда для тебя намылят веревку.
- Значит, вы отрицаете террор?
- Террор - да, но не политическое убийство.
- Да-да. Я в общих чертах представляю этот новый стиль работы. Например, предупредил поручик Соловьев советские органы о готовящемся перевороте в Ярославле, а через несколько дней Соловьева случайно убили в гостинице. Или комиссар печати Володарский... Кажется, тоже ваша работа?
- Милостивый бог! Вы даже такие мелочи храните в памяти? Но это же обычная вещь! Вы приводите примеры из политических будней. В меню политических деятелей есть такое блюдо: устранение нежелательных лиц. Ничего особенного, все так делают, каждое мало-мальски приличное государство, каждый деятель, даже каждый ревнивый муж. Какой же это новый стиль? В Америке нежелательных наследников упрятывают в психиатрические больницы. В Древней Руси их заточали в монастыри. Не вижу тут принципиальной разницы.
- В какой-то степени вы правы, - примирительно промямлил Гарри. Кстати, троцкисты тоже не брезгуют этим... стилем?
- В политической борьбе, сэр, нет недозволенных приемов.
- Извините, я, вероятно, утомил вас. Но хочется, знаете ли, во всем разобраться. Да! Что я хотел еще спросить... Вы сами лично видели Тухачевского?
- Михаила Николаевича? Конечно. Его, как и Фрунзе, на самые опасные участки посылают. На врангелевском фронте он командовал Первой и Пятой армиями. Я слышал, что его прочат на пост начальника Военной академии. Последнее, что я знаю, впрочем так же, как и вы, что он командовал войсками, взявшими Кронштадт.
- Вот поэтому-то мне и хочется составить о нем полное представление. Фрунзе - тоже бывший офицер?
- Каторжанин. Никакого отношения к военному делу не имеет.
- А кто такой Фабрициус?
- Коммунист. Работал в подполье. Это все, как бы вам сказать, ленинская гвардия. Ленин их выискал, Ленин их воспитал.
- А Котовский? Слыхали о таком?
- Еще бы! Крупный такой мужчина. Я его один только раз видел. В Одессе. Между прочим, друг Фрунзе. Одного поля ягода. Хорош.
- Все они хороши. Скажите, но разве плохой генерал, например, Ханжин? Разве не безумно храбр Каппель?
- Сэр! Плохо глиняному горшку, если на него падает камень. Не лучше, если он падает на камень сам.
- Вы все отшучиваетесь. Но в чем же все-таки тут дело? Мне рассказывали о Шкуро. Это нечто феерическое! Кадр для кино!
- Да, вероятно, это потрясает. Скачут во весь мах на вороных конях, на черном бархатном знамени красуется волчья разинутая пасть, в атаку идут под марши духового оркестра... Черт знает что такое!
- Я допускаю, что пустой номер - Тютюнник, что слаб Пилсудский. Но сколько кричали о Колчаке! Боже мой! Министр Сазонов называл его русским Вашингтоном! Сэр Сэмюэль Хор кричал, что Колчак - джентльмен. Черчилль клялся, что Колчак неподкупен. "Нью-Йорк таймс" воспевала на все лады этого "сильного и честного человека". Где он, этот сильный и честный человек? В какой гниет канаве? И почему, объясните, опытных кадровых генералов колотят и колотят голодные, плохо одетые мужики, которыми командуют агроном Котовский, ссыльно-каторжный Фрунзе и кто еще там? Какой-то Тухачевский? Какой-то Буденный? Примаков? Егоров?
Редко случалось, чтобы Гарри Петерсон приходил в такое возбуждение. А Сальников вежливо улыбался, вежливо слушал, пил маленькими глотками вино и сверкал лакированными ботинками.
Впрочем, вежливо слушая, он думал:
"Вряд ли ты, голубчик, на самом деле взволнован! Мы оба из того сорта людей, которые уже ничего не делают искренне. Мы всегда как на сцене, даже наедине с собой".
Кажется, он был прав. Гарри Петерсон, внезапно успокоившись и вдруг позабыв о печальной участи Колчака, которая за минуту до того его так тревожила, спросил с самым простодушным видом, хлопнув Сальникова по колену:
- Сегодня мы так свободно касаемся любых, даже неприкосновенных тем. Можете не отвечать на мой вопрос - и это последний! - вы ведь не сторонник диктатуры пролетариата?
- Разумеется!
- Но в то же время не сторонник и капиталистической системы? Диктатуры буржуазии?
- Да, эти две силы борются между собой. А я ни с теми, ни с другими. У меня своя линия.
- Вот-вот. Я понял вас. Я потому об этом спросил, что нашел любопытнейшее высказывание господина Ленина.
- Ценю вашу осведомленность о взглядах этого лица! Что же утверждает советский вождь?
- Он утверждает, что есть два борющихся лагеря и нет третьего, не может существовать третья линия, это иллюзия, обман или самообман. Есть французская песенка "Entre les deux mon coeur balance"*. Так вот что я хотел бы, мистер Сальников, с вашего разрешения сказать: раз уж вы ненавидите коммунистический строй - а вы его ненавидите, - значит, ваше сердце с нами, и вовсе оно не балансирует между двумя непримиримыми мирами. Следовательно, и задача у нас с вами одна - свержение Советской власти. Сто фронтов наших разбито, сто надежд рухнуло, сто вариантов не удались? Примемся за сто первый! Так?
_______________
* "Entre les deux mon coeur balance" - "Сердце мое между двух
балансирует" (франц.).
6
Генерал Козловский сразу же после ликвидации Кронштадтского мятежа и встречи с Петерсоном отправился отчитываться в Париж. Это вошло в обычай: проиграв очередную кампанию в борьбе с большевиками, являться в Париж с повинной, искать новых покровителей или садиться писать мемуары.
Прежде всего Козловский поехал к князю Хилкову, которого знал еще по Петербургу.
- Победителей не судят, - сказал он вместо приветствия, - а что делают, милль пардон, с побежденным? Браните, позорьте, что хотите делайте, пришел с повинной, не обессудьте.
- Не вы первый, не вы последний, - снисходительно ответил князь. - Вы уже были у Рябинина? Это обязательно. И не откладывайте. Сегодня же. А вечером будьте у княгини Долгоруковой. Если вы ей понравитесь, ваша репутация спасена. У нее политический салон...
И особо доверительно добавил:
- Запросто бывает даже великий князь Дмитрий Павлович... Да вы сами все увидите. Очень милый дом. Чисто русское гостеприимство.
- Да ведь я только что видел в Гельсингфорсе супруга ее дочери, господина Гарри Петерсона! - обрадовался Козловский. - Какая удача! Я могу даже прийти, чтобы передать милейшей Люси горячий привет от муженька!
Но князь Хилков замахал на него руками:
- Не вздумайте! Гарри Петерсон здесь вовсе не упоминается, с ним раз навсегда покончено, а Люси считается девушкой, незамужней, завидной невестой... Нет уж, найдите какой-нибудь другой предлог.
- Ах вот как? Спасибо за предупреждение! Значит, так я и поступлю: никакого Гарри Петерсона не видел, знать ничего не знаю и знать не хочу! Вот уж правда, что, не спросясь броду, не суйся в воду! Ай-ай-ай, какого маху бы я дал, это была бы вторая моя проигранная битва!
Рябинин тоже встретил Козловского довольно благодушно:
- А! Отвоевали? Подробности можете не рассказывать: почтеннейшая французская газета "Матэн" за две недели до начала Кронштадтского восстания уже сообщила подробнейше, что восстание произошло, и очень успешно. Словом, выболтала все секреты, как последняя сплетница. Вот после этого и делай невинное лицо, что мы знать ничего не знаем, что восстание вспыхнуло стихийно и никакого генерала Козловского мы не посылали. Ох уж эти мне журналисты и писатели, всех бы я перевешал на одной веревочке!
- Милль пардон, вы сказали - журналистов? Да-да-да!
- Не унывайте, генерал. Вы понесли поражение и славы не стяжали. Зато мы, коммерсанты и промышленники, одержали крупную победу. Только что получены вести из России: новая экономическая политика! Нэп! Не слыхали? Еще услышите. Смена вех, вот что такое новая экономическая политика. Нас, людей дела, вынуждены позвать на выручку! Я всегда говорил, что Ленин умный человек. Он понял, что без нас не обойтись. Теперь вопрос только времени. Будут и иностранные концессии. Все будет. Образумились! Поняли наконец, что без Рябинина у них ни черта не получится!
Козловскому стало ясно, почему Рябинин обошелся с ним милостиво. Новые надежды вселились в Рябинина, новые мечты.
- Теперь можете складывать оружие, не понадобится! - восклицал Рябинин. - Сегодня они приглашают нас торговать, завтра вручат нам министерские портфели... Этого и следовало ожидать. Ну, а при наличии делового правительства и послушного парламента мы даже не против смирного импозантного монарха... По английской выкройке!
Выслушав все эти горделивые мечтания "русского Рокфеллера", Козловский направился к великолепному особняку Долгоруковой, у Елисейских полей, в центре Парижа.
7
Княгиня Мария Михайловна Долгорукова весьма удачно и ловко увезла свою дочь Люси из Молдавии, от нудного Гарри Петерсона, избавив ее от неудачного замужества, а себя от невыносимой скуки. Теперь она чувствовала себя как рыба в воде.
Мать и дочь Долгоруковы поселились в Париже и быстро освоились с новой обстановкой, блестяще демонстрируя непревзойденное искусство ничегонеделанья. В этом оказывал им посильную помощь князь Хилков, постоянный их спутник и завсегдатай в доме.
Князь Хилков тоже обретался в Париже в числе эмигрантов, покинувших петербургские гостиные, бросивших на произвол судьбы тульские, рязанские и прочих губерний имения. Так как он был не менее предусмотрителен, чем другие обеспеченные люди его круга, и держал изрядные суммы в заграничных банках, то сейчас ему не было надобности пускаться в сомнительные аферы, работать каким-нибудь официантом или шофером такси. Он и раньше не засиживался в Петербурге - то фланировал по набережной Сены, то обозревал развалины Рима, то вдыхал аромат роз в лучезарной Ницце. Прежде всего заботясь о хорошем состоянии желудка, князь умеренно ругал красных и позволял себе скептически относиться к бесчисленным рецептам спасения России. В эмигрантских кругах осуждали за это князя. Находились и защитники, уверявшие, что он просто бравирует.
На четвергах княгини Долгоруковой князь Хилков охотно выслушивал ретивых сторонников крестового похода против коммунистического мира. Но с не меньшим удовольствием слушал он сонаты и ноктюрны, которые поверхностно, но в общем довольно прилично исполняла на рояле Люси. Он любовался этой ветреной, пустой девчонкой и почтительно ухаживал за ее maman.
При всей своей бесшабашной, разнузданной жизни Люси неизменно сохраняла кроткий ангельский вид и с трогательной наивностью взирала на божий мир фарфорово-голубыми глупыми глазками. К ней никак не подошло бы банальное выражение "меняет мужей, как перчатки". Нет, она меняла их значительно чаще, с тех пор как упорхнула от скучного, вечно занятого Гарри Петерсона. И она благословляла небо, что у нее крайне снисходительная мамочка, которая не только не останавливала, но даже поощряла все проказы дочери.
Марию Михайловну порою коробил вкус дочери. Спору нет, каждому поколению свое. Но, например, этот долговязый швед, с которым Люси не стеснялась появляться в обществе... или - того хуже - этот усатый поношенный адмирал с багровой апоплексической физиономией и зычным басом... Очень моветонно*! Но ведь время такое: столпотворение! Вавилон! Последние дни девочку забавляет вихляющийся поэт из русских эмигрантов... Ну и пусть! Была же Мария Михайловна в детстве по уши влюблена в гувернера? Этот поэт страшно кривляется, напускает на себя томность, картавит... Ни капельки мужского характера! Подписывает стихи нелепейшим образом: "Жорж Грааль-Шабельский", хотя настоящее его имя - Павел Николаевич Померанцев. Люси зовет его мосье Жорж...
_______________
* Move ton - дурной тон (франц.).
При всей видимости рассеянной светской жизни в доме княгини Долгоруковой вершились и другие дела. Здесь удобно было устраивать полезные деловые встречи. Очень часто, чокаясь хрустальными бокалами, посетители княгини обсуждали новые замыслы, новые походы против коммунистов. Недаром здесь появлялся то мрачный вешатель генерал Меллер-Закомельский, с его пышными усами и подусниками, то какой-нибудь скользкий пронырливый молодой человек, явно связанный с Дезьем-бюро, то рыжеватый немец фон дер Рооп, который прихлебывал из рюмки, словно это был не лафит, а баварское пиво. И ни для кого не было секретом, что Меллер-Закомельский ищет протекции, пронырливый молодой человек назначил здесь кому-то встречу, а фон дер Рооп, всегда считающий единственно правильной только свою точку зрения, хлопочет о поддержке какой-то новой нацистской партии, которая в конце 1920 года приобрела газету "Фелькишер беобахтер", и в этой газете обещает завоевать весь мир.
Мария Михайловна прилагала немало усилий, чтобы ее приемы походили на приемы петербургской знати. Она старалась каждый раз преподнести нечто примечательное: какую-нибудь знаменитость, какую-нибудь сверхкрасавицу. Князь Хилков понимал, что для Марии Михайловны ее журфиксы стали страстью, и тоже делал все, чтобы четверги в доме Долгоруковых были популярны в Париже.
Один раз им удалось залучить балерину Кшесинскую, которая открыла в Париже балетную студию и вообще сумела удержаться на поверхности, не пойти ко дну. Мария Михайловна демонстрировала ее, как выигравшую приз скаковую лошадь.
В другой раз намечено было пригласить Юсупова. Он успел промотать все состояние и теперь открыл в Париже ателье мод. Но все-таки он был персоной: ведь он женат на племяннице Николая Романова! Царя!
Привел как-то князь Хилков и писателя Бобровникова.
- Очень известный романист, - говорил князь. - Выпустил массу книг. Я-то не читал, но по отзывам прессы... Впрочем, прессу я тоже не читал.
Бобровников Марии Михайловне не понравился:
- Почему у него такой не писательский вид?
- Чем незначительнее писатель, тем у него более "писательский" вид, пояснил князь. - А этот, значит, настоящий.
Бобровников присоединялся то к одной группе людей, то к другой, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Какая чепуха все эти пересуды парижских будней, анекдотов, сплетен! И что за таинственные беседы где-нибудь в отдаленной гостиной каких-то подозрительных субъектов? Тоже мне - салон толстовской мадам Шерер!
Бобровников исподлобья разглядывал это сборище разношерстных людей и придумывал, как бы он изобразил их в своем произведении. Если подойти с этой точки зрения - богатый материал для наблюдения!
Все остальные чувствовали себя, как видно, преотлично. Русские фабриканты без фабрик, сахарозаводчики без сахарных заводов и нефтяные короли без нефти разглядывали картины на стенах или оживленно беседовали. Несколько дам, сверкающих вывезенными из России бриллиантами, с преувеличенным вниманием рассматривали, расспрашивали, тормошили очаровательную Люси. Так скучающие гости в ожидании ужина играют с хозяйским котенком.
Вскоре появился великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя. Он понимал свое двусмысленное положение, так как и царя уже не было, и сам он теперь не великий и не князь. Он несколько даже переигрывал в скромность и демократизм. Как-то торопливо здоровался, зачем-то усиленно кланялся. Его явно стесняло особое положение, и он передвигался по залу затрудненной походкой, будто внезапно очутился среди толпы совершенно голым и теперь не знал, как прикрыть грешную наготу.
Дмитрий Павлович неоднократно просил не выделять его, не соваться с неуместным в данном случае придворным этикетом. И все-таки дамы млели и дурели в его присутствии, говорили, как на сцене, неестественно громкими голосами, некстати приседали и дарили великого князя преданными верноподданническими улыбками. Мужчины же становились не в меру серьезными, натянутыми и, как на похоронах, говорили вполголоса и грустно.
Только представители делового мира не чувствовали никакого стеснения. Иностранцы откровенно разглядывали августейшего гостя, как редчайший музейный экспонат, добытый при раскопках древнего кургана. А русские промышленники и банкиры попросту не замечали его.
Когда у Долгоруковой впервые должен был появиться Рябинин, Мария Михайловна опасалась, что явится мужичок в поддевке, стриженный под горшок, в русских сапогах со скрипом, - что-нибудь вроде ее подрядчика в имении Прохладное.
Но князь Хилков дал ему блестящую характеристику:
- Если хотите, это аристократ нового типа. Не знаю, насколько он породист, но можете не сомневаться, что это высокообразованный, воспитанный человек.
- Не скажете ли вы еще, что он был в институте благородных девиц, что для него нанимали бонн и гувернеров? - съязвила Мария Михайловна. - Откуда у него возьмется воспитание? Скажите спасибо, если его сапоги не смазаны дегтем!
- Вы угадали, княгиня, у него именно были бонны и гувернеры. Учился он в Сорбонне, денег прорва, сейчас состоит в Торгпроме вместе с самыми что ни на есть воротилами. Словом, фигура. За манеры можно не беспокоиться, владеет несколькими языками, изъездил весь свет. Не скрою, есть у него странности, да кто же из нас безгрешен? Он чуточку - как бы сказать... рисуется тем, что он русский, что может себе позволить удовольствие быть русским и требовать уважения к его русским вкусам, взглядам и привычкам.
- Но это не так уж плохо! Я тоже люблю, например, чтобы на столе у меня были не только французские вина, но и русская водка и малороссийская запеканка с отплясывающим вприсядку запорожцем на яркой этикетке...
- Тем более вы поймете Рябинина. По размаху он вполне бы мог занять место президента в России. При иной ситуации, конечно.
Опасения Марии Михайловны оказались напрасными. Пришел действительно элегантный, прекрасно одетый, представительный человек. Держался он свободно и даже несколько властно.
В дальнейшем Рябинин стал бывать у Долгоруковой запросто. Он хотя и презирал аристократов, но вместе с тем искал у них популярности. И когда явился на этот раз почти одновременно с генералом Козловским, то только и было разговоров, что о перемене курса в России, о новой экономической политике и новых надеждах.
Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А
1
Ольга Петровна знала, как заполнены хлопотами и заботами дни ее мужа, какими вопросами он занят, какие дела его волнуют. И все-таки она не смогла бы перечислить всего, что делал Котовский. Ведь он был не только командиром дивизии, или командиром корпуса, или командиром бригады, он еще был коммунистом в полном, глубоком значении этого слова, наконец, он был советским человеком, а ведь это высокое звание ко многому обязывает.
Взять, например, только одно событие: страшный недород, а в результате повальный голод в самых плодородных районах Поволжья, Украины и Северного Кавказа. Непосредственной причиной недорода была засуха, но, если вдуматься, это являлось следствием войны и интервенции, прошедших орудийными колесами по засеянным полям, проложивших кровавый след по всему российскому приволью.
Хлеба не было. Ели кору деревьев, ели лебеду. Голодало до тридцати миллионов людей. Смерть хозяйничала в этих местах. Встречались целые поселения, поголовно вымершие, от мала до велика. Кто уцелел, в отчаянии уходил в города, но чем могли поделиться с несчастными горожане? Они сами перебивались на скудном пайке.
Душераздирающее зрелище - мертвые бурые поля, окаменевшие комья земли на пашне, голая пустыня, мертвенно-серая полынь да поблекшие плети повилики... Стаи ворон, с разинутыми от жажды клювами, взъерошенные, голодные, перелетали с одного поля на другое, зловеще каркая.
Надо было срочно спасать людей. Надо было накормить их, а также обеспечить зерном будущие урожаи.
Ленин обратился с призывом к украинским крестьянам: надо помочь голодающим, надо поделиться с Поволжьем избытками, надо выручать людей из беды.
Страна еще не оправилась от опустошительной войны, от нашествия. Страна была разорена. И все-таки каждый старался уделить хоть что-нибудь из своего скромного достатка.
Весть о бедствии разнеслась по всему миру.
- Надо помочь русским!
Отовсюду протянулись дружественные руки. Да и как могло быть иначе? Международная солидарность трудящихся нерушима.
Когда весть о постигшем Советскую Россию бедствии достигла Парижа, разные слои общества встретили ее по-разному. Рабочие стали создавать комитеты помощи. Газетчики стали смаковать различные ужасы в связи с голодом и недородом хлеба. Рябинин снова наполнился надеждами и размышлял, как бы получше использовать сложившуюся обстановку. Не без его влияния создавалась в Париже "Международная комиссия помощи России". Именно России! Не Поволжью, не местностям, пострадавшим от засухи, а России!
- Это звучит! - ликовал Рябинин. - Это впечатляет! Но воображаю, какие условия им поставит Нуланс! Ведь это твердокаменный человек! Человек-монумент!
Рябинин не ошибался. Возглавил Комиссию помощи тот самый Нуланс, который пакостил Стране Советов уже в 1918 году. Это он в числе других ему подобных налаживал тогда блокаду Советской России, а ведь это и привело русский народ в состояние разорения и нищеты, это и привело к голоду.
Рябинин вполне отдавал отчет, какие последствия блокады и интервенции неизбежно настанут. Слова Рябинина, что костлявая рука голода схватит за горло большевистские Советы, были подхвачены белогвардейской печатью. Эти жестокие, живодерские слова стали лозунгом, стали программой. Пусть, пусть они дохнут с голоду, наши земляки, наши братья, наши соотечественники, раз они не хотят жить, как жили! Не давать им ни крошки! Пусть вымрут в своей вольной стране! Все - и малые и старые!
По Парижу ходил забавлявший всех рассказ, как графиня Потоцкая по поручению "своего большого друга" барона Корфа явилась сообщить потрясающую новость Марии Михайловне Долгоруковой. Над этой историей, может быть и приукрашенной, смеялись до слез.
- Можете себе представить хорошенькую графиню Потоцкую в роли докладчика по экономическим вопросам?!
Рассказывали, что графиня прониклась сознанием, будто ей поручено важное дело. Когда она вошла, у нее было странное лицо, напугавшее и Марию Михайловну, и князя Хилкова, или, как его называли запросто в домашнем кругу - "дядюшку Жана".
- Господа! - воскликнула она, войдя и даже не здороваясь. - Господа! У них голод! Это просил вам сообщить барон!
Она стояла в позе оперного трубача, извещающего о выходе принца. Это ей шло. Ей вообще все шло, и она это знала. Знала, как зачаровывают мужчин ее синие с поволокой глаза, ее крохотный ротик и капризный выгиб бровей.
Видя, что никто ничего не понял, она пояснила:
- Да, да, представляете? У них совершенно нет хлеба! Совершенно!
- В самом деле, - неуверенно промолвил дядюшка Жан, - я что-то такое слышал... На Поволжье.
- Я услала барона по одному своему делу. Он хотел сам все рассказать, а пока попросил, чтобы я поздравила.
- Но если голодают... - не поняла Мария Михайловна, - чего же тогда поздравлять?
- Барон уверяет, что, если мужики начнут голодать, они начнут бунтоваться. И тогда мы сможем вернуться в Россию. Вообще мне тут не все ясно. Например, если нет хлеба, неужели они не могут обойтись? Мне вот доктор категорически запретил есть хлеб.
- Вот видите! - повеселел князь. - И вы все-таки не бунтуете! Вами даже император Николай был бы доволен...
- Пожалуйста, Жан, не затрагивайте хоть его! - простонала Мария Михайловна. - О вас же мне давно известно, что вы неисправимый циник, у вас нет ничего святого!
- Неправда, есть святое: это вы, княгиня! Вы - моя религия!
- Жан!
...Несколько дней графиню Потоцкую нарасхват приглашали во все дома, чтобы от нее самой выслушать эту новость. Таким образом, весть о том, что в районе Волги умирают от голода тысячи людей, обернулась в избранных кругах белоэмигрантов веселым анекдотом.
Тем временем Международная комиссия помощи России заседала, выносила решения...
- Помощь голодающим? Мы ее окажем, но при условии... безоговорочного контроля над действиями Советского правительства! - ораторствовал Нуланс. - Им сейчас некуда податься, они приперты к стене. Только при этом условии контроля будет оказана помощь голодающим! Всем ясно? Sine qua non*. Мы к ним пошлем экспертов!
_______________
* Sine qua non - непременное условие (лат.).
Эти притязания были отвергнуты Советским правительством. Тогда по установившейся традиции прибегли к помощи все тех же эсеров, той части, что успела легализоваться и сделать вид, что отошла от своих позиций. Группа представителей эсеров, слегка разбавленная кадетами, предложила создать на общественных началах "Комитет помощи голодающим" - Помгол.
Им разрешили. Однако, зная повадки этих сомнительных радетелей о благе народном, присматривали за ними. Вскоре перед Дзержинским лежали неопровержимые доказательства преступной их деятельности. Нашли у них даже схему... да, да, схему, где уже заранее разрабатывались детали так называемого переустройства России.
Феликс Эдмундович с горечью сказал:
- Вот для чего им понадобился Помгол. Даже народное бедствие эта публика использует для политической борьбы и заговоров. Спят и видят государственный переворот в России. И уже намечается верховный правитель! Все их помыслы только и ограничиваются захватом власти. А как властвовать, как устроить жизнь - это у них вопросы второстепенные.
Дзержинский нахмурился:
- Арестовать! И этого негодяя арестовать, у кого в дневнике нашли запись: "И мы, и голод - это средства политической борьбы"!
2
На Украине решено, чтобы каждые двадцать человек прокормили одного голодающего. Котовский берется за дело. Помощь голодающим рассматривать как одну из боевых задач! И зорко следить, чтобы все, что предназначено для голодающих, срочно доставлялось им, - только им и только срочно!
Ведь памятен зловещий эшелон, который год или два назад мчался по рельсам через Страну Советов. Да можно ли забыть то трудное время? Злобное, ощетиненное кольцо блокады. Разутая, раздетая, нетопленая Советская республика. Голодная смерть смотрит в лицо. И вот в Петрограде, где каждый вагон на счету, каждое ведро каменного угля - величайшая драгоценность, формируется эшелон. С какой надеждой смотрят на него изголодавшиеся питерцы! Эшелон - это спасение! Он направится туда, в хлебное приволье, в восточные районы. Там его нагрузят спасительными продуктами, чтобы накормить почерневших от голода питерских рабочих, истощенных, измученных женщин, синевато-прозрачных, трогательно-беспомощных детей...
Свисток. Семафор открыт, жезл вручен, эшелон трогается, разболтанные вагоны ходят ходуном, гремят, грохочут, поезд набирает скорость и отчаянно дымит. Версты, версты... станции, полустанки... Изрытые окопами поля, разбитые водокачки, дважды взорванные и дважды починенные на живую нитку мосты... Ах, скорей бы, скорей бы! Вся надежда на него! Скорей бы он добирался до места!
Но вот эшелон благополучно прибыл на станцию назначения. Там уже ждут его. Криво улыбается начальник станции. У него уже все условлено, все подготовлено.
- Прибыл? Ладненько. Поставить на шестнадцатый путь.
Эшелон стоит на шестнадцатом пути. Стоит неделю, стоит другую. Ветер пронизывает насквозь пустые изношенные вагоны, они обрастают инеем, колеса примерзли к рельсам...
- Стоит? Ладненько. Перебросить его на двадцать второй путь.
Но вот какое-то движение, какое-то оживление. В тулупах, с фонарями в руках идут хмурые заспанные проводники. Прицеплен паровоз. Рывок, еще рывок. Эшелон пятится, ползет сначала назад почти за станцию, в открытое поле, где мигает зеленым глазом семафор. Стоп. Свисток. Эшелон движется теперь уже вперед и оказывается на главном пути, у перрона.
- Отправляется? Ладненько. С богом!
Свисток. Семафор открыт, жезл вручен, эшелон трогается, разболтанные вагоны гремят, грохочут, раскачиваются, поезд набирает скорость и отчаянно дымит...
Версты, версты... станции, полустанки... И наконец, после длительных стоянок, после отчаянных нечеловеческих усилий снабдить его и топливом и подой, пустой эшелон благополучно добирается до голодного, холодного Питера, где так его ждут.
Начальник станции криво усмехается:
- Прибыл? Превосходно. Загнать его на шестнадцатый путь. А затем снова отправить туда, в хлебные районы, и так гонять взад и вперед порожняком, пока господа защитники революции не передохнут с голоду!
Да, Котовский помнит, такие эшелоны гоняли в самое трудное время засевшие в разных "Викжелях" озверелые враги, гоняли порожняком на радость белогвардейщине, на радость банкирам и лордам и всем ползучим гадам, обитающим на земле. Котовскому часто мерещится этот эшелон, мысль о нем преследует его неустанно. Когда он знает, что затрачены впустую государственные средства на никчемное дело, Котовский говорит, бледнея от ненависти:
- Это он, это он, тот самый зловещий эшелон!
Когда путаники, бездельники только болтаются под ногами, замедляя движение, Котовский снова видит пустые вагоны, перегоняемый взад и вперед порожняк.
Бойтесь зловещего эшелона!
3
- Как ты считаешь, Леля, можно жить, если не веришь в человека? По-моему, нельзя. Ведь если не верить, то что же тогда останется?
- Надо верить! - твердо отвечала Ольга Петровна.
Котовский задавал такой вопрос всем. Криворучко на это мрачно отозвался, что человеку отчего бы и не поверить, а если это не человек, а только притворяется человеком?
Котовский безгранично верил в хорошее, что заложено в каждом, во всех людях. С отвращением и ужасом смотрел на лодыря, негодяя, способного есть чужой хлеб, выискивающего теплое местечко и провозгласившего девиз: "Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать". Котовский недоумевал, глядя на такого нравственного урода: как это можно продребезжать через всю жизнь порожняком, как тот эшелон?
Но у него никогда не опускались руки, он всегда надеялся, что проснется в человеке то хорошее, что ему присуще, он верил каждому человеческому существу.
Сколько, например, возился и нянчился Котовский с Зайдером, человеком с темным прошлым и грязной душой!
Когда в Одессе была установлена Советская власть, Зайдер пришел к Котовскому и попросил принять его в отряд. Кем? Кем угодно! И начал он в бригаде вроде как по снабжению орудовать. И так орудовал, что вскоре на него стали поступать жалобы: там незаконно отобрал, тут незаконно взял словом, мародерством занимается. Несколько раз вызывал его Котовский, усовещал, предупреждал, что так дело не пойдет. Зайдер клялся и божился, что это в последний раз, что больше это не повторится, а если уж пошло на откровенность, то для кого он старался? Овес забрал у мужика? Так ведь сам-то Зайдер овса не ест? Овес-то Орлику достался?
Увы, Зайдер не исправлялся. Опять и опять всплывали на поверхность некрасивые его дела. Посоветовался Котовский с комиссаром. Решили, что нельзя этого человека в бригаде оставлять. Удалось пристроить Зайдера в военизированной охране сахарного завода.
Зайдеру новое назначение понравилось:
- Люблю сахарок. Могу и вам в случае чего подбросить. По старой дружбе. А что?
- Ничего подбрасывать мне не надо, а если это шутка, то плохая. Постарайтесь оправдать доверие на новой работе.
Ушел Зайдер, как всегда, с сознанием своего превосходства, с непоколебимой уверенностью, что уж он-то умеет жить.
А Котовский размышлял после его ухода:
"Скользкий он какой-то. Услужливо-нагловат и нагловато-услужлив. Выгнать бы его в три шеи к чертовой бабушке, но тогда он и вовсе по наклонной плоскости покатится. А тут все-таки при деле, все-таки среди трудового народа. Приглядится, обживется, может быть, и усвоит советский стиль работы".
Всякая несправедливость, всякое пренебрежение в работе и распущенность в личной жизни приводили Котовского в бешенство. После всего пережитого - после тюрьмы и каторги, лишений и гонений, а затем непрерывных боев и переходов - он стал вспыльчивым и несдержанным. Ольга Петровна просила его:
- Если ты вспылишь, если почувствуешь, что не можешь сдержаться, поворачивайся немедленно, иди ко мне и на мне израсходуй свою вспышку и свое раздражение.
Иногда Котовский вскипит, разъярится да вдруг вспомнит наказ жены - и сразу отляжет от сердца, только махнет рукой и рассмеется:
- Следовало бы с тобой покруче, да ладно, как-нибудь в другой раз.
Оснований для тревог предостаточно. Хотя и закончилась гражданская война, но и теперь не унимается вражеская рука. То там, то здесь появляются бандитские шайки. Здесь они подожгут ссыпной пункт, там внезапным налетом обрушатся на сахарный завод или ворвутся и перережут весь служебный состав железнодорожной станции.
Котовскому поручена охрана ссыпных пунктов Переяславского уезда, и он отдает приказ послать на каждый охраняемый пункт самых дисциплинированных, самых надежных бойцов бригады.
Центральный Исполнительный Комитет призывает напрячь все силы для изжития топливного кризиса. Объявлен топливный трехнедельник. Воинским частям Украины приказано принять участие в проведении этой кампании.
Насколько серьезно положение с топливом, видно из тех мероприятий, которые проводятся в армии.
- Топливный кризис принял угрожающий характер, железные дороги Республики остаются без топлива, - напоминает Котовский. - Топливный кризис в свою очередь сказывается на доставке продовольствия голодающим Поволжья. Требуются экстренные меры, чтобы справиться с этой бедой!
Котовский, в то время начальник 9-й кавдивизии, разрабатывает детальный план действий.
Курсанты дивизионной школы на все время трехнедельника переходят в оперативное подчинение чрезвычайной тройки. Курсанты, назначенные десятниками, получают по три пилы и по восемнадцати человек рабочих, обязанных выполнить определенный суточный урок - три кубические сажени дров. Группа курсантов занята точкой и правкой пил. Другие помогают сельским властям подобрать возчиков. Курсанты освобождаются от строевых занятий. Малейшее уклонение от работы рассматривается как невыполнение боевого приказа и ведет к преданию суду революционного военного трибунала.
Можно представить, как дружно начинают фырчать пилы, как звонко отдается в лесных трущобах говорок топоров. Даешь три кубические сажени дров на каждую группу пильщиков! Даешь топливо стране, истерзанной интервенцией и озверелой контрой, но полной молодого задора и неистощимой энергии!
Голод в Поволжье, а находятся такие куркули, что скрывают фактически засеянные площади, показывают меньшие, да и по тем не выполняют нормы продналога.
Снова Котовский круто берется за дело.
- Мы разместим полк в селах, не сдавших продналога! - гремит голос Котовского. - И обяжем эти села довольствовать полк фуражом до той поры, пока не будет стопроцентной сдачи продналога! Небось тогда поторопятся! О выполнении задачи доносить в ежедневных сводках.
И хотя сейчас не приходится скакать во весь опор под посвист пуль, врубаться во вражеские ряды, но сражения с неуступчивым, въедливым прошлым происходят на каждом шагу. Не так-то легко стряхнуть с наших ног прах старого мира.
Тревожный сигнал: пьянство в дивизии. Котовский отмечает в приказе, что это тем более преступно в настоящий момент, когда Республика бьется в тисках голода, когда от каждого человека ждут сознательности, дружных усилий!
Или как назвать - изменником или глупцом - начсандива, который во время боевой операции против банд оставил всех врачей в тылу, при обозе второго разряда, и отправил с действующими частями только фельдшера да лекпомов?
Сурово спрашивал Котовский. Как тут не прийти в бешенство? Как не принять крутых мер?
Может быть, другому человеку все эти будничные дела показались бы скучными, мелкими. Прославленный легендарный командир - и вдруг: дрова, борьба с пьяницами, наблюдение за действиями начсандива. "Да провались они пропадом! - сказал бы другой. - Подай мне дело по плечу, чтобы действовать - самое меньшее - в мировом масштабе!" Но Котовский был другого склада человек. Он с увлечением занимался самыми обыкновенными, житейскими делами и вкладывал в них всю душу.
Итак, за пьянство и разложение - судить! По делу начсандива назначить строгое расследование!
- А ты, Леля, говоришь - приходи домой и здесь срывай свое возмущение. Тут сама рука хватается за эфес!
- Вот как раз этого и не надо, - спокойно и рассудительно толковала Ольга Петровна. - Ты поступил правильно, что предоставил подыскать меру наказания ревтрибуналу.
4
О страшном эшелоне, который гоняли порожняком, Котовский узнал от Ивана Белоусова. Белоусов же рассказал, что творилось в Помголе.
Когда кончилась гражданская война, Котовский отправил своего питомца Ивана Белоусова в Одесщину сеять хлеб, налаживать хозяйство. Белоусов часто наезжал к Котовскому - то посоветоваться, то просто повидаться. Котовский любил этого напористого парня. И было радостно сознавать, что весь он, от начала до конца - творение Котовского, его продолжение в жизни, как ветка от основного куста.
Однажды Белоусов сообщил:
- Григорий Иванович! Вступил в партию!
Спеша выложить все наболевшее, Белоусов продолжал:
- Видел я, как проходили выборы делегатов на Десятый партсъезд. Вы даже представить не можете, какие жаркие сражения у нас были. Вот это бои! Я только теперь понял, что Григорий Иванович, направляя нас - ну, меня вот и других - в гущу жизни, оставался тем же командующим бригадой, вы понимаете меня, Ольга Петровна? Мы и теперь наступаем, обходим с фланга... берем в штыки...
- Конечно понимаю. А вы понимаете, Ваня, что такое Десятый съезд партии? Об этом съезде через сто лет будут вспоминать, он войдет в историю. На повестке был вопрос о единстве партии, вот о чем шла речь на этом съезде. Вполне понятно, что на съезд стремились попасть всевозможные троцкисты, анархо-синдикалисты и прочая дрянь. Потому и происходили у вас жаркие сражения. А сами-то вы за кого голосовали?
- Я-то? Какой вопрос! За тезисы большинства ЦК, конечно! За Ленина!
- То-то и есть. Все лучшее - за Ленина. У тех - никого, кроме крикунов и карьеристов.
Котовский умел слушать. Но его кипучая натура требовала немедленного действия, срочного вывода из сказанного. Ольга Петровна, наоборот, была спокойна, уравновешенна, говорила медленно, подбирая нужные слова.
- Крикунов и карьеристов? - подхватил Котовский, еле дождавшись, когда она договорит. - Теперь все, покричали - и хватит! Решение Десятого съезда - покончить с фракциями, очистить партию от неустойчивых.
- Григорий Иванович, кабы только неустойчивые...
- Знаю, есть и похуже. Вот и гнать их от живого дела! Ведь недосуг с ними возиться! Дел по горло, а тут всякая сволочь мешается!
Когда Иван Белоусов снова приехал - слаженный, быстрый, решительный, - он еще на пороге возвестил:
- Григорий Иванович! Не знаю, одобрите или не одобрите: решил работать в Чека. Это в моем характере будет. Что же, смотреть на этих гадов-оппозиционеров?! Вы только подумайте: меньшевики в Одессе выпускают свою газету! Орудуют! Эх, Григорий Иванович, на мой вкус - так не разводить бы с ними антимонии. Ведь они кто? Они похуже будут всяких деникинцев, они верткие. Я думал-думал... Как тут действовать? Шашки наголо? Нельзя. И оставить тоже нельзя... Вот решил в Чека пойти.
Так Иван Белоусов стал чекистом. Прошел специальную школу, с головой окунулся в опасную, напряженную работу. Много узнал такого, о чем раньше и не догадывался. Не раз бывал в переделках, но это для него не ново: ведь у Котовского был разведчиком, и, кажется, не на плохом счету.
Даже внешне Белоусов изменился. Стал сдержаннее, сосредоточеннее. Знал больше, чем говорил. Вообще стал не очень-то разговорчив. О чем так и вовсе умолчит. Упомянет - значит, дело завершено и папки сданы в архив.
- Слово - серебро, а молчание - золото! - приговаривал он.
На все смотрел теперь Белоусов иначе. Появилась умудренность. Горькая складка залегла в уголках губ. Стальные блики появились в серых глазах. Ведь он знал многое, о чем никто вокруг и не задумывался. Жизнь шла своим чередом. Люди трудились, после трудового дня отдыхали, развлекались, ходили в театр и кино, прогуливались в городском саду или ехали на юг и загорали на пляже. А Белоусов знал, что тут же, по этим улицам, под чужой личиной, разгуливает враг и что ему, Белоусову, поручено найти его и обезвредить. Может быть, именно в этом саду на отдаленной скамейке как бы невзначай очутились рядом двое, и один другому передал незаметно какой-то предмет... И точно ли два беспечных дружка сидят за столиком в пивной и, окуная нос в пивную пену, беседуют о том о сем? Не является ли один из них простофилей, не служит ли ширмой, а второй не выжидает ли назначенного часа, чтобы выстрелить из-за угла в советского деятеля?
Теперь-то Белоусов определенно знал, что война между старым и новым ни на минуту не прекращалась, только принимала иные, еще более коварные и опасные формы. И в этой войне требовались зоркость и хладнокровие, находчивость и специальная подготовка.
В редкие минуты досуга непосредственный начальник Белоусова, бывший матрос, старался на конкретных примерах привить Белоусову умение видеть, сопоставлять, делать умозаключения, по малейшим, для неопытного глаза неразличимым приметам нападать на след.
- Хотите, товарищ Белоусов, расскажу вам забавную историю про один обыкновенный тульский самовар? Давненько это было, то есть давненько в смысле сегодняшних скоростей, когда за несколько дней происходят иной раз события мирового значения. Ведь у каждой эпохи свои скорости.
Белоусов слушал и боролся с острым желанием разглядеть на щеке начальника старый зарубцевавшийся шрам. Вот и об этом шраме бы он рассказал!
- Так вот. Узнали мы адрес конспиративной квартиры антисоветской организации. Снаружи дом - прямо из детективного рассказа о каком-нибудь Шерлоке Холмсе. Мрачный, старый, и стоит на пустыре, особняком. Но внутри нас ждало полное разочарование. Хозяев нет, видно, кто-то предупредил, и они скрылись. Комнаты пустые. Пыль, паутина. Но нельзя сказать, что нежилой дом: в шкафике посуда, на стенах картины висят, на окнах занавески, в спальне - застланная кровать. Да. Так вот, часа четыре мы провозились, осмотрели каждую вещь, простукивали стены, заглядывали за рамы, лазили на чердак - ничего! Чисто-пусто! И вдруг меня осенило. Как же так? Стоит - красуется на кухонном столе полутораведерный тульский самовар. Возле русской печки и труба самоварная, и угли в корчажке, хоть сейчас нащепи лучины, ставь самовар и садись чаевничать. Все это так, а отверстия для самоварной трубы нет. Нет - и баста! Как же так нет? Должно быть! Мигом принялись мы известку отскабливать, глину пробивать - вот оно, отверстие, кирпичом заложено! Вынули кирпич - так и есть: тайничок. А в тайничке свертки. Таким-то образом самовар помог нам организацию раскрыть и обезвредить. Значит, вывод сам собой напрашивается, - заключил свой рассказ старый чекист, - не оставляй без внимания даже самовара. Когда-нибудь я расскажу, как один пойманный шпион все хромал и опирался на толстую трость. Следователю показалась хромота не очень естественной, он внимательно осмотрел палку, оказалось, что внутри нее спрятаны шпионские донесения, списки агентов, конечно, не просто фамилий, - номеров, под какими они числились... В нашей практике много разных разностей бывает...
После таких рассказов Белоусов стал по-другому воспринимать жизнь. Всюду он искал логическую связь, по внешним признакам старался угадать характер человека, которого видел впервые, старался определить его профессию, так же как определяют с первого взгляда возраст, состояние здоровья, даже уровень развития.
Много открытий делал Белоусов, приглядываясь ко всему окружающему. И соображения, которые он высказывал своему начальнику, иногда были трогательно-наивны, но порой своеобразны и полны глубокого смысла.
- Не все, кто ворчит и критикует, обязательно контрреволюционеры, рассуждал он. - И не каждый, кто сыплет революционными фразами, - поборник Советской власти.
- Это подмечено неплохо, - соглашался начальник Белоусова. - Критика, строгая критика для настоящего деятеля - компас, а для выскочки, возомнившего о себе, - кровная обида.
- А еще бывают оговоры, - продолжал Белоусов. - Наклепают на человека, иди и расхлебывай.
- Бывает и так, - посмеивался начальник. - На то нас и поставили на такую ответственную работу, чтобы мы вдумывались и разбирались. В нашем деле нельзя рубить сплеча, но нельзя допускать и прекраснодушия, дорого обойдется. Ленин предупреждает нас, что ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без грязной пены - без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов. Вот вы и посудите сами, какая филигранная работа возложена на нас, чекистов! Ну, мы и вылавливаем авантюристов. А сейчас враги взяли установку на бандитизм.
Начальник усмехнулся:
- Поймали мы как-то тут одного крупного бандита. Отпирается. Тогда мы показали ему карту, которой давно располагаем: на ней нанесены все подпольные белогвардейские организации крупного района... Карта настолько была у них секретной, что и ему показали ее только издали. А у нас она имелась. Вот так-то, дорогой товарищ Белоусов! Входите во вкус! Интересная наша работа!
5
А в доме Котовских жизнь шла размеренно, своим чередом.
Подъем в пять часов утра. И сразу же гимнастика и тренировка, а после гимнастики и тренировки обязательно облиться студеной водой - прямо из колодца, и затем растереть тело мохнатым полотенцем так, чтобы кожа горела и все поры дышали свежим воздухом, струящимся из сада, из открытого окна.
Какое благоухание по всей Умани, особенно когда цветет белая акация! Вся Умань утопает в садах, редко встретишь дом, вокруг которого не красовались бы яблони, не шумели листвой липы, не привлекали глаз нарядные мальвы. А какие тенистые аллеи в Софиевке, и сколько там птиц! Под самой Уманью раскинулся знаменитый Греков лес - с извилистыми тропинками, с солнечными лужайками, с зеленой тишиной.
Григорий Иванович Котовский стоит у открытого окна, глубоко дышит, любуется на белые облака, на лазоревое небо, на могучую сочную зелень, на просторные поля. Хорошая земля в Умани - роскошный чернозем. Недаром Уманский уезд выращивал, как помнят старожилы, одной только озимой пшеницы до пятисот тысяч пудов, да еще и ржи почти столько же. Сеют здесь и ячмень, и просо, и гречиху. И потихоньку-помаленьку начинает налаживаться хозяйство после всех бурь, после кровавых сражений. А давно ли по полям и холмам, не разбирая, что тут посеяно - рожь или гречиха, или ничего не посеяно, ничего не растет, кроме полыни и лебеды, чертополоха и бурьяна, мчалась лихая конница, громыхали тачанки, врезывались в землю глубокие выбоины от тяжелых батарей?..
Котовский смотрит вдаль. Вот прошел мимо товарный поезд. Снова тишина. Выползла во двор разбитая параличом, почти не способная двигаться старая генеральша, дряхлая, седая, с ожесточенными, скорбными глазами. Это бывшая хозяйка дома, муж ее, уездный воинский начальник, погиб во время этих грозовых лет, пронесшихся над Россией. Когда дом был отведен городскими властями для командира корпуса Котовского, старуху хотели выселить. Григорий Иванович воспротивился:
- Пускай себе доживает век на своем пепелище. Мне она не помешает, и я ей тоже не досажу.
Так и оставили ее на прежнем месте. Сама генеральша, видимо, не знала, что ее собирались выселить. Она вообще не воспринимала всего происходящего в мире. К тому же она была совершенно глуха. Заговоришь с ней - отвечает невпопад или же вообще ничего не отвечает и смотрит куда-то мимо. Поистине, она была воплощением сгинувшего старого строя - в своей бессильной ненависти, в своей безнадежной глухоте, в своем оцепенении. Какая-то сердобольная женщина приносила ей еду, выводила почти волоком на крыльцо, затем уводила обратно. Генеральша сидела на крыльце неподвижно, уставив потухший взор в одну точку. О чем она думала? Что вспоминала?
Главное украшение в просторном и светлом кабинете Котовского большая, во всю стену, карта России. Она совершенно необходима Котовскому, он хочет постоянно чувствовать близко, около, рядом всю страну, горячо любимую, славную социалистическую державу, ленинское детище, выпестованное им на радость и на образец всем трудящимся мира. Нужно большое сердце, необъятно широкая, как русские степи, душа, чтобы со всей беззаветностью, не щадя жизни, ринуться в бой, отстаивая ленинскую правду. Недруги кричат: "Отсталая страна!" Разве отсталая, если в каждом ее обитателе - в рязанском, самарском мужике, в полтавском хлеборобе, в винницком незаможнике - в решающий час обнаружилось величавое благородство, неслыханная отвага, готовность по зову Ленина встать рядом с питерскими пролетариями, иваново-вознесенскими ткачами, бакинскими нефтяниками, донецкими шахтерами, рядом с невиданной еще породой людей - коммунистами и не оробеть перед увешанными американским оружием, накормленными английскими галетами белогвардейцами, перед озверелым царским офицерьем, перед хладнокровными наемными убийцами, надерганными интервентами из четырнадцати государств? Нет, не отсталая! Высокоодухотворенная, достойная подражания, прославленная в веках страна, гордость человечества бессмертное поколение, отстоявшее революцию.
Такие мысли рождаются в голове Григория Ивановича Котовского при взгляде на огромную, во всю стену, карту огромной, в одну шестую часть света, страны. Другому бы ничего тут не увиделось, кроме желтых, зеленых, голубых пятен, линий и кружочков, крупных и мелких названий городов и сел. Нет, Григорий Иванович видит иное! Он видит, как движутся по всему необъятному пространству лесов и полей, горных ущелий и цветущих равнин отряды и роты, полки и дивизии, как захлебываются и надрываются пулеметные очереди, ухают орудия, как с винтовками наперевес идет в атаку пехота, как звенят и врубаются во вражеские полчища безотказные клинки.
История огласила смертный приговор преступному капиталистическому миру. Глянув в черную зияющую яму, готовую его поглотить, обреченный цепляется за края могилы, в приступе ярости он хотел бы увлечь за собой все живое, все, чему предстоит жить и красоваться. Он понимает, что новый, коммунистический строй неизбежен, что он несравнимо лучше и что он обязательно придет.
Сначала чудовище пытается задушить прекрасное дитя еще в колыбели. На защиту встает все, что есть лучшего на земле. Тогда изуверу ничего больше не остается, как всяческими ухищрениями замедлять ход истории, всеми способами мешать, всеми приемами вредить. Убивать, тащить все, что подвернется под руку: золото так золото, пшеницу так пшеницу. Угонять из наших гаваней принадлежащие нам корабли, с проворством опытного контрабандиста увозить сибирский лес, драгоценности, даже новые, только что выпущенные советские серебряные рубли и полтинники, даже старинные картины, даже старинную утварь из особняков - и стулья пригодятся!
Но цель тут иная. Сначала взрывать мосты, приводить в негодность паровозы, сжигать города и убивать, убивать все равно кого, все равно за что, лишь бы больше... Топтать посевы, окружать блокадой, стрелять из-за угла... А затем горланить во всю глотку до хрипоты, что вот он - хваленый социализм, вот он - новый строй, видите сами, - ничего у них не получается: голод, нищета, разруха, пещерный быт, развал! Они даже и одеваются не по моде! У них даже нет жевательной резинки! Дикари!
Чем больше вдумывался Котовский, чем усерднее изучал Маркса, Энгельса, чем внимательнее читал и перечитывал творения Ильича, тем ярче вырисовывалась перед ним потрясающая картина страданий, противоречий, рабства и унижения, в которые ввергнуто человечество царством доллара, тем длиннее становился перечень злодеяний, на которые кидается старый мир, понимая, что гибель его неминуема и что ему все равно уже нечего терять.
Да, карту любил Котовский, о многом она ему рассказывала. А гипсовая статуэтка - Ленин во весь рост - и бюст Карла Маркса на письменном столе довершали убранство строгого делового кабинета комкора.
Котовский твердо знает: надо полностью использовать кратковременную передышку, которую вынуждены дать враги. Все их атаки отбиты, им приходится разрабатывать новые варианты. Пока они там думают и собираются с силами, нужно хорошенько подготовиться к будущим боям.
Из каждой поездки в Киев или Харьков, а особенно в Москву Котовский привозит кипы книг, журналов, пособий, а затем штудирует их со всей напористостью и страстностью своего неуемного характера. Все размышления, все открытия, которые он делает, читая "Анти-Дюринг", или Дарвина, или ленинские статьи, он тотчас излагает своим товарищам, а прежде всего Ольге Петровне. Он спешит поделиться всем, что узнал, он не хочет быть скрягой и скопидомом, копить знания только для себя. Всем людям нести свет, всех приобщать к культуре!
На главную: Предисловие