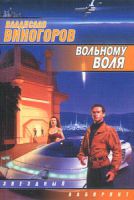VIII
Солнце вставало из-за восточного щита Севастополя — Сапун-горы: там в мае сорок четвертого взошла заря освобождения, окрашенная кровью героев.
Робкие и негреющие первые лучи осветили мокрые от росы крыши и Панораму, побежали по морю и открыли линию горизонта.
Факел восхода осветил обелиски, дома, будто выпиленные из сплошного куска нуммулита, и улицы с их первородной чистотой линий, вычерченных руками прекрасных зодчих — строительных бригад.
Тени становились короче. Высоты, затемнявшие бухты, как бы поднялись еще выше. Над чешуйчатой рябью вод летали фарфорово-белые чайки. На крыльях их погасли розоватые блики, зато их брюшки казались теперь голубыми. Ночные краски вымывались из оврагов, из самых затаенных щелей.
К Василию Архипенко возвращалось его утро. После мрака блеснули первые лучи. Поднявшись с койки и удивленно прижмурившись — свет показался ему ярким, — Василий нащупал войлочные туфли и, переборов слабость, добрел до окна, грудью упал на подоконник. Ему хотелось увидеть то, что могло уйти от него навсегда. Сознание вернулось к нему вместе с цепкой жаждой жизни, о чем говорили его глаза, — им нельзя не поверить.
Взъерошенные ветви голых каштанов, черный асфальт — будто классная доска, исчерченная мелом.
На веревке детское белье. Не фуфайки матросов, не бязевые кальсоны, а… как называются эти рубашонки, пахнущие молоком, и снегом, и безвозвратно утерянным детством?..
Все внутри Василия всколыхнулось, колокольно застучало сердце о кисти сложенных рук… В памяти возник водоворот в трюмах, удар по телу, темная глубина, пузырьки воздуха у глаз и ушей и ослепительный, внезапно погасший свет. А перед этим?
Кубрик «Истомина». Тела спящих. Тускло мерцают лампы. Взрыв разбудил кубрик. Боевая тревога вышвырнула всех из недр корабля, из его металлических, клепаных и сваренных лабиринтов.
Мгновенно падают по блокам барказы. Буковые весла свирепо рвут черную воду. На помощь попавшим в беду! На помощь матросам! Под пламенем прожекторов неслись барказы, как мошки на огонь. Кто у румпеля? Мичман Татарчук. Матвеев впереди, как и положено ему по расписанию команды. Одновалов справа, рядом. С Матвеевым в одной паре Бараускас. С Куранбаевым, будто отлитым из чугуна, Столяров. Ему трудно было тягаться с башкиром, но старался он славно, себя не щадя. Столяров погиб. Память не могла подвести, слишком отчетливо и резко отчеканивались в ней все подробности.
Василия не любили; он не знал, что нельзя угодить всем, что нужно жить проще, как ясный Шишкарев или даже въедливо-нудный правдолюбец Архангелов.
Столяров овладел собой. Но будто волчок жужжал на поверхности обнаженного мозга. Каштаны? На их голых ветвях не горят белые свечи. Стволы отпилили. Деревья плывут. Среди них Столяров; его улыбка…
— Нянечка! Кто-то стоит за спиной. Возьмите его. Упадет еще, расшибется.
Столяров никому не угождал перед смертью. Не пытался показать себя героем перед товарищами. Но товарищи узнали наконец о нем полную правду. Он первым безбоязненно бросился к трапу, когда корабль накренился и над всеми нависла стена. На трапе скопились раненые, звали. Матросы держатся друг за друга. Таков закон братства. Столяров не успел увернуться. Что-то тяжелое свалилось на него…
— Товарищ Архипенко! Кто разрешил? — Няня перекинула одну его руку за свое плечо и, поддерживая другой за поясницу, увела.
Упреки продолжались и после того, когда она уложила больного:
— Вася, Вася, так же некрасиво. Сынок ты, сынок…
Пусть ворчит, пусть наклоняется, дышит над ним, поправляет одеяло, иногда прикасаясь к его пылающему телу прохладными пальцами. Удивительное слово «сынок». Два года не слышал…
Слабость. Ноги онемели. Рук не поднять. Не разлепить век. Приходится дышать чаще, чтобы справиться с толчками крови. Шаги няни удаляются. Кто-то ее зовет. Неизвестно. Василий не знает, что окружает его. Сегодня первый день жизни… Вернуться домой… А туда далеко, как до звезд… Жатва… Фонарь с круглым стеклом. Застывшая масса комбайна. Ефим Кривоцуп. Его ноги торчат из-под комбайна. Кривоцуп оживляет машину. Маруся свернулась калачиком, дремлет. Надо укрыть ее. Чем? Пиджаком? Бушлатом? Мать перебирает стебли сорго. Ее глаза ласкают. Веточки морщин, словно сережки вербы…
— Братки, когда же день? Братки… — стонет матрос с эсминца, бывший рудокоп бассейна Кривого Рога, с повязкой на голове.
Временно потерявший зрение, он повторяет одно и то же упрямо, как маньяк: «Братки, когда же день?»
— Сынок, утро уже наступило, утро, — успокаивает его, словно капризного ребенка, та же няня. Она говорит тихо, так как лежащий рядом раненый Матвеев заснул только перед рассветом.
— Утро? Братки, когда же день?
— Почему не разрешают передачи? — гудит рулевой, долго пробывший в студеной воде; у него перелом плеча. — Моченую антоновку мать привезла… Обожаю… Моченую…
В палате стонали, требовали, по-разному мучились тридцать моряков; их фамилии и номера были выставлены у изголовья коек; на них были заведены истории болезни.
Няне, жене старика боцмана с Килен-балки, поручили этих молодых ребят, и ей хотелось всех поставить на ноги, успокоить, обласкать заботой и словом.
— Сережку из двадцать третьего кубрика не приметил, Прохорчука? — невнятно выговаривает матрос с обожженным лицом.
Вопрос обращен в пространство, неизвестно кому.
— В забегаловке ошвартовался твой Сережка, — отвечает также в пространство человек, неподвижно лежащий на спине: неглубокие шрамы на его руках присыпаны стрептоцидом.
— Так нельзя, — няня приблизилась, шепчет одними губами: — Сережи нету… Похоронили. Там же. На Северной…
— Ишь ты как неладно, — бормочет матрос, понявший свою ошибку. — Прошу извинить… Тогда… верно… шутки глупые…
Город — вместилище многих людей — по-прежнему жил своей деятельной жизнью. Нельзя слишком долго горевать или предаваться отчаянию. Петр понимал это с предельной ясностью, и это помогало ему. Жизнь не остановилась, никто не оробел, не опустил рук, а пройдет время — и забудут. Иначе жить нельзя.
Пусть свершилось зло или произошла ошибка; но ни то ни другое не достигло цели. Призраки оставались призраками. Урок простой мудрости преподал Петру Гаврила Иванович, а оптимизму научили Хариохины. Петр был доволен, что превозмог стеснение и повидался с ними. Катюша приняла самое горячее участие в судьбе Василия. По совету Вадима она выписала сюда сестру и не давала Галочке запутаться в горе или сделать неправильные выводы.
В госпитале побывали Михайлов и Ступнин. Вероятно, их побудило к этому не только официальное положение. Петру не пришлось поговорить с ними, слишком много ступенек насчитывалось на служебной лестнице. Однако Петр понял — им не только трудно, а и по-человечески больно.
Как бы то ни было, решение, однажды принятое, оставалось неизменным — Василий должен продолжать службу на флоте, и нельзя пытаться разубедить его в этом.
Мать прислала жалостливое письмо на имя командующего флотом. И но стилю, и по обилию иностранных слов можно было догадаться, что Степан Помазун вполне оправился после падения в бочке.
Прошла неделя после приезда Петра в Севастополь. Можно было многое обдумать, о многом посоветоваться. Острота первых переживаний прошла, боль притупилась, хотя полностью и не могла заглохнуть, пока брат еще боролся за жизнь. Сегодня из госпиталя пришло радостное известие.
— Насилу его от окна оторвала, — обрадованно сообщала няня, — сила у него не вся ушла, извините.
Письмо пусть пока отлежится в кармане. Петр знал, как неприятны посторонние ходатайства, затрагивающие воинские интересы. Даже для него, командира фермы, бригадира-животновода, хуже ножа просьбы, расстраивающие его планы. Свинаря отпусти на самодеятельность — виртуоз на гармошке, двух доярок требуют на баскетбол, а Анечка Тумак, оказывается, принесет больше пользы в качестве швеи — научилась кроить юбки. А кому коров доить, свиньям задавать корм? Так и на флоте.
Размышляя над такими вопросами, Петр дошел до телефонной станции. Как и подобает на междугородной — очередь. Чтобы выписать разговор с неизвестной ей станцией, девушка с небесно-синими глазами дважды уходила советоваться; вручив квитанцию, недовольно стучала пальцем в жестянке, выуживая оттуда монеты для сдачи.
Петр был очень мирно настроен в это удачное утро. Не сетовал, не упрекал, ни на кого не сваливал обшей вины. Тут уж город такой. Если братская могила, так на сто тысяч. Да и вообще вся наша земля свидетель сражений. Когда-то сами жители сожгли Рязань с детьми и женами. В Киеве татары младенцев в огонь бросали. Украина вся кровью облита. Флот Черноморский сколько раз топлен? А все стоит нетленно, стоит…
— На аппарате колхоза вызванный абонент, — отрывисто объявила Петру телефонистка и перешла на Ростов-Дон.
Вызванным абонентом оказалась Маруся. Мать не сумела прийти из-за опасной гололедки. Маруся обещала тотчас вернуться домой, успокоить ее. Взявший трубку после Маруси Камышев просил не спешить, пробыть сколько нужно в «командировке по общим делам», Василий ведь не исключен из списков артели. Последний вопрос о кормах телефонистка оборвала в самом разгаре.
— Прожорливее, что ли, стали коровы, — безулыбчиво пошутил полтавский колхозник. — Во всех областях недокорм, выходит, то же самое и на сытой Кубани…
Петру не хотелось портить себе настроение, ввязываясь в скучную беседу о рыхлости кормовой базы, и, попрощавшись с словоохотливым старичком, вышел на улицу, по плечи окунулся в толпу. Воскресный поток принес его к автобусной остановке, втиснул в машину, выплеснул там, где надо, и довлек до госпиталя.
В просторной приемной дежурил знакомый по прежним посещениям военный врач, немолодой, наголо бритый мужчина с короткой фамилией. Родные и близкие требовали допуска в палаты, врачу приходилось запасаться терпением и тактом, чтобы со всеми обойтись по-хорошему.
«Вот так всегда: чего-то недосмотрели, кого-то проглядели, а простой люд отвечай, — подумал Петр, прислушиваясь. — Там виноваты водолазы, там — лопоухие начальники, а страдают ни в чем не повинные матери и отцы, жены и братья… И врачам попадает. Их в каких-то врагов зачисляют, а ведь им-то, бедолагам, достается в первую голову. Кто-то кости ломает, а ты склеивай…»
За людьми Петра сразу и не заметить. Ему и не хотелось выделяться, спешить. Приемных часов хватит. К тому же нельзя слишком утомлять брата. С любопытством вслушивался он в звонкий голос Галочки, перебившей врача-мученика.
— Раньше разрешали, а теперь почему запрещаете? — требовала разгоряченная девушка, по-видимому редко встречавшая отказы благодаря своей красивой молодости.
— Почему? — врач колебался недолго. — А потому, девушка, что раньше мы не совсем были уверены в благополучном исходе. Теперь мы верим и хотим убедиться полностью. Ему лучше. Радуйтесь, а не кричите на меня. Успешное начало — это еще не всегда хороший конец, нельзя относиться легкомысленно. Надеюсь, я выражаюсь вполне популярно? — Врач поклонился и сосредоточившись, выслушал говорившего тихим голосом пожилого рабочего с орденом Ленина на мятом лацкане черного пиджака.
— Пожалуйста. Вы можете пройти. — И, проследив за тем, как гардеробщик-матрос подал и помог надеть халат человеку с орденом Ленина, сказал только одной Галочке, не отступавшей от него. — Помните того, в вашей палате, — «братки, когда же день…»? Это его отец.
Девушка только пожала плечами, протиснулась к Аннушке и Томе и умостилась между ними на белой скамье с высокой спинкой.
— Бюрократ, — сказала Тома и, не шелохнувшись, принялась за пирожок.
— Нет, ты не права, Тома, — мягко отозвалась Аннушка, — его тоже надо понять. Если бы каждый лез в твой буфет, Тома, как бы ты его шуганула? — Аннушка взяла подрагивающую Галочкину руку с красными ноготками и положила ее на свою крепкую, шершавую ладонь. — Доктор сказал: Василию лучше. Чего же еще ты от него хочешь?
— Не мог пропустить в такой момент! — Тома была непреклонна. — Из Одессы сломя голову летела деваха. Для чего? Для того чтобы Васькин бред услышать? И теперь, когда восстал от бреда, нельзя. Что у него, раны открытые, голова проломлена?
Аннушка продолжала спокойно:
— То-то и плохо. Если бы из него хоть полстакана крови вышло, тогда можно нажимать на медиков. А если без единой царапины, значит, дело в основном в этом контейнере, — она указала на голову. — Может быть, по его состоянию ему ничего, кроме белого потолка, видеть не положено. Согласна, Тома?
— Врачи — истуканы бесчувственные. Но тут я полностью солидарна. — Тома вытерла губы платочком и заметила Петра, издали наблюдавшего за ними с улыбкой: вероятно, слышал их болтовню. — Петя, что же ты замаскировался? Иди к нам.
Галочка обрадовалась Петру, уступила место на скамье и, когда он отказался, больше не присела. Голоса разговаривающих людей сливались в ровный гул. В палаты пускали по очереди, не больше чем по двое к одному больному. Коллективно от какой-то школы принесли книги и цветы — те самые памятные для Петра розы южнокрымского побережья; девочки в форменных платьях кокетливо-строго осматривались перед высоким зеркалом, бесшумно надевали халаты и уходили на цыпочках, внутренне встревоженные и прекрасные в своей детскости.
— Могла бы я с ними вместе проскользнуть?
— Могла, Галинка, — ответил Петр, — между вами разница небольшая. Только, если хочешь, проскользнем вместе?
Без труда Петру удалось договориться с врачом, намекнув на преимущества любви перед пенициллином. Петя помог Галочке завязать тесемки халата. И действительно, она могла посоперничать с медициной, в этом сила женщины, ибо от нее — жизнь.
…Город стремительно убегал из-под колес грузовика. Проносились мимо бульвары, улицы, баллюстрады. С каждым витком крутого шоссе открывались новые виды. Там, где когда-то матросы взрывали руины и долбили киркой, высекая искры из спекшихся от пожаров камней, там стояли безупречные здания, не обезображенные ни единым осколком снаряда. Не кто иной, как насмешливый Павлик Картинкин, захлебываясь от восторга, восхвалял все красоты возрождения и того, что еще будет построено. Иногда его смуглые татуированные руки отрывались от баранки руля, и шоферское сердце Петра Архипенко невольно вздрагивало.
— Ты запомни, Петя: к очередному авиарейсу тебя доставляет не кто-нибудь, а Павлик Картинкин! Полный морской порядок!
Тут он заметил своего душевного друга Ивана Хариохина, в царственной позе возвышавшегося на троне помостей.
Повинуясь могучей власти его рабочей руки, плыла над горами бетонная стена, зачаленная витой сталью троса. Бетон не для дота, а для жилья.
— Привет баловню славы! — наполовину высунув из кабины свое гибкое тело, вопит в полный голос самый юный в Севастополе водитель. — Да здравствует Аннушка!
Строители поджидали их проезд, очевидно заранее предупрежденные Картинкиным. Провожая машину, махали руками и рабочим инструментом. Даже Гаврила Иванович приподнял кепчонку, хотя видел он куда хуже, чем прежде. Ворон, вероятно, и в самом деле живет триста лет, но человеку, к сожалению, гораздо раньше положен предел.
Еще на две — три минуты бухта показалась под ногами, перевернулась и скрылась.
— Кое-каким коробкам приходит амба. — Павлик нажал на газ. — А матросы будут всегда, пока плещут моря… — Склонный к философии, Картинкин продолжал: — Такая же амба обществу без хлебороба, поскольку человек должен кушать. Амба обществу без крыши над макушкой, и потому да здравствует вечный друг человека — строитель! И… — Картинкин озорно прикусил нижнюю губу ровными белыми зубами, и весело блеснули его глаза, — никогда приличный водитель не выйдет в тираж. Машин выпустят, скажем, миллион — сколько потребуется нашего брата? Ты понял, как точно решает Картинкин задачи?
Можно было позавидовать Павлику, его предельно ясному мироощущению. Как хорошо, если безошибочно решены все задачи. А может, и нет? Куда же тогда стремиться?
Последний раз открылась бухта на крутом повороте. Павлик сбавил скорость. Зоркие глаза бывшего старшины сигнальной вахты схватывали многое: причал на той стороне и дорогу к улице Леваневского, а выше — большие дома офицеров эскадры. Часовня-Стотысячник. Старинные блокгаузы с амбразурами, похожими на гнезда ласточек. У мыска Корабелки «Истомин». Его нетрудно узнать. Там Вадим Соколов, батя Ступнин, Карпухин, там снова будет Василий.
А там, где на обелиске памяти погибшим кораблям взлетает орел, окунаясь, будто в расплавленную лаву, в кильватерном строю плыли подводные лодки. Одна за другой они входили в главные ворота крепости, мимо бережно хранимых старинных пушечных равелинов и современных ракетных фортов.
— Петя, узнаешь субмарины? — упруго-черное, как авторезина, лицо Павлика озарено высшим патриотическим восторгом. — Я обожаю их, Петя! Послушай, как красиво звучит — субмарина!..
Подводные лодки скользили у подножия великого города, и их длинные стальные тела напоминали снаряды, штурмующие глубины Вселенной.
Матросское сердце Петра Архипенко признательно стучало. Пока существуют моря, кому-то для счастья людей нужно быть их властелином.
Назад: VII
На главную: Предисловие