Книга: Блокадная книга
Назад: «НИКУДА Я ИЗ ГОРОДА НЕ ПОЕДУ»
Дальше: «МАЛЫЙ РАДИУС» ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КНЯЗЕВА
ПЕРВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ
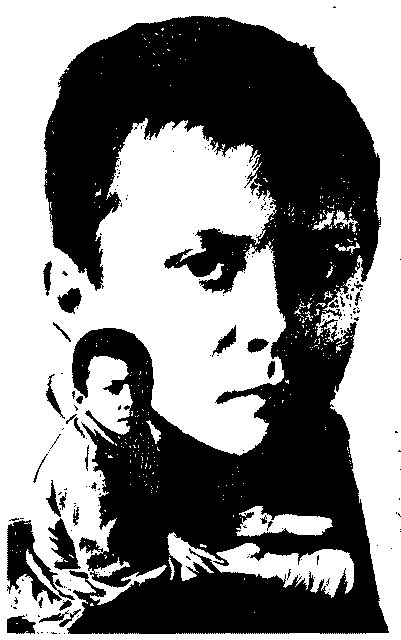
Мы записали немало рассказов об эвакуации детей, первой и последующих. Г. А. Князев добросовестно подчеркивает, что радиус его наблюдений малый. За его пределы он выходит осторожно, чтобы не сбиться на слухи: Князев по первой мировой войне знает, как много этого добра в тяжелые времена. Об этом, кстати, предупреждает и народный опыт: «В голод намрутся, а в войну наврутся».
Где возможно и где это к месту, будем расширять малый радиус Г. А. Князева посредством дополнительных документов — дневников, рассказов, воспоминаний других ленинградцев.
Мария Васильевна Мотковская как раз занималась в те дни эвакуацией детей. Помнит события во всех подробностях. Немолодая уже женщина, она до сего времени тяжело переживает, что так все получилось…
«— Теперь мы понимаем, что ехали мы навстречу немцам, а тогда никто этого не понимал. Что вы! Район очень хороший, глубинный район. И я была назначена уполномоченным райисполкома по вывозу ребят в Новгородскую область, конкретно в Демянск. И прямо туда мы и приехали. У меня было две легковые машины и одна грузовая. Со мной послали еще двух товарищей ответственных, и мы поехали.
— А кем вы работали?
— Я заведовала в это время районным отделом народного образования Кировского района, членом исполкома была. Вот поэтому меня и направили. У меня был очень хороший заместитель, Анатолий Иванович Тодорский, который должен был отправлять, а я — как следует размещать ребят. И вот я… Не знаю, стоит ли об этом говорить?
— Говорите, пожалуйста.
— Получилось так. Мы приехали туда… Надо вам сказать, что Демянск, как говорится, поднял весь район, чтобы встречали ленинградских детей… Мы наметили, где будет какая школа размещена, все такое. А через несколько дней последовало распоряжение срочно опять эвакуировать ребят.
— А вы уже и ребят завезли?
— Да, ребят разместили. Но они только две-три ночи там переночевали, и последовал приказ. Да и мы уже чувствовали, что быстро движется немец.
— А много ребят с вами было?
— Много, очень много.
— Несколько сот?
— Где там сот — больше! Сейчас уже не скажу сколько. Вообще из Кировского района было около шести тысяч эвакуировано, но часть потом была отправлена в Ярославскую область. Вот так, значит, реэвакуация. Понимаете, какая история? Были у нас и ясли. Мы ясли тоже вывозили, и почти без отдыха им тоже обратно нужно было ехать. А тут уже, знаете, немец подступал (Демянск в сорока километрах от железнодорожной станции Лычково). Немцы там сбросили чрезвычайно большой десант, и мы оказались отрезанными. Потом тут были истребительные отряды организованы и десанты все рассеяли. Ну вот, мы стали ребят реэвакуировать.
— На чем вы возвращались?
— Ой! Кто на чем мог. Тут нам армия сильно помогла. Военные машины стали вывозить ребят. Я даже помню такую деталь: еду, смотрю — на обочине стоит автобус, значит, наших ребят везут. Я соскочила. Что же они стоят? Ведь вывозить скорее надо! Подхожу: шофер лежит на земле, спит. Я подошла к нему, говорю: «Товарищ!» А он говорит: «Ну, теперь я могу ехать. Я ведь четыре ночи не спал. Я немножко отдохнул и поеду. А так я боялся дальше ехать». Помню — хороший был день, прекрасный день. И началась бомбежка в Лычкове, на железнодорожной станции. В это время в Лычкове были ребята Дзержинского района. Они были еще дальше, чем наши, — в Малоосьминском районе. Где ребята? Я вскочила в какой-то большой дом, потому что знала, что ребят всегда в хороших домах размещали. Сидит воспитательница. Около нее ребята. Сколько их! И вот как бомба разорвется, они кричат: «Мама! Мама! Мама!» Ужасно! Я первый раз в жизни ребятам соврала: «Не бойтесь! Не бойтесь! Это наши!» Сама вышла на крыльцо. Вы знаете, он летает так низко, посмотрит, нажимает — и бомба сразу разрывается. Потом говорили, что они не знали. Ерунда! Прекрасно знали и, конечно, прекрасно видели. Дело в том, что Дзержинский район уже грузился в эшелон в это время, и он бомбил ребят на вокзале. Прекрасная погода. Ребята хорошо одеты. Он прекрасно видел, кого бомбит… Ну, потом, когда мы всех уже из Лычкова отправили, я говорю: все-таки поеду в Демянск, потому что я должна проверить, всех ли мы увезли.
Приехали туда. Все сельсоветы обзвонили: остались только раненые. И вот, как сейчас помню, идем мы с Василием Яковлевичем в больницу, где лежат наши ребята, идем, а тут ведут немцев пленных (там, наверное несколько десантов было). Говорю: «Черт возьми вас! Подождите, подождите, придет время, когда наши летчики тоже будут ваших детей убивать!» Василии! Яковлевич мне говорит: «Что ты, Мария Васильевна! Разве будут наши летчики детей убивать? Это они вот так только убивают». Стали отправлять раненых детей. Мы их отправили в Ленинград хорошо: с врачами, с медицинскими сестрами. А сами мы в Кировскую область поехали. Тут мне на помощь Ленинград прислал заместителя моего. Он приехал помогать, потому что с родными, с родителями творилось ну что-то ужасное! Еще бы! Потому что, что есть дороже ребенка?!
Не доехали до станции Котельнич — пришел в поезд начальник станции, говорит: «Тут едет уполномоченный Кировского исполкома?» Я говорю: «Да». — «Знаете, передали из Кирова и рекомендовали вам не выходить в Котельниче». Я говорю: «Почему?» — «Там вас толпа родителей ожидает!..» Вы понимаете, в чем дело? Родители приехали в Котельнич вслед за нами. Понимаете? Анатолий Иванович, мой помощник, говорит: «Мария Васильевна, не выходи! Давай я выйду!» — «Ты что. Моя совесть чиста. Я выйду сама. Ты мне даже не говори про это!»… Ну, приехали в Котельнич. Я помню, у меня такое светлое пальто было, знаете. Иду я, и женщины — а! а! — начинается шум. Ну, видят, что я спокойна. Я говорю: «Знаете что, товарищи, если так будете себя вести мы ничего не разберем. Спрашивайте, что кого волнует я вам на все отвечу, потому что всех детей увезли кроме тех, которых ранило». — «Тех-то мы встретил тех-то мы видели», — это они говорят. Я говорю родителям: «Прежде всего вам скажу: буквально всех вывезли. Вот не могу только сказать об одной девочке, о Беловой…» Потом они меня об отдельных ребятах уже начали спрашивать. И я не могу сказать, где одна девочка. Понимаете! Мы взяли списки, все перерыли — нет! Я говорю: «Подождите, все равно я ее найду!» И что мне запомнилось: я в светлом пальто. Там шпалы. Я прямо села в этом светлом пальто! А женщины: «Встань, встань! Что ты села? Пальто-то испачкаешь!» Я, значит, вижу, что настроение уже другое. Ну хорошо. Я два дня там пробыла, в Котельниче, все эту девочку маленькую разыскивала. Она оказалась в том же интернате, но под другой фамилией. Я матери говорю: «Вон иди туда, там твоя дочка…» Потом я поехала в Киров, и там мы стали уже жить.
— Скажите, какова судьба этих детей? Их куда-то дальше на восток увезли?
— Нет, зачем? Большая часть осталась в Кировской области, но туда был не только наш район эвакуирован, там было около шестидесяти тысяч эвакуированных детей».
Но многие вскоре все-таки вернулись в Ленинград.
Вернулась в Ленинград и Александра Михайловна Арсеньева со своей дочкой.
«— Когда мы вернулись в Ленинград, то нас спрашивали: «Беженцы, вы откуда? (Причем я ленинградка коренная, у меня и дедушка ленинградец). Вы откуда, беженцы?» И только кассирша из нашего магазина узнала нас и говорит: «Ой! Да это соседи наши, это же из этого дома, я их хорошо знала!»
— Это вы вернулись такими не похожими на себя?
— Мы вышли из вагона кто в пальто, кто в халатике. Мы очень долго ехали до Мги, что-то около трех суток. Когда начался обстрел вдоль вагонов, сразу были раненые и убитые. Мы детей — под лавки, матрацы на них клали, закрывали матрацами, сами бросались на них.
— В вагонах?
— В вагонах. Бомба попала в паровоз… Все-таки нам удалось, когда было затишье небольшое, выбраться из вагона. Уже стало темнеть. Станция горела. Никого не найти. Это был какой-то ужас! Начальник эвакопоезда сидел на пне и держал голову вот так — обхватил руками. Он потерял семью и не знал, кто где… Как только начинался где-то обстрел, какой-то звук — мы сразу тут же в канаву, детей вот так, носом в землю, и сами а них. И одеяла набрасывали. Потом, когда мы вставали, дети все равно уже сами натягивали на головы. Вот так они закрывались этими одеялами. Потом, значит, мы увидели, что движется что-то — все в елках и движется. Это, видимо, поезд маскированный. Мы к станции, к рельсам, смотрим — состав! Он медленно, медленно но так двигается. Остановится и опять двигается. Все закрыто. В одних дверях стоит солдат и говорит: «Девушка! Дай-ка мне этот матрасик. У меня раненых тут полный вагон». — Я даю ему матрасик и бросаю дочку.
— Туда? В вагон?
— Да! Бросаю дочку и говорю: «Довези!» И сама хочу сесть. Но колеса покатились. А дочка уже в вагоне! Вдруг вижу — колеса остановились! Я бегом. Догнала, говорю: «Возьми меня!» А он: «Не могу! Не могу! У меня плюнуть негде. Спичку зажечь нельзя. Раненые стонут». Я говорю: «Слушай! У меня для раненых есть бутылка вина. И в заплечном мешке кое-что». (Заплечный мешок у меня большой.) Он говорит: «Ну давай сюда!» Бросила я мешок и сама уцепилась. Он меня, не знаю как, за спину, и втащил в вагон. Потом из мешка я все отдала для раненых. И изюм мой пошел по рукам, и вино пошло по рукам. Все стонали. Я сняла с себя пальто, потому что они мерзли, раненые. А когда на Сортировочной нам нужно было разгрузить раненых, оказалось, что мое пальто все в крови. И я осталась в одном платьице, а холод был собачий!
— Это сентябрь?
— Это было тридцатое сентября, уже Мгу взяли. Приехали. Стали разгружать раненых. Мне тут сказали: «Дочка уже на вокзале, найдешь ее там». И я ее потом нашла. Она под колонной сидела на вокзале. Кто-то ей ватник дал, ватником закрыл ее.
— Как вашу дочку звали?
— Моя дочка — Евгения Порфирьевна Строганова. Она руководитель группы в проектной организации.
— Тогда ей было пять лет?
— Да, пять лет. Вот дочка, она меня действительно спасла. Кто — кого, не знаю. Вот так. Умненькая, неразговорчивая. После Мги она долго не разговаривала ни с кем. И в школу пошла, на пятерки училась, а не разговаривает…»
Надо было срочно вывозить детей из районов, которые оказались в опасности. Занимались этим и ленинградские организации, и местные власти, и сами матери. Лидия Охапкина тоже пыталась вернуть сына.
«Как-то после обстрела я побежала с дочуркой на руках за хлебом, надо было успеть, пока стихло. Передо мной стояла женщина лет 60–63, в очках, на вид интеллигентная, и стала говорить, что вот, мол, возьмет хлеба на два дня вперед и поедет за внуком. Я спросила ее, куда был отправлен ее внук. Она ответила, что с 21-м детсадом (помню точно номер), т. е. туда, куда и мы отправили своего сынишку. Я, вначале нерешительно, стала просить ее привезти и моего. Она стала отказываться, уверяя меня, что дороги бомбят, что не дай бог нас убьют и она не хочет на душу брать грех. Я с ней, конечно, соглашалась, но другого человека у меня нет, и я за нее ухватилась, мысленно, конечно, и стала ее так просить, умолять, от волнения я заплакала. Потом взяла ее руки и стала их целовать. А сама все говорю: ну пожалуйста, прошу вас, пожалейте его и вот этого ребенка, что у меня на руках. Как я с ним поеду, чем кормить, умоляю вас, поймите, помогите, я никогда не забуду вас — и тому подобные слова.
Она согласилась, даже сама чуть прослезилась. Она спросила, сколько лет мальчику. Я сказала, что скоро будет шесть (наврала). Он крепкий, хорошо бегает и может пешком пройти, если нужно будет, много.
На следующий день надо было через райсовет взять документ на возврат ребенка. Я думала, что это просто, но оказалось — довольно трудно. Когда я опять, конечно с девчушкой на руках, приехала к Московскому райсовету, там уже собралась толпа женщин-матерей. Все они были взволнованы, шумели, а некоторые даже кричали: «Верните наших детей! Пусть лучше они с нами здесь будут, а умрем, так вместе, хотя бы будем знать, как и где». Мужчина, который выписывал документы, успокаивал как мог, объясняя, что хотели как лучше, и торопливо выдавал документы. Он дал мне доверенность, которую я сделала на ту женщину. Сразу же поехала к ней. Дала ей весь хлеб, что у меня был, и немного денег. Она в этот же день уехала. А я с нетерпением стала ждать их возвращения.
Однажды я только что вернулась из бомбоубежища после отбоя тревоги измученная, усталая, сразу легла и заснула. Вдруг проснулась от страшного артобстрела. Я вскочила, спала я тогда не раздеваясь, в платье и чулках. Схватила Ниночку, рюкзак, в котором было приготовлено самое необходимое для ребенка, документы и деньги. Выбежала из комнаты в коридор. Окна — стекла — у меня давно уже были разбиты. А в тот момент от взрывной волны и сотрясения слетела дверь с петель. Я выбежала на крыльцо и увидела, что снаряды летят прямо по нашей улице и так низко, примерно не выше электрических столбов. Я не знала, что мне делать, бежать в бомбоубежище я опасалась, так как они там летают, бомбят. Я так перепуталась, что руки и ноги у меня дрожали и ослабли и дочка стала выпадать из рук. Я села на крыльцо. Колени у меня ходили ходуном. Ко мне подбежала соседка и взяла ребенка. «Что ты здесь сидишь, успокойся, пойдем в бомбоубежище, — говорила она. — Смотри, они падают и разрываются чуть дальше, вон где-то у карбюраторного завода».
Вдруг мы услышали страшнейший взрыв, и пошел черный дым. Это снаряд упал где-то недалеко, где стояли цистерны с бензином. Но бензин все же успели вывезти, а пустые, огромные, чуть ли не с наш дом баки остались, так вот туда и попал снаряд. Запахло гарью, горела земля, пропитанная керосином и бензином, потоки дыма и огня распространялись все дальше и дальше. И мы испугались, как бы пожар не достиг нашего дома. А ближайшие дома сгорели. Небо было багрово-черным с красно-желтыми сполохами.
Я вернулась домой. Один сосед, старый дядька, повесил мне дверь, и я стала варить дочурке жиденькую манную кашку на керосинке. Я решила, как только мне привезут Толяшку, немедленно куда-нибудь выехать.
Прошло две недели. Все это время Лидия Георгиевна жила в страшном напряжении в ожидании сына.
«Наконец, смотрю как-то раз в окно и вижу, стоит та женщина с двумя мальчиками. В одном я, конечно, узнала своего, скорей выбежала, схватила его, стали целовать и благодарить ту женщину. Она стала рассказывать, что дорога была очень трудной. Они ехали немного на поезде, когда бомбили — выбегали из вагонов. Много шли пешком, ехали на попутных грузовых машинах, на подводах и лошадях… Я поблагодарила ее. На следующий день я опять поехала в райсовет за посадочными документами. Куда ехать, я не знала. Да мне было все равно, лишь бы выехать из Ленинграда. Мне хотелось в Саратов, где жила моя мама, это через Москву, а туда поезда не ходили. Время было конец августа. Но поездка моя сорвалась, потому что я вновь потеряла Толика. Когда я подъехала к райсовету, у его дверей было очень много народу — больше женщин, но были и мужчины. Все они хотели выехать, и пришли тоже за документами. Дверь была закрыта. Все волновались, кричали, стучали в дверь. Я Толю отвела в сторонку, чтоб его не задавили. Вдруг объявляют воздушную тревогу. Дверь открыли, меня туда втолкнули люди, которые были позади меня. Я успела крикнуть: «Толик, беги скорей сюда!» — но потом я огляделась и его не нашла. Я просила открыть дверь, но ее не открыли. Я стала оформлять скорей документы, попросилась без очереди, объяснив, что у меня остался на улице ребенок. Волновалась ужасно. Когда дали отбой воздушной тревоги, я выбежала скорей на улицу, стала искать его, кричать: «Толя! Толя!» — но его нигде не было. Я стала спрашивать всех, кто попадался: «Не видели ли мальчика, одетого в белую панамочку и синее пальто, такого кареглазого, пяти лет?» Мне все отвечали: «Нет, нет». Я кинулась в одну сторону, все продолжаю спрашивать: «Не видели ли мальчика?» — потом в другую. Все отвечают: «Нет, нет». Где он сейчас, боже? Что мне делать, куда бежать? В такой сутолоке, далеко от нашего дома, он же потеряется. Вроде адрес наш он знает, так ведь мог забыть, перепутать!
А по Международному проспекту едут танки по направлению к Средней Рогатке и идут строем солдаты. Многие одеты по-военному, а многие в штатском. Они идут на передовую. За ними, вернее, с ними идут по бокам провожающие, конечно больше женщины. Некоторые плачут. А впереди — духовой оркестр.
Я подумала — не побежал ли мой сынишка за ними? Я кинулась за ними, кричу все время: «Толя, Толя!» Дочка на руках у меня плачет. Наверное, хотела есть и вся мокрая. Догнав строй, я шла рядом, смотрю по сторонам и продолжаю звать: «Толя, Толя!» Люди и солдаты думают, что я зову кого-нибудь из них. Некоторые оглядываются. Я устала, волосы растрепались. Берет, что был на голове, потерялся. Вижу, что сына нет, я села на какое-то крыльцо и заплакала. Думаю: ну вот все, значит, мне завтра не уехать, значит, мне суждено остаться в Ленинграде. Ко мне подошла одна женщина и спросила, что я плачу. Я ей объяснила, что потеряла мальчика, а завтра надо с утра уезжать. Она мне посоветовала обратиться в милицию, она должна помочь. Когда я туда пришла и стала говорить, милиционер не мог ничего понять, так как я говорила сквозь рыдания. Он дал мне стакан воды, чтобы я успокоилась. Когда я в конце концов успокоилась и объяснила, милиционер стал звонить в другие отделения, повторяя, что потерялся мальчик, звать Толя, привести в такое-то отделение. Я прождала его до 9 часов вечера. Дочка плакала, я ее никак не могла успокоить. Мне предложили идти домой, так как без пропусков после 9 часов не разрешалось ходить. Я поехала домой.
Всю ночь, конечно, не могла заснуть. Ни о каком отъезде я, конечно, уже не думала. На следующее утро я поехала в милицию. Толика я сразу увидела, он сидел на окне. На щеках размазанные слезы. Мы оба обрадовались, он заплакал, милиционер рассказал, что он все старался сесть на трамвай, ехать домой, говорил, что мама его ждет. Сел, куда-то поехал, но где выходить не знал. Сел, конечно, не на тот трамвай. Потом стал плакать. Его какая-то женщина отвела к постовому милиционеру, а тот, лишь когда сдал пост, отвел его в отделение, но в другое, там он и ночевал. И только утром привели его в это отделение.
Было 10 ч. 30 минут, а ехать надо было в 8 часов утра. Мы уже опоздали. Снова хлопотать сегодня или завтра я не могла. Этот случай с потерей сына решил, почему я не выехала из Ленинграда».
Случай этот определил дальнейшую судьбу Лидии Охапкиной и ее детей. Если бы сын не потерялся, если бы не было в тот момент тревоги, если бы из милиции его привели сразу, когда мать еще ждала его, то она с детьми уехала бы на следующее утро, не осталась бы в Ленинграде и дальше все сложилось бы иначе. Мысленно она часто возвращалась к этому случаю, от которого вела отсчет поворота своей судьбы.

