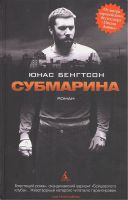Часть 3. Долгая дорога с войны
И снова эшелоны потянулись на восток. Только возвращались они теперь не гордой армией покорителей на «тиграх» и «мессершмиттах», а в грязных вонючих вагонах, под бдительной охраной НКВД, оборванцы, заросшие щетиной, без знаков различия – пленные солдаты и офицеры разбитого германского вермахта. Многие – больные, с незажившими, гноящимися ранами. В вагоне, где находился Эрих, собрали офицеров разных родов войск. Несколько валиков соломы, которые чудом оказались в вагоне, отдали тяжелораненым, остальные же сидели прямо на влажном, заплеванном полу. Сквозь небольшую щель между стеной вагона и потолком, через который проникал в полутьму куцый лучик света, Эрих увидел мелькающее небо. То голубое, чистое, то серое, дождливое, то затянутое светлыми невесомыми облаками. Доведется ли ему еще когда-нибудь подняться на самолете к этой манящей синеве?.. Небо, которое он любил больше всего на свете до тех пор, пока не встретил Хелене. С Хелене не могло потягаться даже небо.
«Лена… Лена…» казалось, выстукивали колеса состава. Он уже не чаял когда-нибудь свидеться с ней. Не чаял остаться в живых. Хотя ему повезло несколько больше, чем многим из его спутников: благодаря заботам медсестер в советском госпитале его раны, по крайней мере, успели затянуться, но до сих пор беспокоили при каждом резком движении колючей, пронизывающей болью. Он не обращал внимания на боль. Он уже ни на что не обращал внимания. Его не мучил вопрос, который мучил других, как мог случиться такой крах? Он был свидетелем всех этапов его развития, он сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить катастрофу. Его не жгла ненависть к фюреру, обрекшего его на нынешнее плачевное положение – бессмысленность запоздалых обвинений и прозрений была для него очевидна. Ему не в чем было упрекнуть своих командиров и своих сослуживцев, даже Геринга и фон Грайма, не говоря уже о Хелене Райч и Андрисе фон Лауфенберге. Единственное, о чем он думал постоянно – это о судьбе своей матери. Он надеялся, что война пощадила их дом в Вюртемберге, что она не осталась без крова. Слава богу, Вюртемберг попал в американскую зону оккупации. Ему часто представлялось лицо матери. Что она знает о нем? Убит? Пропал без вести? Может ли она вообразить, где сейчас находится ее сын и что его ждет? Впрочем, это даже хорошо, что не может. Пусть лучше думает, что он погиб в бою. Конечно, горе ее будет велико, но все же это легче, чем узнать, что ему предстоит пережить и какова будет его смерть на самом деле. В госпитале он пытался разом поставить на всем крест. Услышав по радио, что Хелене жива, он решил выполнить свой долг и, как положено офицеру, предпочесть смерть от собственной руки позору плена. Ничто больше не удерживало его. Мама? Хелене? Он попал к русским, а это значит, ему все равно никогда уже не увидеть тех, кого он любит, не вернуться в Германию. Большевики расстреляют его или сгноят заживо в какой-нибудь яме с помоями.
Тайком он собирал таблетки снотворного, которые приносила ему молоденькая медсестра, кажется, ее звали Клава. Она с любопытством рассматривала его в первые дни, а затем начала смущаться, краснеть, все время старалась быть рядом и только мешала этим. Он опасался, что она разгадает его обман, обнаружит, что он не принимает таблетки, а только притворяется спящим. А она проявляла к нему большое внимание, и иногда, открыв глаза, когда она не видела, что он не спит, он наблюдал, как она старательно прихорашивается перед зеркалом. Он заметил, она хотела ему понравиться и раздраженно реагировала на своего ухажера, грубоватого русского майора их пехоты с типично славянским широким, улыбчивым лицом, который пару раз заезжал в госпиталь с грудой трофейных подарков. Будучи невольным свидетелем того, как Клава хвасталась дарами перед подругами, Эрих даже мог определить, в каких берлинских магазинах добыл лихой майор эти трофеи, надо полагать, бесплатно. Но Клаву он расстраивать не стал. В конце концов, уж кто-кто, а он хорошо знал, что война – есть война. На ней все бесплатно: и вещи, и женщины, и сама жизнь. Солдат солдату – не судья, тем более, побежденный победителю. Ему был предоставлен шанс защитить свою страну и он – один из многих прочих, кто мог упрекнуть себя в том, что не справился с этой задачей. Что ж теперь… Он почти не понимал, что пыталась втолковать ему порой Клава, но по тому, как она недовольно, даже можно сказать ревниво, хмурилась, когда он доставал вырезанную из газеты фотографию Хелене, ее переживания были ясны. В отдельные моменты, когда становилось легче, его даже забавляла эта ситуация. Однажды, когда Клава была занята подготовкой к перевязке, он, приподнявшись в кровати, внимательно рассмотрел ее. Она уловила его взгляд. Повернулась. Он не отвел глаз. Видимо, она прочла в его взгляде, что он прекрасно знает о ее отношении к нему. И что-то еще, от чего ее бросило сначала в краску, а затем в смертельную бледность. Девушка уронила инструмент и, даже не подобрав его, выбежала из палаты. После этого события она не показывалась два дня. За ним ухаживала медсестра постарше. Через два дня снова появилась обиженная, насупленная Клава. Она, вероятно, ожидала, что он будет спрашивать о ней, но он не спрашивал. «Простите, фрейлян, – подумал он про себя, встречая Клаву обычным приветствием, словно ничего не произошло, – но мне сейчас не до романтических историй». К этому вечеру он уже насобирал достаточно таблеток, чтобы заснуть навсегда. Только бы эта Клава здесь не вертелась. Женщины покоренных народов всегда ищут расположения победителей, но мужчины поступают по-другому. Конечно, она молоденькая, хорошенькая, хотя и вздорная. Жаль будет, если ее из-за него накажут. Он уже шел на поправку, и рядом с ним не сидела постоянно медсестра, как прежде, и это его устраивало. Накануне приезжали какие-то люди, наверное, из спецслужбы и сняли первый допрос. Узнав, что он – майор Люфтваффе Эрих Хартман, командир эскадрильи «Рихтгофен», сбивший триста двадцать пять самолетов, они переглянулись. Затем стали рыться в каких-то бумагах, должно быть, сверяли со своими документами, потом достали его офицерскую книжку, сохранившуюся в кармане летного мундира и изъятую при обыске. Их лица не понравились Эриху, а тем более, манера обращения. Впрочем, в его положении вряд ли приходилось рассчитывать на лучшее. Не приходилось рассчитывать ни на что.
Дождавшись темноты, когда все вокруг успокоилось, он достал припрятанные таблетки, в последний раз взглянул на фотографию Хелене и прижал ее к губам: «Прости меня, но так лучше. Можешь ли ты представить себе, что Эрих, твой Эрих, который не боялся ничего и никого, и в бою не разу не отвернул от лобовой… Эрих, который так страстно любил тебя ночами, твой ас, будет молить о пощаде большевиков? Заигрывать с их девицами и цепляться за жизнь в их вонючем плену? Никогда! Офицер должен погибать в бою. Я был готов расстаться с жизнью, как подобает солдату, но случайно остался жив. Теперь пришел час осуществить свои намерения. Как это сказал тебе Геринг? «Рейхсмаршалов не вешают»? Командиров их эскадрилий – тоже. Ты – другое дело. Ты – женщина. Ты всегда была в первую очередь женщиной, а потом уже полковницей летчиков. Этим ты отличалась от всех мужиковатых солдафонш в юбках. Ты была красивой женщиной, Лена. Поэтому тебя любили. Многие. Но я любил тебя сильнее всех. Ты это знала. Даже сильнее того, высокопоставленного и блистательного, память о котором так долго мешала нам быть счастливыми. А срок нашего счастья оказался так короток. Ты должна жить, Лена. Как ни горько мне думать об этом, но ты должна, просто обязана стать счастливой, любить и быть любимой, рожать детей. Ты должна жить за всех нас. За меня, за Андриса, за каждого из твоих парней. Господи, какая же ты должна быть счастливая, Лена! За меня, но без меня… Для тебя я уже несколько месяцев как мертв. Ты думаешь, я погиб в том же сражении, что и Лауфенберг. Что ж, я согласен. Если ты когда-нибудь будешь нас вспоминать, вспоминай нас такими, какими мы были: молодыми, отчаянными, дерзкими, смело встречающими смерть в бою. Ты же знаешь, мы оба были такими. И оба любили тебя. Наверное, для тебя не будет откровением узнать, что Андрис был к тебе неравнодушен. Он умело скрывал свои чувства. Из нас двоих ты выбрала меня. Он был благородным человеком, он уступил. И нашу любовь он хранил и оберегал порой лучше, чем мы сами. Я понял, что он чувствует к тебе, когда собрался лететь в Прагу и признался ему о наших отношениях. Он потому так и не остановил свой выбор ни на одной из красавиц, которых менял с невероятной легкостью, что ни одна из них не была похожа на Хелене Райч. Вспоминай о нас, Лена. Живи за нас. И будь счастлива. Обязательно…»
Он сжал в руке фотографию, высыпал в рот целую горсть таблеток, усилием воли заставляя себя их проглотить. Постепенно он почувствовал, что окружающие предметы стали терять ясность очертаний в его глазах, поплыли, закачались, мысли стали путаться. Он провалился в беспамятство. Последнее – ярко, четко, как будто было совсем рядом как еще в недавнем прошлом, когда Хелене засыпала у него на плече – ее лицо, обрамленное пышными светлыми волосами, любимые, прекрасные, немного грустные глаза…
Он не знал, что в американском госпитале Хелене Райч не спала в ту ночь. Она не могла найти себе места. Сестра, которая находилась рядом с ней постоянно, и Крис Норрис, часто ее навещавший, не могли понять, что с ней происходит. Да она и сама не понимала. Состояние Хелене значительно улучшилось, она выздоравливала, ей уже разрешали вставать и ходить по палате. Но в ту темную, беззвездную ночь она не ходила, она металась, ей было душно, и она рвала воротник больничной одежды. Потом распахнула окно – в лицо ударил поток остужающего ночного воздуха. Что случилось? Она и сама не могла объяснить. Но воспоминания об Эрихе, преследовавшие ее постоянно, неожиданно обострились в эти часы. Она видела его перед собой, словно он был рядом, живой, и только через призму его образа она воспринимала, вяло, замедленно, весь остальной мир – живые, реальные лица Эльзы, Криса, врачей. Она ложилась в постель, закрывала глаза – он стоял перед ней, высокий, статный, в летной форме, но, как ни странно, спиной. Она видела его коротко остриженные белокурые волосы на затылке, жесткий воротник мундира, на плечах поблескивали погоны. Но вот он оборачивается, смотрит пристально, без улыбки. Безжизненные, остановившиеся глаза, прозрачные, пустые глаза мертвеца. Хелене резко поднялась – образ не исчез, он все еще стоит перед ней. Она прошла по палате, нервно закурила сигарету – образ не растаял, он следовал за нею. Точнее, не образ – взгляд. Взгляд, который страшнее всего, который убедительней всех свидетельств доказывал ей, что Эрих… мертв. Он словно спрашивал ее, спрашивал из потустороннего мира теней: как ты, Лена? Ты помнишь обо мне? Нестерпимой болью ее сердце сковали тоска и отчаяние. Она прислонилась щекой к оконной раме, ночной ветер дул ей в лицо. Она крепко сжимает губы, чтобы не застонать. Не зная, что с ней происходит, Норрис пытается отвлечь ее, но все его попытки безуспешны. Эльза догадывается и потому молчит. Наконец Крис уезжает. Оставшись наедине с сестрой, Хелене дает волю чувствам: упав на постель, лицом вниз, она рыдает, сжимая руками края подушки.
Его спасли. И он не понимал сам, благодарить ему или проклинать эту назойливую русскую девицу по имени Клава, которая явилась как раз в тот момент, когда он потерял сознание. Увидев, что ему плохо, она позвала врачей. Ему сделали промывание. Но сразу же после этого гуманность закончилась: прямо из госпиталя, не дожидаясь, пока он окончательно вылечится, его отправили в лагерь, где содержали пленных немецких офицеров разных родов войск. Несколько дней он пролежал на голой земле, промокнув до нитки под ночными дождями и изнывая под полуденным солнцем, без единой маковой росинки во рту. Однако голод мучил не так, как жажда. Ему казалось, у него все пересохло и слиплось внутри, горело сухим огнем. По ночам он жадно хватал ртом дождевые капли, пытался собрать в горсть немного воды. Потом его стали водить на допросы. Нестерпимо хотелось курить. Но сигаретой угощали за угодничество: похвалить советский строй, донести на кого-нибудь из своих соседей.. Он не угодничал и не доносил.
На допросах офицер советской спецслужбы всячески старался доказать ему преимущество советского строя и склонить к сотрудничеству с новыми властями – вести пропаганду среди пленных. Тут Эрих узнал, какая судьба ожидает Германию и ее народ. Вместо одного вождя ей навязывали другого – только инородца, вместо одной диктатуры – другую, диктатуру победителей. Ему приводили в пример фельд-маршала Паулюса и комитет «Свободная Германия». Слово «свободная» в устах произнесшего его комиссара звучало до того неестественно, что Эрих позволил себе улыбнуться: свободная от кого? От вас? Это вряд ли… Он наотрез отказался быть осведомителем, агитировать солдат за новую власть и выступать с публичным осуждением Гитлера и нацизма в угоду Советам. Конечно, размышляя про себя о масштабах происшедшей трагедии, он по-другому теперь видел и понимал все, что ему пришлось пережить в предшествующие годы и в чем довелось принять участие. Однако своими горькими выводами он не намеревался делиться с большевиками, тем более, заискивать перед ними и лебезить. За неуступчивость и «просто возмутительную» как выразился следователь, «иронию по отношению к великой миссии советского народа», его били. Жестоко били. Держали в карцере и снова били. Его спасали только молодость да природное, «летное» здоровье.
Потом однажды на рассвете загнали в темный, душный вагон, где пленных было – что селедки в бочках. Загремели засовы, поезд тронулся – никто не знал, куда. Известно стало гораздо позже – на восток, «восстанавливать, что разбомбили», как выразился язвительно энкэвэдэшник.
Мерно постукивали колеса на рельсах. Утром кормили чем-то отвратительным. Накануне не кормили вовсе. Сигарета давно превратилась в прекрасный, несбыточный сон. Раны ныли, болели, ныл от неудобной, вечно скрюченной позы, позвоночник, воняло грязным бельем и давно не мытым телом. Кто-то, не стерпев до остановки, опорожнился прямо в вагоне, кто-то решил заняться сексом с соседом, которым опять оказался Эрих. Везет же ему на педерастов! Пришлось поучить незадачливого «ухажера» так же, как и того, в Минске, кулаком. Чтоб остудился. Эрих осторожно достал из кармана мундира смятую фотографию Хелене из газеты. Протянул руку к тонкому лучику света, пробивающемуся в щель, чтобы получше разглядеть на фото лицо, каждую черточку которого он знал наизусть. «Только ты мне помогаешь, Хелене, – подумал он, – только ты. Сама того не подозревая».
Эшелон прибыл в Минск. Так три года спустя он снова оказался в столице Советской Белоруссии, но уже в качестве пленного. С пронзительным лязгом и уханьем поезд остановился. Вагоны не открывали. Но хорошо была слышна перекличка часовых, спешивших занять свои места. Поезд, остывая и выбрасывая пары, словно рассказывал своим сородичам на станции о далеких землях, и чужих, покоренных городах, откуда он доставил свой невеселых груз. Наконец с шумом раздвинули двери. Молоденький конвоир в синих галифе и фуражке НКВД громко крикнул по-русски: «Выходи!» и сделал красноречивый знак автоматом. Его поняли. Пленные стали спрыгивать из вагона. В основном это были пехотинцы, но попадались танкисты и, как Эрих, летчики. Весь состав был оцеплен охраной НКВД. Оглядевшись, Эрих понял, что их доставили на большой железнодорожный узел. Вокруг было безлюдно – ни души. Скорее всего, вокзал «обезлюдили» специально, к их прибытию. Эшелон загнали в тупик, все пространство рядом с ним хорошо просматривалось охраной, только вдалеке виднелись товарные вагоны, слышались отправные гудки. Эрих сразу догадался, что станция располагалась недалеко от крупного города. Неожиданно внимание к себе привлекла стайка ребятишек, выскочивших из-за пустых отцепленных вагонов. Чумазые, худые, малорослые, казавшиеся слишком маленькими в мешковатых, на вырост, залатанных мамками одеждах. Они по-детски, непосредственно, с шумным весельем гоняли пустую консервную банку, словно это был футбольный мяч. Их радостный смех прозвучал разительным контрастом натянутому, мрачному молчанию, царившему среди пленных. Его прерывали только грубые окрики конвоиров. Старший из ребят или, может быть, он был просто выше остальных ростом, случайно оглянулся и … замер. За ним остановились остальные. Столпились тесно за его спиной. С любопытством, смешанным со страхом, глазели они на солдат поверженной вражеской армии. Их детская память еще хранила жестокий образ оккупанта и гортанные звуки чужого, непонятного языка. За мальчишками появилась группка взрослых. С молчаливой враждебностью, исподлобья смотрели они на пленных – закутанные в платки женщины, старик в треухе и рваном ватнике. Стояла глубокая осень. Было холодно. На горизонте собирались свинцовые снеговые тучи. Дул сырой, пронизывающий ветер. Пленные мерзли в своих изрядно потрепанных мундирах – последнем летнем обмундировании рейха весны сорок пятого года, – многие были простужены, но об их лечении никто не беспокоился. Пританцовывая на ходу, чтобы согреться, они с нетерпением ждали, когда конвоиры закончат разгрузку и проверку и отведут их куда-нибудь под крышу. Хотя бы под крышу. Тухлая похлебка – вот предел непритязательных мечтаний. Конвоиры же не торопились. Они переговаривались между собой, просматривали списки. Группа взрослых приблизилась к пленным. К ним примкнули ребятишки, попрятавшись за мамкины юбки. Внезапно одна из женщин, стоявшая ближе остальных к военнопленным, смачно плюнула под ноги бледному пехотному лейтенанту и крикнула по-русски. Офицер отпрянул от неожиданности. Конвоир лениво махнул рукой на женщину, мол, пошла вон, отвяжись… Но женщина, ободрившись его равнодушием, наклонилась, взяла комок грязи и швырнула им в лицо лейтенанта. Ее примеру сразу последовали остальные. Комья грязи, плевки, злые, бранные слова летели в пленных под свист и хохот ребятишек. Конвоиры, наблюдая за сценой, даже улыбались. Их забавляло это зрелище. Стоявший рядом с Эрихом высокий полковник вермахта с горечью и стыдом отвернулся. «Вот, что мы заслужили, майор, – пробормотал он, – вот чего мы достойны…» «От кого? От врага? – ответил Эрих спокойно. – Что ж тут удивительного? Я думаю, на родине нас не стали бы так встречать. Но вернемся ли мы на родину, вот это вопрос». Внезапно все стихло. На серой, заляпанной грязью машине к конвоирам подкатил начальник. Высунувшись, он что-то громко прокричал, очень зло. Конвоиры сразу прекратили улыбки и отогнали народ, восстановив порядок. Машина укатила. Ребятишки разбежались, за ними разошлись и взрослые. Конвоиры построили пленных колонной и погнали их по проселочной дороге, вязкой от пролившихся дождей, вдоль железнодорожного полотна.
Эрих поймал себя на мысли, что узнает места, куда их привезли. Та самая станция Колодищи, где в 1944 году располагался штаб Люфтваффе. Вот так поворот! Он уже не рассчитывал попасть сюда. Как много в его воспоминаниях было связано с этой станцией. Сохранился ли военный городок, где они жили? Общежитие, дом, где располагался штаб, аэродром за лесом? Или русские уже все снесли и сравняли с землей? Необыкновенно ярко ему вновь вспомнилась Хелене, как она входила в офицерское общежитие, безукоризненная, строгая, подтянутая. С уничтожающей иронией она отчитывала тех, кто провинился, сдержанно хвалила отличившихся. Как усталая, измученная бессонными ночами, расслаблялась в его объятиях, когда они наконец, оставались наедине. Вспомнились капризы Зизи. Отправляясь в Берлин, Хелене простилась с ней в Оберзальцберге. Они простились как подруги, бывшая служанка плакала, обнимая свою госпожу. Она собиралась вернуться домой в Зальцбург и обещала всегда помнить о том, что они пережили вместе за шесть лет войны. А еще ему вспомнилась простоватая, скованная русская уборщица, которая влюбилась в Андриса. Возвращаясь с совещания в Берлине, он привез ей духи «Шанель», и она не знала, как ей распорядится таким богатством, плакала и смеялась от счастья. Все вспомнилось ему, как будто было вчера. Тоскливо заныло сердце. Ничто уже не повторится. Он возвращается сюда пленным. Пройдя по кругу славы, он вновь пришел к исходной точке, откуда начинается другой круг – круг позора. И слава богу, по этому, второму кругу, ему придется пройти одному. Без Андриса, который успел умереть, как подобает солдату, и без Хелене. Один – за всех, за целый полк. Он поднял голову. Это суровое серое небо, неприветливое и хмурое, помнит рокот моторов их боевых машин, помнит, как взмывали ввысь серые «акулы-мессершмитты», помнит яростные воздушные схватки, в которых смелостью и мастерством противники не уступали друг другу. Помнит, как они возвращались на аэродром, всякий раз не досчитавшись кого-то, и к этому невозможно было привыкнуть. Ему казалось, прокричи он сейчас имена погибших здесь друзей, они откликнутся ему с Небес. Но что он скажет им? Что от всего полка в живых остался он один? Что он не нашел своей пули в бою, и ему пришлось увидеть то, что им, к их счастью, пережить не довелось – крах Германии и ее оккупацию? Они умирали в небе над Белоруссией, еще веря, что победа придет, что война не затронет их дом, что большевистские орды остановят на границах Восточной Пруссии. Они умирали, надеясь на будущее, которое так и не наступило. И теперь он оказался здесь, чтобы возвестить всем, погибшим над Волгой, над Днепром и над Бугом, что Германии больше нет. Часы пробили полночь и остановились 2 мая 1945 года. «И мы, оставшиеся в живых, не смогли защитить ваш дом, не смогли защитить ваших матерей, вдов, сирот. Мы сдали их на милость победителей. И потому я не окликну вас. Мне стыдно, что я остался жив. Мне стыдно даже поднять глаза к небу, с которого вы смотрите на своего командира. Он посылал вас на смерть, а сам посмел остаться в живых. И вот теперь бредет уныло по грязи, без погон и оружия, а вы наблюдаете за ним с заоблачной высоты…» Эрих знал, отчего кошки скребли на сердце. Сколько молодых летчиков за время войны прошло через его эскадрилью «Рихтгофен»! Для каждого из них имя Хартмана было легендой, каждое его слово, а не то что приказ – законом. Они боготворили его. И вот они погибли, а он, герой и их кумир, месит грязь по белорусскому тракту, когда его многочисленные награды какой-нибудь русский умелец в солдатской гимнастерке давно пристроил в дело, выдернув из них бриллианты, сапфиры и все остальное. Бесславно ткнулся носом в политую кровью и дождем землю под Берлином его самолет. Ткнулся и сгорел. Легенда закончилась. Остались только эти унылые, размокшие под дождем поля, дороги да неприветливое, полное осуждения небо над головой. Лица, лица, сотни лиц. Он не мог представить прежде, что так четко вспомнит каждого летчика, служившего в его эскадрилье за два года. И не только летчиков, даже механиков.
Вот и дотянулся безликий, серый караван людей до остановки. Дырявая крыша сарая – укрытие от мелкого, косого осеннего дождя.
– Сядай тут, – скомандовал старший из конвоиров. Вокруг – то ли поляна, то ли стадион, обнесенный высокой оградой, поверх которой накручена колючая проволока. Сквозь щели в заборе опять мелькают любопытные мальчишеские глаза. Но на забор не влезешь – боязно, да и колется. От голода, усталости ноги едва держат их. Повалились, кто где стоял. Закутавшись в брезентовые плащ-палатки, конвоиры заняли свои посты вокруг стадиона на вышках. Даже пулемет взгромоздили. Полковник вермахта, случайный сосед Эриха, вдруг побледнев, схватился за сердце.
– Что с вами? Вам плохо? – Эрих склонился над ним. Потом вскочив, знаком позвал конвоира. Высокий, плечистый детина в надвинутом на глаза капюшоне, с автоматом наперевес, подошел неохотно, вразвалочку.
– Ну, чаво надо-то? – гаркнул, ткнув Эриха дулом автомата в грудь.
– Лекарство нужно, – Эрих сказал по-немецки и, отдавая себе отчет, что конвоир вряд ли уразумеет, что требуется, указал на лежащего ничком полковника.
– Лекарство, врач, – повторил он.
– Медицин что ли? – проворчал детина, коверкая немецкие слова, – вам что тут, поликлиника или санаторий, фрицы? Нет медицин. Нихт. Ферштейн? – и сердито ударил полковника прикладом автомата в бок, – мне только одна морока.
Затем громко икнул, развернулся и уже направился прочь. Но не тут-то было. Эрих схватил его за рукав и с силой рванул к себе:
– Веди врача, сволочь, – проговорил негромко, веско, разделяя слова. Плевать, что по-немецки. Поймет. Они все понимают, только делать не хотят. По выражению лица поймет.
– Леха, он чего?! – тонко взвизгнул конвоир, неожиданно для своей мощной комплекции, – да я тебя сейчас, сволочь ты нацистская … – он задергал рукой, но Эрих крепко держал его и глазом не моргнул на его угрозы, – на советскую власть руку поднимать. Леха! – снова крикнул своим, – пристрелю! – он толкнул Эриха в грудь. Но тот устоял на ногах – сзади его поддержали, один из младших офицеров при полковнике.
– Оставьте, оставьте его, майор, умоляю вас, – простонал полковник, – лучше не связываться.
– Молчи! – конвоир ударил его сапогом в грудь.
– В чем дело? Я здесь слышал что-то про советскую власть. Идеологическую работу проводите, товарищ? – наконец по-явился кто-то из советских офицеров. На вид интеллигентный, молодой человек лет двадцати пяти. Был ли это тот самый Леха, к которому конвоир все время обращался или кто-то другой, Эрих не знал, да это его и не интересовало, – что случилось? – спросил офицер по-немецки, оглядывая пленных и, тут же перейдя на русский, накинулся на конвоира: – Тебе что приказано, охранять, а не вступать в дискуссии…
– Да я, товарищ капитан, они сами начали, митингуют, – солдат опустил автомат и сдвинув капюшон, оправдывался.
– У вас есть претензии? – спросил офицер Эриха.
– В моем положении было бы весьма нескромно иметь претензии, – ответил тот язвительно, – я просил вашего солдата позвать господину полковнику врача или принести лекарство. Но он меня не понял. Это даже чудо, что господин полковник все еще жив…
– Ты чего, Петрушкин, не соображаешь, – офицер резко повернулся к конвоиру, – я же сказал, возьми разговорник. Если сказать не можешь, так хотя бы прочти. Или читать ты тоже не умеешь? Быстро беги за доктором, – приказал он, – пошевеливайся мне…
– Так, товарищ капитан, – попытался возразить конвоир, – они же…
– Беги, – тот сжал кулаки, – тебе было сегодня объявлено, что завтра парад? – конвоир кивнул, – а знаешь, – продолжал офицер, – как нам с тобой зады начистят, коли у нас подохнет кто-нибудь до мероприятия. После мероприятия – пожалуйста, а до – никак нельзя. Сколько положено по списку, столько и представить должны. Не человеком меньше. Уразумел, дурья твоя башка?
– Так точно, товарищ капитан! – конвоир убежал.
– Лекарство сейчас принесут, – сообщил офицер Эриху, – доктор обязательно навестит вас. Если еще будут вопросы, обращайтесь. Я дал указания, охрана будет внимательнее.
– Большое спасибо, – Эрих склонил голову, – обратимся.
Действительно, скоро появился врач. Полковнику сделали укол. Доктор осмотрел раненых и больных, хоть с руганью и оскорблениями, но их перевязали. А к вечеру случилось небывалое: выдали еду с мясом, сухое белье. Развели костры и всех согнали греться. Оказалось, утром намечен парад, парад военнопленных перед жителями белорусской столицы в честь очередной годовщины октябрьской революции. Пленным было приказано привести себя в порядок. Конвоиры обошли всех, придирчиво оглядели. Но не били на этот раз – боялись попортить вид. Только бранились и плевались. Эриху по случаю даже выдали его награды. Не все, но парочку, для порядка. Чтобы видно было, что герой, а не просто летчик захудалый…
– Давай, цепляй, покажешься народу, – съязвил нахально русский и оскалился. Эрих неохотно приколол на мундир Белого Орла и три Железных креста. Выжидательно посмотрел на конвоира – еще что?
– На, побрейся, – русский ткнул ему в лицо осколком зеркальца, – при мне брейся. А то еще припрячешь чего. Пришлось бриться – холодной, вонючей водой, едва мыльной. Только грязь смыть – и все.
– Готов. Нормально, – конвоир оглядел его с ног до головы и толкнул в спину, – выходи, красавчик…
Пленных снова построили в колонну. После нескольких серых осенних дней, когда, почти не переставая, шли холодные дожди, наконец выглянуло солнце. Оно осветило раскисшее поле стадиона, бледные лица военнопленных. Как прощальный салют навсегда ушедшему прошлому, блеснуло в околышах фуражек, на серебряных погонах и в орденах несуществующей армии. Эрих подумал, что они похожи теперь на армию призраков, слегка взбодрившихся при виде своих наград, полученных когда-то за заслуги, но обреченных, как и кресты, как их оружие, на переплавку, переработку и бесследное исчезновение. Рядом с Эрихом стоял пехотный полковник, теперь Эрих знал, что фамилия его была Брандт.
– Как ваше самочувствие? – спросил у него Хартман, – полегчало?
– Да, благодарю вас, майор, – ответил тот, – если бы не вы, то мне конец. Хотя, – он вздохнул, – кто знает, может, так было бы и лучше.
Мимо пробежал уже знакомый Эриху капитан конвоиров. Он посмотрел на часы, поправил фуражку и, махнув рукой, крикнул подчиненным:
– Время! Пора! Трогай!
Под бдительной охраной НКВД их провели по запруженным народом улицам Минска. Люди толпились на тротуарах, залезли на фонарные столбы, облепили окна и балконы домов. Свысока, угрюмым и враждебным молчанием встречали они печальное шествие. Напряженную, зловещую тишину прерывали лишь топот тысяч ног по мостовой да лязганье подков конных часовых. Вдруг из первых рядов кто-то плеснул под ноги пленным помоями, какая-то женщина бросилась вперед, рыдая и грозя кулаками, ее увели. А в памяти Эриха оживало прошлое. Всего два года назад, когда в Минске располагался штаб Люфтваффе, 20 апреля здесь проходил парад гарнизона в честь дня рождения фюрера, и город разукрашивали к этому празднику. Публику составляли немецкие офицеры со своими дамами, чиновники многочисленных учреждений, служб и штабов, ответственные лица администрации. Кажется, все это было вчера и в другой, нереальной жизни. Словно все они долгое время пребывали во сне и наконец проснулись. Как же тяжко это пробуждение! Теперь комиссары решили показать горожанам поверженного противника. Пленных построили и колонной провели по городу, в оцеплении. Эрих шел с краю. Вдруг он услышал, как среди зрителей, осыпавших пленных проклятиями, кто-то ахнул и назвал его по имени, окликнул по-немецки. Он повернул голову и увидел за цепью часовых невысокую девушку в темном, наглухо застегнутом пальто и светлом берете. Сжав руки на груди, она шла вслед за колонной пленных. Присмотревшись, Эрих поймал себя на мысли, что лицо этой девушки ему знакомо, возможно, он встречал ее в Минске во время оккупации. Странно, что она узнала его, может быть, обозналась. Со своей стороны, он не мог вспомнить, когда и где он с ней познакомился. Наверное, это был 1943 или 1944 год. Она сказала «капитан», он был тогда еще капитаном. Он снова оглянулся на девушку. Она отстала. Ее оттеснили охранники. Но она стояла, все так же неотрывно глядя ему вслед….
На площади, занимая полстены высокого здания из серого камня, колыхался под ветром огромный портрет Сталина. В профиль он показался Эриху похожим на таракана. Здесь же болтались портреты каких-то «советских святых». Но, пожалуй, кроме Эриха, никто не обратил на них внимания. Даже народ, который собрался на площади, не оборачивался к ним. Под портретом располагалась трибуна. Пленных остановили. На трибуне показались фигурки людей, все, как один, в военных френчах. В толпе послышались радостные возгласы. Девочки в красных галстуках гуськом побежали на трибуну с цветами.
Завершения этой патриотической сцены Эриху увидеть не довелось – пленных увели. Их разместили в лагере за городом. Его составляли несколько покосившихся деревянных бараков, обнесенных двумя рядами колючей проволоки. Отсюда их гоняли на работу в Минск, где военнопленные занимались восстановлением разрушенных домов, расчисткой улиц под бдительной охраной часовых из НКВД. По вечерам перед отбоем – политинформация, «промывание мозгов», агитация комиссаров. Как ненавидел Эрих эти часы беспардонного вранья. Он едва сдерживался, чтобы не высказать в лицо этим наглецам в кителях с нашивками «Щит и меч» на рукавах, что он думает об их вожделенном коммунистическом рае, дорогу к которому он имел возможность увидеть собственными глазами и испытать на себе все прелести построения социализма. Сам он происходил отнюдь не из бедной семьи и получил хорошее образование. Во время оккупации он, как и многие другие немецкие офицеры, удивлялся, обнаружив, сколь низок уровень жизни населения в советских городах, что русский крестьянин гол как сокол. В большинстве своем русские не знали, для чего существуют банки, им были незнакомы элементарные удобства и маленькие радости жизни, к которым с детства приучен любой западный человек. Голь и темнота, но какая уверенность в превосходстве своего общественного строя, внушенная десятилетиями такими вот краснобаями-комиссарами!
Ничего удивительного, что с подобными убеждениями Эрих Хартман отнюдь не ходил в «любимчиках» у лагерной администрации, и ему пришлось изведать всю тяжесть наказаний в плену. Жизнь здесь была тяжелая, почти невыносимая, голодная, зябкая, грязная, лишенная элементарных условий, с вечной грубостью и хамством надзирателей, побоями за малейший проступок. Она требовала невероятного напряжения всех физических и моральных сил, но самым унизительным было то, что он, лучший ас Люфтваффе, вообще вынужден был влачить такое существование. От мысли о побеге пришлось отказаться сразу. Куда здесь побежишь? Кто тебя спрячет при таком отношении местного населения? Просто безумие. Самоубийство? Эрих не мучил себя вопросом, сколько ему предстоит пробыть в советском плену. Поскольку никто ему не объявлял конкретный срок, то он не без оснований полагал, что домой он не вернется. Никогда. Будет гнить в этой дыре или какой-нибудь другой подобной, пока не подохнет. Он знал это еще в Берлине. Потому и бросился в неравный бой с советскими истребителями в апреле 1945 года, защищая «черный вервольф», чтобы такая же участь не постигла Хелене. Как бы она вынесла это все? Ей, женщине, было бы куда труднее.
Самоубийство.. Конечно, чего же проще. Столько способов лишить себя жизни. И дело с концом. Но не так просто осуществить его теперь. Советская жизнь и до войны, и после нее была проникнута слежкой, доносами и предательством. Это положение, естественно, отразилось и на военнопленных. Очень быстро среди офицеров нашлись такие, которые были непрочь за лишний кусок хлеба и миску каши донести на своих товарищей. Появились провокаторы. Их распознавали и старались изолировать, исключить из маленького офицерского братства, но в замкнутом пространстве лагерного барака это было практически невозможно. По каждому их доносу наказывали безбожно, обыскивали, расстреливали без суда и следствия. За Эрихом как за «особо убежденной контрой» следили наиболее пристально. Он постоянно ощущал себя как под прицелом автомата, его провоцировали, и требовалась вся его выдержка, чтобы трезво реагировать на происходящее и не поддаваться на дешевые спектакли. Кормили пленных из рук вон плохо. Появились случаи голодной смерти. В соседнем бараке даже случилась вспышка людоедства.
В Минске на стройке пленные работали с утра до вечера, в любую погоду. Казалось бы, при всем скотском существовании, на которое их обрекли, все прежнее в человеческом существе должно просто погибнуть, а человек – превратиться в особь. Но молодость есть молодость, ее сила такова, что она помогает приспособиться к любым условиям, порождает мечты, строит планы, заставляет поглядывать на девушек. Стройка, на которую гоняли военнопленных, находилась недалеко от кинотеатра. И нередко, когда невдалеке, торопясь на сеанс, проходила шумная стайка молодых русских девушек, офицеры подмигивали им и пытались заговорить. Но, как правило, боязливо оглядываясь на часовых, девушки спешили отойти подальше, хоть порой и кокетничали. Эрих с интересом наблюдал за такими эпизодами, но сам не принимал участия, хотя нередко ловил на себе любопытные взгляды минских красавиц. На него первого они и обращали внимание. Но у него отнюдь не было настроения отвечать им взаимностью. Гораздо больший интерес вызывали пацаны, которые постоянно прибегали поглазеть на «фашистов» и, перешептываясь, подолгу сидели в стороне, наблюдая, как работают военнопленные. В короткие перерывы Эрих выпиливал из остатков стройматериала небольшие самолетики, повторявшие реальные контуры «мессершмиттов», «юнкерсов» и советских «яков» и оставлял их для мальчишек в небольшом углублении рядом со стройкой. Он им показывал на ладони самолет, клал его в тайник у них на глазах и отходил, якобы не обращая внимания на то, что происходило за его спиной. Перегоняя и шпыняя друг друга, шипя и толкаясь, пацаны устремлялись к лунке. Как радовали их эти простые игрушки! Однажды Эрих, наклонившись к тайнику, нашел там несколько недокуренных папирос – незамысловатая мальчишеская благодарность. А в кинотеатре шли трофейные ленты. До стройки доносились песни из «Девушки моей мечты» и музыка из известного на весь мир кинофильма об адмирале Нельсоне. Словно весточка о потерянной навсегда юной, мирной жизни. Беззаботные, веселые девчонки в сопровождении щеголеватых военных с наградами спешили на сеансы. Одна такая группка остановилась недалеко от стройки. Видимо, кавалеры в курсантских шинелях пошли за билетами. Несколько девушек весело переговаривались между собой, смеялись. Внезапно одна из них, взглянув в сторону стройки, увидела Эриха. Он сидел на бетонной плите, разбирая инструмент, и совершенно не обращал внимания на остановившуюся рядом компанию. Невдалеке прохаживался часовой. Эрих сидел, склонив голову к ящику, белокурые волосы его растрепались под осенним ветром, шея замотана шарфом – достался в наследство от умершего офицера-танкиста. Почувствовав, что на него смотрят, поднял лицо, взглянув на нарядных «фрейлян».
– Смотрите, смотрите, – подтолкнула девушка своих подруг: – Он, конечно, худющий, чумазый, но если его помыть и причесать – красавец, верно? Носик-то какой, а глаза… Ой, девочки… Блондин, – они захихикали. И только одна не смеялась. Отстранив подруг, она подошла ближе и молча смотрела на Эриха, на глаза ее навернулись слезы..
– Вера, ты чего? – спросила ее одна из подруг. – Тебе его жалко что ли?
Вера не ответила. Эрих обернулся. Увидев девушку, он почти сразу узнал в ней ту, которая окликнула его во время «парада» военнопленных: то же пальто и берет, те же полные сострадания, знакомые глаза.
– Вера, ты что, знала его что ли? – допытывались подруги.
– Да нет, – словно очнувшись, вдруг спохватилась она. – Откуда? Действительно жалко, это верно. Идемте, идемте, – поторопила она их и быстро пошла по направлению к кинотеатру, не оборачиваясь. Теперь уже Эрих смотрел ей вслед. Он был уверен, что прежде они встречались. Но кто она? Она, безусловно, узнала его и ни с кем не спутала. Но где и когда они познакомились, он не мог припомнить.
На следующий день, ближе к вечеру, девушка появилась вновь. Но теперь уже одна. Долго стояла на противоположной стороне улицы, притворяясь, что читает афиши и рассматривает открытки в киоске. Она ждала, пока часовой отойдет подальше. Заметив ее, Эрих почувствовал, что она решилась с ним заговорить, только ждет момента, и спустился поближе к тротуару, тоже наблюдая за часовым. Наконец, улучив минуту, девушка быстро перебежала через улицу и, задыхаясь, громким шепотом произнесла по-немецки:
– Вы, наверное, не помните меня, господин Хартман. Я – Вера, Вера Соболева, работала уборщицей у вас в общежитии. Ну, теперь вспомнили?
– Да, – он действительно был удивлен. Как это он сразу не узнал ее? Ведь недавно вспоминал, да она почти и не изменилась внешне.
– Господи, неужели это вы! Живы… – всплеснула она руками и, оглянувшись, увидела, что часовой возвращается, затараторила: – Я здесь живу недалеко, приду завтра, принесу вам поесть, я что-нибудь придумаю…
– Не стоит, фрейлян Вера, – он с благодарностью сжал ее руку. – Идите скорей. Вам нельзя рисковать.
– Я вам скажу. Я вам все потом скажу, – пообещала она, убегая.
В ту ночь, лежа на нарах в бараке, Эрих, несмотря на усталость, долго не мог заснуть. Встреча с Верой с новой силой всколыхнула воспоминания. То чудное Рождество, когда Хелене пообещала выйти за него замуж, если они останутся живы, после войны. Живы-то они остались – но что с того? Эрих горько усмехнулся. Но все же всю ночь напролет снился ему снег, спускавшийся, кружась, с усыпанного серебряными звездочками неба. Снилось раскрасневшееся от мороза лицо Хелене. Подхватив ее на руки, он кружил ее в такт танцу снегопада, снег таял на их погонах, а они целовались, не замечая ничего вокруг. Снилось, как скатилась по щеке Хелене слеза, когда он клялся ей: «Что бы ни случилось и сколько бы ни прошло лет, я всегда буду стремиться к тебе, я всегда приду к тебе, если ты будешь ждать». Она ответила: «Буду». Все было просто на словах, а в жизни…
Она верила ему, она плакала. Словно предчувствовала. Мог ли он вообразить тогда, что судьба сыграет с ними такую злую шутку. Обоим им посчастливилось уцелеть, но их разделяют расстояние в сотни километров и кандалы, которые ему вряд ли когда-нибудь удастся сбросить. А если удастся, когда это будет? Через десять лет? Через двадцать? Он жив, но для нее он – мертвец. Что толку ждать мертвеца? Конечно, она оплакала его и должна по-новому строить свою жизнь. А когда он придет, если такое случится, будет ли он вправе разрушить то, что сложилось без него? Нет. Он для нее погиб. Пусть так и будет навсегда. Она его не ждет – это ее право. И все же через годы он вдруг почувствовал, как прижимает она его руку к своим губам, услышал, как шепчут ее губы: «Я бы хотела никогда больше не отпускать тебя в полет»… Сжав зубы, чтобы не застонать, он отвернулся к стене. Но куда спрячешься от памяти? Куда денешься от любви, которая жива? Над которой не властны ни время, ни расстояние, ни яростная злоба комиссаров.. Хелене… «Я и сейчас могу повторить: «Что бы со мной ни случилось, что бы ни довелось мне пережить и сколько бы лет ни прошло, я буду стремиться к тебе, я приду к тебе. Только дождись меня, Хелене. Не забудь меня, Хелене. Ведь ты у меня одна… Только ты… До самой смерти, близко она или далеко.»
Не спала в ту ночь и Вера Соболева. После освобождения Минска советскими войсками она не поехала к родным в деревню, а осталась в городе. По-прежнему жила на окраине, в доме своей старой тетки. Принимала участие в восстановлении, работала на заводе, через комсомольскую организацию поступила в техникум. Мечтала учиться в Минском университете. Война откатилась на запад, жизнь входила в мирное русло. Трудно было, голодно, да и мать надо было забирать из разоренной, сожженной карателями деревни – люди жили в землянках, на подножном корму. Казалось бы, все прошло, пора забыть и об унизительном положении уборщицы в офицерском общежитии летчиков и о постоянных придирках Зизи, о страхе, что раскроется ее связь с партизанами. Теперь – новая жизнь. Достойная, всеми уважаемая, в учебе и труде, как мечтала до войны. Вера бы и забыла с радостью, что вспоминать? Насмешки, пошлые приставания? Если бы не Андрис. Если бы не он… Она берегла туфли, подаренные Лауфенбергом, и никогда не надевала их. Боялась – вдруг кто-нибудь увидит. Только дома, оставшись одна, она занавешивала окно, плотно запирала дверь и осторожно ходила в туфлях по пальто, которым застилала дощатый пол – чтобы соседи не слышали, как она стучит каблуками. Вторым сокровищем Веры был хрустальный флакон из-под духов «Шанель». Андрис, как обещал, привез их ей в подарок из Берлина. Она клала флакон под подушку всякий раз, как ложилась спать. За Верой ухаживал начальник цеха, девчонки шептались – выгодный жених. Инвалид войны, коммунист, вдовец, к тому же ребенок уже готовый, сын десяти лет, рожать не надо, в Вере души не чает. Чего ты ждешь, дуреха? Такой муж – опора на всю жизнь. Она понимала, что надо устраиваться. Но не могла забыть Андриса. Ей, конечно, не приходило в голову, что она может стать баронессой, уехать в Германию, жить в его замке в Вестфалии. Не то, что теперь, даже и тогда, в 1944-м, в Колодищах, когда несколько месяцев для нее пролетели как один день, когда с замиранием сердца она, связная партизан, ждала после каждого вылета эскадрильи «Мелдерс», вернется или не вернется на аэродром немецкий ас. Она не надеялась – какая из нее баронесса фон Лауфенберг? Она даже не представляла себе, как это жить баронессой, для которой туфли Зизи – невероятное богатство. Она просто потеряла голову от любви к заместителю полковницы и пряталась от профессора, ссылаясь на простуду, чтобы он не прочел в ее лице больше, чем ей хотелось бы. Ей даже казалось, что немец слегка отвечал. Но даже Хельга, связистка из штаба, к которой Вера ревновала Андриса, не могла похвастаться его постоянством. А Вера могла. Он ни разу не обидел ее ничем. Она чувствовала, что он покровительствует ей. А сколько страсти, неги было в его объятиях. Сразу после освобождения Минска Вера старалась не вспоминать об Андрисе, начиналась новая жизнь. Но оказалось невероятное – ничто не кончилось. Ее любовь к Андрису никуда не делась, она осталась с ней. И подспудно мысль о встрече начала тревожить ее – как, как это сделать? Жив ли он? Когда она увидела Хартмана, в ней встрепенулась надежда, возможно, Андрис тоже здесь. Она не представляла себе, что она будет делать, если он действительно здесь. Но, ворочаясь без сна, клялась себе, что последует за ним хоть на край света. И ее не удержит ни начальник цеха, не комсомольская карьера – ничто. Увы, на следующий день Веру ждало разочарование. Да что там разочарование – удар.
Вернувшись со смены, Вера собрала скудный запас продуктов – хлеб да лук, что еще у нее было? Выпросила у соседа пачку папирос, тоже редкость. Завернув все в газету, направилась к стройке, где работали военнопленные. Эрих увидел Веру издалека. Он не надеялся, что она придет, он даже не хотел этого, понимая, что Вера очень рискует. Но все же обрадовался, заметив хрупкую фигурку девушки, спешащую по улице. Чтобы облегчить Вере задачу, Эрих попросил полковника Брандта отвлечь часового. Полковник стал жаловаться на сердце. Привлеченный его стонами, часовой отошел. Эрих встретил Веру упреками:
– Зачем вы пришли, фрейлян Вера? Вас заметят, потащат на допрос. Зачем вам все это?
– Молчите, – Вера строго остановила его, – это мое решение. Вот держите, это вам, – она протянула Эриху сверток.
– Что это? – удивился он.
– Продукты и папиросы. Берите скорей и спрячьте.
– Но я не могу взять, фрейлян Вера, – запротестовал он, – вы живете одна, вам нужно самой. Я знаю, в стране – голод.
– Да берите же, – Вера рассердилась и даже стукнула его пальцами по плечу, – мы только время теряем зря. У меня положение все же получше вашего.
– Спасибо, – Эрих улыбнулся.
– Скажите, – обернувшись на часового, Вера перешла на шепот, – а ваш друг, майор, помните…
– Андрис? – догадался Эрих.
– Да, – подтвердила Вера, – он тоже здесь? – она смотрела на него с надеждой, широко раскрытыми глазами, но Эрих не мог покривить душой. Сказал так, как есть:
– Нет, фрейлян Вера, Андриса здесь нет. Его вообще больше нет. Он погиб.
– Погиб?! – Вера отпрянула. Лицо ее побелело, на нем отпечатались все чувства, которые обуревали девушку – отчаяние, горе, страдание.
– Погиб? Когда? Как? – она не могла поверить. Губы ее едва шевелились, она крепко сжала пальцами локоть Эриха, – вы точно знаете?
– Да, я видел сам. Андрис погиб в мае сорок пятого под Берлином…Фрейлян Вера, что с вами? – отпустив его, Вера схватилась за доски, лежавшие рядом. Одна из них упала. Раздался глухой стук.
– Что такое? В чем дело? – часовой обернулся. Потом направился к ним. Вере едва хватило сил, сделать вид, что она ищет оброненную перчатку. Когда солдат подошел, она взглянула на него растерянно, пожала плечами – мол, так ничего и не нашла. Эрих видел, что в глазах у нее стояли слезы. Щеки передергивала судорога.
– Что упало, то пропало, – грубо хохотнул солдат, – давай, проходи. Не велено тута задерживаться. Раз уж потеряла, так и все – каюк. Муж новые перчатки купит.
– Да, да. Конечно, – Вера поспешно перешла на другую сторону улицы.
– Пошел на место, – часовой ткнул Эриха винтовкой в спину. Обернувшись, он увидел, как Вера медленно бредет по тротуару. Вот остановилась, оглянулась. Качающийся на ветру фонарь осветил ее лицо – оно все было залито слезами. «Я еще приду, обязательно приду, – обещали ему ее глаза, – ждите». Он укоризненно покачал головой – не надо, мол. «Ну что за безрассудная смелость, а была такая робкая, застенчивая, когда работала в общежитии» – подумал Эрих, глядя девушке вслед. Но на сердце у него стало светлее от того, что в чужом, враждебном городе нашлась одна душа, которая сострадала его положению. А кроме того, любила Андриса. Теперь Эрих понял это.
Спустя несколько дней Вера действительно пришла снова. Опять принесла еду. Об Андрисе не спрашивала. Но он видел, что лицо ее осунулось, губы дрожат. Эриху было неловко, что прежде он даже насмехался над привязанностью уборщицы к своему блестящему другу.
– У него никого не осталось, – он сам начал разговор, которого она избегала, – только сестра в Вестфалии, ни жены, ни детей, – Вера вздрогнула. Эрих сказал то, о чем она думала накануне.
– Мне бы так хотелось приехать на его могилу, – проговорила она едва слышно.
– Это невозможно, – ответил он, – могилы нет. Андрис сгорел вместе с самолетом. Я не думаю, что большевики собирали его останки. – Вера съежилась. Не в силах сдержаться, она тихонько заплакала, зажав ладонью рот. Потом чуть успокоившись, спросила о Хелене:
– А госпожа полковник жива?
– Да, – вздохнул Эрих, – по счастью, да. Она попала к американцам. Наверное, она уже даже не в плену. Вера внимательно посмотрела на него. Больше ничего не спросила – она хорошо понимала его чувства. – Я очень благодарен вам, Вера, – он с нежностью взял ее руку, – я бы расцеловал вас за ваше доброе сердце. Простите меня, если в прошлом я чем-то обидел вас…
– Ну, что вы, – Вера слабо улыбнулась, – я никогда не сердилась на вас всерьез, – потом поднялась на цыпочки и сама поцеловала в щеку, – вы знаете, – проговорила она смущенно, – я прежде боялась вас. А теперь боюсь своих. Я никогда не забуду Андриса, он перевернул всю мою жизнь, – она отвернулась, ее плечи вздрогнули.
– Вы должны забыть, Вера, – Эрих настойчиво повернул ее к себе, – забыть и его, и меня. И жить дальше.
Так создавался узкий мирок, круг сопротивления, который питал его, казалось бы, иссякшие душевные силы и помогал выстоять, перенести все тяготы лагерной жизни: Вера, мальчишки с самолетиками, полковник Брандт, с которым они подружились и спали рядом в бараке. И Хелене, воспоминания о ней. Как только давали отбой, он предавался им, словно спешил на свидание с ней самой. Как зеницу ока он хранил ее фотографию, вырезанную когда-то из газеты. Хотя изображение почти стерлось, он прекрасно помнил любимые черты, помнил каждый изгиб тела, запах ее волос. Ее голос порой звучал в его снах так четко, что казалось, она разговаривала с ним наяву. Не было ни разделяющего их огромного расстояния, ни ужасов плена, о которых Хелене, слава богу, ничего не знает.
И снова – вагоны, снова – на восток. Все дальше и дальше, в глубь заснеженной, скованной колючим морозом страны. Давно позади остался Минск. Мелькают станции, города. Суровой зимой 1948 года Эрих Хартман оказался в Вятлаге, где ему предстояло работать на лесоповале. Когда эшелон прибыл, и охранники открыли вагоны, Эрих не поверил, что наконец-то добрались до станции назначения. Он промерз так, что буквально не чувствовал своего тела. В вагонах, куда людей запихивали, как дрова, было очень холодно. Но, может быть, именно то, что вагон, в котором находился Эрих, был переполнен, и спасло – среди них не оказалось замерзших, люди грели друг друга. Зато в других вагонах, где народу было меньше – увы…
Соскочив на скользкий, обледеневший снег, Эрих с болью увидел, как из соседнего вагона выгружают замерзших заживо людей. Сколько раз ему приходилось видеть смерть на войне, сколько ужасов довелось встретить в плену, и все же он содрогнулся, взглянув на этих несчастных. Какие нелепые позы, какие страдания застыли на лицах! Люди смерзлись по двое, по трое. Будет ли когда-нибудь всему этому конец? Колючий пронзительный ветер продувал насквозь, льдинки замерзшего снега летели в лицо, впиваясь до крови, сыпались за воротник.
После разгрузки конвоиры привели пленных в барак, где их посетил комендант – невысокий, коренастый человек с погонами капитана. Очень скоро Эрих заметил, что в лагере, в который их доставили, содержались не только военнопленные. Здесь также находились и русские заключенные. Их разделяла ограда из колючей проволоки и часовой. Получалось как бы два лагеря в одном. И хотя увидеть русских из немецких бараков можно было только издалека, во время работы они находились рядом, под зоркой охраной. Эрих из любопытства присматривался к соседям. Среди зэков, он заметил, попадались разные люди: были здесь и отъявленные преступники, от одного взгляда на которых становилось не по себе, но, как ни странно, встречались и интеллигентные, одухотворенные лица, на которых запечатлелось страдание. И таких было немало. Как они оказались здесь? За что? О репрессиях, пронесшихся по Стране Советов до войны, а также сразу после ее окончания, Эрих ничего толком не знал. В бараках шептались, но на официальных политзанятиях комиссары ни о чем подобном не упоминали. Понятие о предвоенной ситуации в СССР для Эриха ограничивалось лишь тем, что ему сообщали в свое время геббельсовские пропагандисты. Они говорили, что перед самым началом немецкой агрессии Сталин обезглавил свою армию, арестовав и уничтожив почти весь боеспособный командный состав. Отчего, зачем – неважно, главное – это на руку германской армии. Во время войны Эрих слышал от пехотинцев о так называемых «штрафных батальонах», составленных из заключенных, батальонах смертников, но сам не был с ними знаком, так как ВВС в Советской России, как и в Германии, считались элитным родом войск и никаких зэков в их составе не было. Штрафные эскадрильи были, но там – другое. Он сам туда едва не попал после истории с Гердой Дарановски летом 1944 года, если бы Хелене его не спасла.
Однажды, занимаясь распилкой бревен, Эрих оказался рядом с несколькими русскими. Один из них, невысокий, отнюдь не богатырского телосложения, вдруг показался Эриху знакомым. Он присмотрелся внимательнее. Посеревшее, исчерченное ранними морщинами, изможденное лицо человека явно изменилось, но все же Эрих был уверен, они встречались… Только где, когда, при каких обстоятельствах? Подспудно он ощущал, что эта встреча была связана лично для него с чем-то ярким, запоминающимся. Быть может, с Хелене. Конечно, с кем же еще? Но если не считать многочисленных воздушных боев, то тема «Хелене Райч и русские» представляла отнюдь не богатый выбор вариантов, практически нулевой… Хотя… Уже в бараке Эриха внезапно осенило: Алупка, волшебный уголок! Совсем недавно он видел во сне великолепных мраморных львов – стражей прекрасного дворца, видел, как спускались они с Хелене по лестнице к морю, после экскурсии, которую провел для них смотритель музея, невысокий, хрупкий человек, русский, как же его звали? Хелене же говорила.. В тот вечер, когда в Алупкинском дворце праздновал свой день рождения генерал фон Грайм, этот русский профессор чудом избежал смерти, не пожелав отдать эсэсовскому наместнику дорогую раму из коллекции музея. Его спасло вмешательство Хелене… Быть может, это именно тот человек? Какие еще яркие впечатления могут быть у майора Люфтваффе Эриха Хартмана, он горько улыбнулся про себя: бывшего майора, бывшего Люфтваффе, – связаны с русскими и с Россией, особенно теперь. Да еще и с Хелене. Только Алупка. Их помирили тогда венецианские зеркала графини Браницкой и сумерки над сказочным парком. Алый шар солнца садился над морем и разбрасывал по воде коралловые блики. Было ли все это на самом деле? Неужели он на самом деле был счастлив, когда они сидели с Хелене у воды, пили шампанское, которое он принес с банкета, и он кормил ее клубникой из своих рук. Морская пена шуршала у камней, мерцали огни береговой охраны. Белокрылые чайки низко реяли над водой, а над всей Алупкой гордо высился старинный кипарис, казалось, он парил в бархатном небе между ярких искорок звезд на фоне полной, лимонно-желтой луны… Кипарис, который русские назвали в честь одного из своих героев, завоевателей Крыма, фаворита русской императрицы. Что это было? Красивый сон? А после него настало угрюмое, удушающее своей безысходностью пробуждение. Или, наоборот, сон – это то, что происходит с ним сейчас? Страшный сон, от которого он не может очнуться, который он вряд ли переживет… Невыносимо. Все это невыносимо… «Хелене, – он мысленно обращался к ней. – Помнишь ли ты, как чудно пахли магнолии и алые розы в графском саду? Где ты, Хелене? Все, что мне осталось от тебя – стершееся газетное фото… Была ли ты в моей жизни? Или я проснулся – и все».
На следующий день во время работы Эрих без труда отыскал глазами заинтересовавшего его русского и постарался приблизиться к нему. День был морозный, солнечный, и Эрих смог рассмотреть заключенного. Сомнений не оставалось. Теперь он узнал его. Так и есть, память не подвела его: тот самый смотритель музея. Сердце Эриха радостно забилось: он, наверное, помнит Хелене. Ведь он хорошо знал немецкий, с ним можно было бы поговорить о ней. Но тут же мелькнула мысль: не может быть, чтобы такой человек оказался здесь, среди отбывающих срок преступников. Он совершил подвиг. Эрих был тому свидетелем. Один его поступок, неподчинение воле эсэсовского коменданта… Он рисковал жизнью ради спасения реликвий – это уже подвиг. А не окажись Хелене поблизости – офицер пристрелил бы его на месте. А сколько таких реликвий он спас благодаря своему мужеству и самоотверженности! В чем же он провинился? Заметив внимательный взгляд немецкого офицера, русский обернулся и посмотрел Эриху прямо в лицо. Конечно, сразу он его не вспомнил, но что-то промелькнуло в его глазах, как будто немец показался ему знакомым. Промелькнуло и погасло. Тяжело же ему приходится, вдали от родной Алупки. Да, это он. Русский профессор из Алупки. Эрих не верил своим глазам, и горький комок подступил к горлу.
Как-то вечером возле бани Эрих столкнулся с профессором лицом к лицу. Заметив, что часовые находятся довольно далеко, он окликнул русского:
– Здравствуйте, господин профессор.
Вздрогнув, смотритель замедлил шаг, затем остановился, оглянулся.
– Вы помните Алупку? – взволнованно спросил Эрих, подходя, – вы делали нам экскурсию по музею.
– Вы были в составе какой-то группы? – недоверчиво осведомился профессор.
– Да нет же… – нетерпеливо ответил Эрих, – нас было всего двое, летчики. Я и молодая фрау, полковник. Помните? День рождения генерала фон Грайма, в 1943 м. Хелене Райч тогда помогла вам сохранить раму для картины, отчитав наглеца-коменданта. Помните?
Слезящиеся, воспаленные от ветра глаза русского потеплели.
– Вы?! – изумленно воскликнул он и, тут же помрачнев, сокрушенно добавил: – Значит, вы угодили к нашим…
– Вы вспомнили меня?
– Конечно. Я вас приметил еще во время работы несколько дней назад. Вы внимательно смотрели на меня. Я удивился. А потом подумал: может быть, мы где-то встречались? – тревожно взглянув на часовых, он быстро спросил: – А фрау? Она жива?
– Вы помните Хелене? – лицо Эриха просветлело, он улыбнулся.
– Да, – ответил русский, – я ей обязан жизнью. Если бы не она… Красивая женщина, смелая…
– Она попала к союзникам. Надеюсь, она уже на свободе.
– Не останавливаться! Не болтать! – раздался громкий окрик охранника.
– Я вас найду, – поспешно прошептал профессор, отходя. – Как вас зовут? Ведь мы не познакомились тогда.
– Эрих. Эрих Хартман.
– А я Степан Щеколдин. Что-нибудь придумаем. До свидания.
Увидев приближающегося охранника, профессор быстро ушел. Степан Щеколдин, господин Щеколдин. Да, именно так и говорила Хелене: «Господин Щеколдин, покажите мне этот дворец, ради которого вам не жаль жизни.» Он помнит ее. Красивая, смелая… Моя Лена…
Но как они увидятся? Ведь найти способ поговорить в лагере – дело нешуточное. И снова перед глазами возникла Хелене, отражение ее лица в венецианском зеркале, взволнованные, грустные глаза – она еще не простила его, она страдает, хотя верная себе, не подает вида.
Ее светлые волосы мелькают среди диковинных растений зимнего сада, и легкое пожатие руки говорит ему, что все забыто. Он видит, как она склоняется над прудом с чистейшей родниковой водой, в котором гордо плавают лебеди. Ее пышные волосы скользят вперед, заслоняя лицо, черты которого мерцают на темной поверхности воды.
На следующий день Эрих заметил, что Щеколдин во время работы старается переместиться как можно ближе к нему. Ведет он себя осторожно, чтобы не вызвать подозрение у часовых. Понимая его намерения, Эрих совершил встречный маневр. Наконец им удалось оказаться на таком расстоянии друг от друга, при котором беспрепятственно можно было разговаривать, негромко, чтобы не услышали охранники. Делая вид, что всецело занят работой, Щеколдин поздоровался. Их разговоры не могли быть продолжительными, но встреча со Степаном скрасила безрадостную жизнь Хартмана в плену. У него появился друг. Их связывали общие воспоминания, и, в отличие от многих русских, – Эрих чувствовал это, – Степан не испытывал по отношению к немцам враждебных чувств. Он относился к Эриху с пониманием, даже с заботой. Будучи сам в столь же удручающем положении, – легко ли быть пленником в собственной стране, – находил в себе силы сочувствовать Харт-ману. Щеколдин «был награжден» десятью годами лишения свободы. Они общались каждый день. Эрих рассказал Щеколдину обо всем, что пережил после Алупки. О боях за Берлин, о том как попал в плен и о пребывании в Минске. Впервые в жизни искренне поведал о своей любви к Хелене. Эти беседы стали отдушиной, лекарством для его души, истерзанной тоской. Он чувствовал, что Щеколдину можно доверять. Степан слушал внимательно, никогда не задавал лишних вопросов. Он был очень вежливым, культурным человеком, что, как понял Эрих, среди русских – редкость. Знакомство с ним вообще заставило Эриха по-другому отнестись к нации победителей. Степан познакомил Эриха со своими друзьями. Один из них был бывший русский князь Кирилл Голицын, другой – бывший директор музея в Брянске. Так же как и Щеколдин он в годы оккупации спас музей от разорения. Немцы захватили его с собой во время отступления. Он бежал, примкнул к партизанам. Наградой за «усердие» ему стал срок в 25 лет. Знакомство с этими людьми произвело на Эриха огромное впечатление. Постепенно перед ним открывалась другая Россия, которой он не знал во время войны, тем более не знал в плену. Не только страна конвоиров, смачно плюющих под ноги. Страна великих людей и традиций, которую «энкэвэдэшные шинели» держали за колючей проволокой. О себе Щеколдин рассказывал скупо. Он родился в Москве, еще в царское время. Закончил коммерческий институт, стал экономистом. С юных лет он любил искусство, тянулся к истории. За любовь к прекрасному получил Степан Щеколдин от советских уже властей два срока заключения. Первый – в молодые годы. Сразу после революции Щеколдин посещал в Москве еще тлеющие очажки старой дворянской культуры, на манер дореволюционных салонов, где собирались «бывшие», как их называли тогда. Среди завсегдатаев, как это часто случалось в России после 1917 года, затесались агенты ГПУ. Они и передали своим начальникам списки особо опасных, по их мнению, сторонников старого строя. Среди них оказался Степан Щеколдин. Три года провел Степан в ссылке в Архангельске. После освобождения из Москвы уехал, перебрался в Крым. Там сначала работал бухгалтером, а потом случайно стал экскурсоводом. Так произошла его первая встреча с Алупкинским дворцом. Мистическая, судьбоносная встреча, которая изменила всю жизнь Щеколдина. Дворец, его уникальные картины, гобелены, книги, вся история захватили молодого человека, наполнили смыслом каждое мгновение его существования. Теперь уж он не мыслил себя без Алупки. Ушли в прошлое все удары судьбы – ссылка, смерть молодой жены в тюрьме. В 1941 году, оставшись в Алупке, он спас дворец от взрыва, который собирались произвести при отступлении большевики, уничтожавшие ценности под лозунгом: «Врагу ничего не оставлять!». В последний момент Щеколдину удалось разомкнуть цепь взрывателя. Во время оккупации Щеколдин добился от немецкого командования разрешения восстановить экспозицию и открыть музей для посещения немецкими солдатами и офицерами. Ведь он понимал, что только так он может спасти бесценные сокровища от вывоза их в Германию. Он сам водил экскурсантов по залам. А когда один немецкий генерал пожелал конфисковать знаменитых мраморных львов, что стоят у восточного входа во дворец, Щеколдин нашел в себе мужество открыто воспрепятствовать этому, за что угодил на неделю в гестаповскую тюрьму. Перед отступлением генерал фон Грайм, большой ценитель искусства, предложил Щеколдину уехать в Германию. Он обещал посодействовать, чтобы его приняли на работу в Дрезденскую галерею. Тогда генерал фон Грайм не мог предположить, что в феврале 1945 года после налета американской авиации Дрезденская галерея перестанет существовать – она превратится в груду пепла. «Герр Щеколдин, вас все равно посадят, комиссары не оценят ваш поступок», – убеждал Степана фон Грайм. Но Щеколдин отказался. И вот теперь он узнал, что Дрезденской галереи больше нет, судьба фон Грайма неизвестна – он либо застрелился, либо находится в плену. Только пророчество его сбылось. Сразу после освобождения Крыма чекисты арестовали Щеколдина. Он снова вернулся в тюрьму, теперь не гестаповскую, а энкэвэдэшную. Но по сути от этой перемены для Степана не изменилось ничего. В тюрьме, находясь под охраной красноармейцев, он услышал по радио, что Сталин лично объявил ему благодарность за спасение дворца. Еще бы, ведь во время проведения Ялтинской конференции, сам премьер-министр Англии Черчилль гулял по Алупке и восхищался творением русских зодчих. Он удивлялся, как удалось сохранить здание во время бомбежек, и очень интересовался, нельзя ли его купить и по частям перевезти в Англию. Советские товарищи горделиво посмеивались. А Степан Щеколдин, спаситель музея, в это время сидел в тюрьме, и его даже не кормили. Но все-таки, как шутил Щеколдин, если он когда-нибудь встретит Черчилля, он поклонится ему в ноги или хотя бы напишет благодарственное письмо. Ведь это благодаря его восторгам и высокой оценке деятельности Щеколдина, Степану дали только десять лет, а не двадцать пять, как директору брянского музея. Ведь в Брянск-то Черчилль не приезжал. Не повезло Брянску так, как Алупке. На суде профессор пытался защищаться, он напомнил, что сделал для страны, но прокурор лениво заметил ему: «Лучше бы вы убили пару фашистов», – и, зевнув, отправил в Вятлаг. С тех пор Щеколдин ничего толком не знал о своей Алупке. После Ялтинской конференции там проводили отпуска большие московские начальники. И Степан очень сомневался, что они станут беречь музей, как он его берег.
– Я часто думал, – признался Эриху Щеколдин, – у меня теперь много времени. Если бы я знал тогда, в 1941 м, наперед, какие муки мне предстоят, смог бы я повторить все, что сделал, чтобы спасти дворец? Или лучше пусть взрывали бы? Все равно им ничего не нужно. И знаете, – Щеколдин грустно улыбнулся, – смог бы. Я все начал бы сначала, и снова прошел этот путь. Потому что они не вечны, а Алупка – навсегда. Она мне часто снится по ночам. Мраморные львы, лестница…
– Мне тоже, Степан, – признался Эрих, – мне тоже снится ваша Алупка…
Они молча посмотрели друг на друга. Потом крепко пожали руки, быстро, украдкой, чтобы не заметили часовые. Щеколдин был старше Эриха лет на двадцать. Хартман годился ему в сыновья. Но теперь это не имело значения. Степан был первым человеком в жизни Эриха после смерти Андриса, которого он мог теперь назвать своим другом. И он никогда не подумал бы прежде, что таким человеком окажется русский. Они легко понимали друг друга, поддерживали в несчастье. Только теперь Эрих задумался над тем, насколько искусственно политики создают между людьми враждебность, используя все способы пропаганды. А главное, со Степаном можно было без конца говорить о Хелене. Степану единственному Эрих признался спустя почти год после их знакомства, что … изменил ей.
Эрих и сам не знал, как случилось, что на него обратила внимание молодая жена коменданта лагеря. Сам комендант, человек крутого нрава, суровый в обращении со своими подчиненными, не говоря уже о пленных и заключенных, был намного старше своей супруги, а потому, несмотря на свой характер, исполнял все ее капризы. Молодую женщину звали Варварой, или Барбарой, как называли ее немцы. Она пользовалась неограниченной свободой. Спокойно расхаживала по лагерю, командовала солдатами, не хуже супруга, сама выбирала среди заключенных тех, которые должны были отправиться на работу к ней в дом. Детей у Варвары не было, иных обязанностей, кроме как по хозяйству, – тоже. Со скуки, наверное, в захолустном уголке, где для молодой женщины не было никаких развлечений, она время от времени приглашала к себе понравившегося ей, как она выражалась, «мальчонку», из заключенных, и склоняла его к любовной связи. Добившись желаемого, наскучившую «жертву» отправляла обратно в лагерь, предварительно нажаловавшись мужу на провинности работника. Того наказывали, очень жестоко. Причем Варвара не отказывала себе в удовольствии посмотреть, как корчится под пытками ее недавний возлюбленный. Неизвестно, догадывался ли комендант о похождениях своей супруги, скорее всего, нет – никто из избранников Варвары не посмел заикнуться ему об этом. Так что Варвара чувствовала себя безнаказанно. До сих пор любовниками комендантши были только русские, так что она сразу заинтересовалась военнопленными, которых доставили в лагерь. Возвращаясь с работы, Эрих часто видел, как высокая, дородная русская дама, закутанная в широкий пуховый платок, стоит у ограды, наблюдая за немцами. Он не раз ловил на себе взгляд ее быстрых карих глаз. Но до поры до времени не догадывался, чего она хочет от него. Вскоре все прояснилось. Как-то утром ему объявили, что с сегодняшнего дня он больше не пойдет работать на лесосеку, а направляется для исполнения хозяйственных работ в комендантский дом. Под присмотром, естественно. Конечно, работать в теплом, натопленном доме, пусть даже под охраной, было намного приятней, чем мерзнуть в лесу. Но Эриху такой поворот показался странным. А почему он, собственно? И почему один? Ведь есть среди военнопленных люди постарше, слабые физически. Им такое назначение – подарок, оно значительно облегчило бы их положение. Вот, полковник Брандт, например. А Щеколдин? Он будет волноваться, если не увидит Эриха на рабочей площадке. Но возражать не полагалось. За это можно было не досчитаться зубов, как самой малости. Сразу после объявления приказа Эриха доставили под конвоем в комендантский дом. Вот тут он и увидел, кому обязан внезапной переменой в лагерной жизни. Оказалось, никакой работы по дому от него не требовалось. А требовалось совсем другое. Едва введя его в дом, красноармеец тут же вышел – кто-то подал ему знак. Оставшись один в жарко натопленной горнице, Эрих огляделся и с удивлением увидел, что стол накрыт, будто к приему гостей. В углу у окна белела чистым бельем расстеленная кровать. В комнате никого не было. Он обернулся и тут же наткнулся на свое отражение в зеркале над комодом. Увы, прежний лощеный командир эскадрильи «Рихтгофен» теперь превратился в жалкое напоминание о былом. Внезапно он почувствовал, что за ним внимательно наблюдают. Он снова огляделся и никого не увидел. Правда, ему показалось, что занавеска, разделяющая две комнаты в доме, шелохнулась. Да, так и есть. Вот она отодвинулась. В проеме двери он увидел хозяйку дома, госпожу Барбару, в длинной, темной юбке и облегающей блузе, выгодно подчеркивающей объемные достоинства ее фигуры. Хозяйка улыбнулась. Прошла к входной двери и заперла ее на засов. Затем задернула занавески на окнах. Эрих с недоумением наблюдал за всеми этими приготовлениями. Барбара подошла к нему.
– Понимаешь по-русски? – спросила она, глядя ему в лицо. Глаза у нее были темно-карие, жгучие. Она напоминала бойких украинок, которых Эрих достаточно видел во время войны. Наверное, она и была оттуда родом.
– Не понимаешь? – переспросила она. Он вяло пожал плечами. За время в плену он начал разбирать некоторые славянские фразы. Но даже если бы он говорил по-русски свободно, разговаривать с этой дамой не хотелось. Впрочем, как и со всеми русскими, за исключением Щеколдина.
– Не понимаешь, – Барбара кивнула, – ну и ладно. Болтать некогда, это верно. Скоро муженек на обед нагрянет. Идем со мной, – она взяла его за руку и потащила в сени. Распахнула дверь, ведущую, как он догадался, в баню. – Иди, мойся, – сказала она, – вода горячая, я нагрела. Понимаешь? – она сделала жест, как бы объясняя, что предлагает помыться. Он отрицательно покачал головой. – Не будешь? – изумилась она. – Ишь ты, какой. Чистый, значит. Ладно, посмотрим, – она снова привела его в комнату. – Тогда ешь, – она подвела его к столу, насильно усадила на лавку и пододвинула целую миску горячих блинов, обильно смазанных маслом, – ешь. А то сил не хватит.
Эрих почувствовал, как от голода резануло живот, но все же решительно отодвинул от себя еду. Потом вопросительно взглянул на хозяйку:
– Что я должен делать? – спросил он резко по-немецки, – что вам нужно?
Она не ответила. Сняла с его головы картуз, провела рукой по светлым волосам, потом медленно, по щеке до подбородка.
– Не зря я тебя приглядела, – сказала тихо, – небось, там, у себя в Германии, писаный красавец был. И молодой, не то что мой хряк обрюзгший. А еще говорят, вы, немцы, культурные, не чета нашим мужланам, – она взяла его за руку, потянула, он встал из-за стола.
– Хочешь, буду твоей? – она приникла к нему разгоряченным телом. Ее яркие накрашенные губы почти касались его щеки, – я буду только твоей, – прошептала она жарко, – больше никого, всех к черту. Барбара взволнованно дышала. Грудь ее вздымалась, – баня не нравится, еда не нравится, – продолжала она, – а я-то тебе нравлюсь, немецкий красавчик? Отвечай!
Теперь Эриху все стало ясно. Ее слова, интонация не требовали перевода. Не скрывая отвращения, он оттолкнул ее. Она упала на скамью, ее лицо залилось краской гнева.
Ах ты, свинья такая! – тихо проговорила она, но в голосе явственно звучала угроза, – не вышибли из вас высокомерия, как ни били. Но ничего, погоди, вышибут еще. Попляшете, как миленькие, запоете. Значит, так не нравлюсь. А так? – спросила она с вызовом и, выпрямившись, начала медленно раздеваться перед ним. – Так нравлюсь?
Пожалуй, все муки, пережитые Эрихом в плену до того, не могли сравниться с этим испытанием. Он чувствовал, что теряет самообладание. Взбунтовавшиеся желания затмевали рассудок, воля отступила перед естественным порывом плоти. За все время в плену он не знал ни одной женщины, и сексуальный голод измучил его не меньше, чем недостаток пищи или сна. Не помня себя, он бросился к Барбаре, разрывая на ней остатки одежды. В нем все горело и клокотало. Он покрывал поцелуями ее полное тело, наслаждаясь округлостью грудей и ягодиц. Он полностью потерял ощущение реальности, где он, с кем он, провалившись в бездну, казалось, забытых радостных ощущений. Он дал им захватить себя. А когда овладел ею, повалив прямо на пол, на расстеленные у стола циновки, испытал бурный восторг. Варвара ликовала. Из всех ее экспериментов, пожалуй, этот был самым удачным. Какой страстный мальчик, а с виду – такой непроницаемый, холодный как лед, недотрога. Ну, ничего, теперь она подобрала к нему ключик, теперь уж она его не упустит. Когда страсть иссякла, «пробуждение» было тоскливым. Одевшись, Эрих сидел за столом, опершись локтями о его поверхность и закрыв ладонями лицо. Он чувствовал незнакомую, пугающую пустоту внутри, словно лишился чего-то важного, главного, того, что до сих пор наполняло все его существо, воздуха, которым он дышал. От только что пережитых мгновений полета не осталось и следа. Он рухнул на землю, как истекающая кровью птица с перебитым крылом. Упал, как его собственный самолет под Берлином, носом вниз. Он сразу подумал о том, что только что предал Хелене. Он предал память о ней. Это оказалось еще страшнее, чем изменить ей самой, что случалось не раз за три года их романа. Но с тех пор, как она обещала стать его женой на Рождество 1944 года, он не изменил ей ни разу. Все прочие женщины перестали существовать, раз и навсегда. Как казалось. Сейчас он точно знал, что предал ее. И если он сейчас не уйдет, – чего бы это ни стоило, чем бы ни грозило ему, – он предаст ее окончательно. Он окажется связанным по рукам и ногам неистребимым желанием наслаждения, он продаст свою душу дьяволу плотской любви и окажется заложником ее быстротечных радостей. Стоит только начать. Он даст комендантской жене добровольно властвовать над собой, будет выполнять все ее капризы, превратится в раба, пленника не только власти и системы, в пленника женщины, а это страшнее. Она отнимет у него последний оплот сопротивления, она сломает его. Именно этого она и добивается. Зная, что в создавшихся условиях завоюет победу, она жаждет властвовать над ним. Нет. Никогда. Он не позволял властвовать над собой даже Хелене. Впрочем она и не стремилась. Но почему так тяжело, так пусто на сердце сейчас? Его сжигает горькое ощущение стыда. Как последнее спасение, соломинку, за которую можно ухватиться, он старается вызвать в памяти образ Хелене. Но память не спешит не помощь, она наказывает его молчанием. Впервые с тех пор, как он встретился с Хелене, он не может вспомнить ее лица, ее поцелуев, словно кто-то безжалостно стер воспоминания в мозгу. А вместо этого его нежно охватывают руки новой любовницы. Она обнимает его, старается склонить его голову себе на плечо. Он сопротивляется. Она уговаривает:
– Ну что ты так расстроился, упрямец? Ведь нам же было хорошо. И тебе, а мне-то – ух! Так ни с кем еще не бывало. Теперь будешь каждый день приходить. И будет хорошо…
– Нет, – он отбросил ее руку и встал. Варвара опешила.
– Ты чего это, красавчик, спятил что ли? Тебе не понравилось? Ну, давай еще разок. Можешь? – она снова попыталась обнять его. Усилием воли он подавил затеплившееся желание внутри и снял с плеч ее руки. А когда она, чувствуя, что он ускользает, прильнула к нему, полунагая, горячая, ударил ее. Ударил сильно, с размаху. Вскрикнув, она упала на кровать, опрокинув стол со всем, что было накрыто на нем. Откинувшись навзничь, не шевелилась, в уголке рта появилась кровь. Подойдя, он посмотрел на нее, удивленно, но без сострадания. Ему было совсем не жаль ее. Заслышав шум, к дому спешил часовой. Эрих отчетливо различил, как скрипит под ним снег. Только теперь он сообразил, что зашел слишком далеко. Как бы то ни было, отступать поздно. Часовой колотил в дверь и звал хозяйку: – Варвара Михайловна, откройте! Что у вас случилось?
Эрих осмотрелся. Пожалуй, было бы смешно, несмотря на трагичность ситуации, позволить захватить себя здесь – горе-любовник госпожи комендантши. Надо выбраться отсюда, но как? У дверей – часовой, все окна выходят на ту же сторону. И тут он вспомнил – баня. Там должен быть еще один выход, ведущий прямо к озеру. Есть только один путь – через него. Он бросился через коридор к бане. Не получив ответа от хозяйки, часовой начал ломать дверь. Эрих не ошибся, в бане действительно имелся запасной выход. Заперт он был только на засов изнутри, так что открыть его не составляло труда. Пусть побегают, поищут. Он не сомневался, что его накажут, еще как! Может быть, даже расстреляют. Но ему уже было все равно. Он выбежал на улицу. Довольно быстро от комендантского дома он добрался до лесосеки, где работали заключенные и военнопленные. Увидев его, к нему сразу подошел Щеколдин. Спросил негромко, вполголоса, но очень встревоженно:
– Где вы были, Эрих? Я стал волноваться, не заболели ли?
– Я был в доме коменданта, – мрачно ответил Харт-ман, – я последняя скотина, Степан. Я изменил Хелене…
Щеколдин не стал задавать лишних вопросов. Он был тактичным человеком, к тому же, в отличие от Эриха, понаслышался в русской зоне об утехах Варвары. Он искренне сочувствовал Эриху и, видя, что на том лица нет, попытался успокоить его: – Вам незачем обвинять себя, Эрих, – мягко заметил он, – ведь вы молодой человек, это так естественно. Я думаю, фрау Райч простила бы вас. Если бы она на мгновение увидела, какие трудности выпали на вашу долю, она бы простила все, лишь бы вы остались живы…
– Поймите, Степан. Если бы я любил эту тварь, – Эрих горько усмехнулся, – а то как животное…
– Напротив, – горячо возразил Щеколдин, – если бы вы допустили в свое сердце другую женщину, тогда можно было считать, что вы простились с вашим прежним чувством. А так. Все естественно, так бывает, это понятно.
– Спасибо, Степан, – Эрих с признательностью взглянул на Щеколдина. Но глаза его были невеселы.
– Только… – Щеколдин хотел спросить, как Эрих оказался так быстро на лесосеке, ведь комендантша обычно быстро не отпускает. Но ответом ему послужил поднявшийся со стороны железной дороги шум – лай собак, свистки, крики конвоиров. На рельсах, по которым обычно отправляли заготовленный лес, остановилась вагонетка. В ней – полным-полно вооруженных энкэвэдэшников. С собаками, с автоматами наперевес они бросились к лесу, где работали военнопленные.
– Это за мной, – спокойно сообщил Щеколдину Эрих, – ведь я, наверное, убил ее, Барбару-то.
Щеколдин ахнул и побледнел. Он не сомневался, что если дело обстоит, как говорит его молодой друг, Эриха расстреляют прямо здесь, на глазах заключенных и военнопленных, чтобы другим было неповадно.
– Отойдите подальше, Степан, чтобы не попасться под разбирательство. И спасибо вам за все, – сняв рукавицу, Эрих пожал Щеколдину руку, – не волнуйтесь. Я столько раз смотрел в глаза смерти, что мне ничего не страшно.
Конвоиры с руганью спешили к нему. Он сам пошел им навстречу. Удивленные, что он не пытается бежать, они на мгновение опешили. Потом схватили его, надели наручники и потащили к вагонетке. Комендант лично устроил ему допрос. Его пытали, били. Варвара также присутствовала при том. Оказалось, она отделалась весьма легко. Правда, потеряла несколько зубов впереди, на пол-лица у нее красовался лиловый синяк. Она яростно набрасывалась на Эриха с кулаками, кричала, что он хотел убить ее и бежать. Хартман лишь насмешливо улыбался, оглядывая ее. Это приводило Варвару еще в большую ярость. Она то в слезах падала головой на плечо мужа, причитала, то снова разражалась бранью и угрозами:
– Тебя пристрелят как бешеную собаку, фриц проклятый! – перевел Эриху ее шепот, малоразборчивый из-за потерянных зубов, военнопленный, исполнявший роль переводчика.
– Вы так думаете, фрау? – насмешливо поинтересовался Эрих, – а вот тебя она еще не приглашала? – он спросил у толмача, – готовься, я думаю, ты в ее вкусе. На ощупь она ничего, мягкая бабенка, – Эрих подмигнул ему. Офицер вермахта, попавший в плен еще в Белоруссии, смутился.
– Что он говорит? – потребовал перевести комендант. Офицер явно замялся.
– Переводите, я хочу знать! – запинаясь, пленный перевел начальнику лагеря слова Эриха. Тот едва сдерживал нервный смех.
– Это неправда! – взвилась Варвара.
– Молчи! – приказал ей комендант и подошел к Хартману и схватил его за плечи: – Ты лжешь!
Эрих усмехнулся:
– А зачем? – спросил он, – вы все равно меня расстреляете. Я как на духу, господин начальник.
– Сволочь! – комендант резко обернулся к жене. – Сволочь! Сучье отродье!
– Вася, – пискнула Варвара испуганно, – неужели ты веришь?..
– А мне верить незачем, я давно приметил, – начал он. Но вспомнив, что присутствуют посторонние, бросил сердито:
– Выйти всем. Немца в карцер. Завтра расстрелять. – Последнее, что слышал Эрих, выходя из комендатуры под конвоем, – это звук пощечин и вскрик Варвары. Теперь ей досталось от собственного мужа. А дома, видно, достанется еще. Но Эриха уже мало занимали злоключения комендантской жены, которой не повезло с последним любовником, и злоключения самого коменданта, которому не повезло с женой. Он сам выходил на финишную прямую. Всего несколько часов отделяло его от смерти и надо было подвести итог. Его поместили в грязный, вонючий подвал комендатуры, где было очень холодно, а свет проникал только через зарешеченное окошко под потолком, на уровне земли. Созерцать через него можно было только сапоги прохаживавшегося взад-вперед часового. Но вскоре и эта картина исчезла – стемнело.
В окне не было стекла, только решетка. Холодный, колючий ветер гулял по помещению. «Тут нечего даже ждать расстрела, можно просто не дожить до утра, замерзнуть заживо. Даже крысы не рискуют высовываться из своих норок, а попискивают по углам, только хвосты торчат». К вечеру мороз усилился. Сжавшись на ледяном полу, Эрих не верил, что переживет эту ночь. «Но если переживет, с чем встретит завтрашний рассвет, последний рассвет в своей жизни? Ему двадцать шесть лет. Что он сделал за эти годы, с чем предстанет перед Богом? Если не считать детства в родительском доме и годы учебы, вся его самостоятельная жизнь – это война. Правда, на войне он добился больших успехов, стал героем и… влюбился в Хелене. Вот и все. Вот и весь подсчет: он был героем и любил Хелене. Что останется от него на Земле? Память? Для Хелене он уже мертв. Наверное, она переживала. Но время лечит, она вскоре утешится и забудет его. И хорошо, если она встретит другого человека. Для Германии, за которую сражался, он – тоже мертв. Зачем будущим поколениям вспоминать тех, кто навлек горе и разрушение на страну? Все они, мертвые и живые – проклятые демоны, имена которых будут вычерк-нуты со страниц истории. Зачем помнить о поражениях? Родственники, мама… Она плакала, он знает… А раньше она гордилась им. Они мало виделись в последние годы. Он даже не успел рассказать ей о Хелене, она и не знает, кого любил ее сын. Но рано или поздно ей тоже не останется ничего, кроме как оплакать и смириться с его гибелью. Так что же остается ему? Только то, с чем давно уже согласны все – и мама, и Хелене, и Германия – умереть. Вот и весь итог. Завтра ему помогут осуществить этот шаг «товарищи» из НКВД или как их там сейчас называют… А пока… Пока еще есть время вспомнить о Хелене…» От холода мысли его путались, словно слипались. Он продрог насквозь, его бил озноб. Внезапно тишину ночи разорвал гул автомобильных моторов, резкие окрики людей, мелькнули фары, к комендатуре подъехало несколько машин. Прислушавшись, Эрих уловил брань, женский плач, потом кого-то вывели. Машины снова рванулись с места, и вскоре все стихло. Когда заводили заглохшие на морозе моторы, Эрих попытался выглянуть в оконце, что там происходит, но руки его окоченели, и до железных прутьев решетки было не дотянуться – одеревенело все тело. Вот и забрезжил рассвет. «Все. Сейчас придут. Прощай, Хелене. Я попрощался с тобой давно, но в этот раз уже по-настоящему. Никто мне не поможет, как говорится. Прощай, мама. Что ж тут поделаешь, такова судьба солдата проигравшей армии… Только как он пойдет, тело не слушается? А ведь любимцу рейхсмаршала, командиру эскадрильи «Рихтгофен» майору Эриху Хартману не пристало ползти на расстрел на четвереньках, надо сохранить достоинство.» Он старался согреть себя дыханием, движениями, заставить тело шевелиться. Но в то утро за ним так и не пришли. Не слышно было шагов часового, Эрих даже не мог определить, на месте ли он, смены караула не было – это точно. Не мог же он, простояв всю ночь на посту бессменно, остаться и на день. То, что еды не принесут – это ясно. На голодный желудок легче помирать – от голода и холода само собой хочется сдохнуть. Но что случилось? Почему они не пришли? И кто приезжал ночью? Днем потеплело, пригревало солнышко, с ним появилась новая забота – пришлось воевать с крысами. А по всему лагерю – убийственная тишина. Похоже, даже на работу не водили. Всех держат в бараках. Не слышно переклички конвоиров. «Сталин умер что ли? – мелькнула мысль. – Пора бы уж ему…» Эрих окликнул часового, подойдя к двери, затем постучал – тишина. Точно, никого нет. Попробовал открыть – заперто. «Куда же они запропастились?» Короткий зимний день пронесся быстро, и снова спустились сумерки. Похолодало. Теряясь в догадках, Эрих приготовился коротать еще одну ледяную ночь. Весь день он подходил к двери, пытаясь услышать хоть что-то, что объяснило бы ему происходящее в лагере, старался даже выглянуть в окно, но ничего не получилось – оно было высоко, а сил у него – мало. Но за весь день он по всему лагерю не услышал ни звука – словно умерли все. Несколько раз тоскливо завыла собака, да и она смолкла. Расхаживая по своей камере, Эрих вдруг услышал, что кто-то зовет его. Он подошел к окну, поднял голову – Щеколдин.
– Степан! Как вы оказались здесь? – спросил он шепотом. – Это же опасно!
– Я принес кое-что поесть, – так же шепотом сообщил Щеколдин, оглядываясь по сторонам, – и теплый тулуп, сейчас постараюсь просунуть, подождите.
– Спасибо, – Эрих был тронут.
– Нас на работу не водили, – быстро продолжал Щеколдин. – Ночью арестовали коменданта с семьей. За какие-то злоупотребления. «Фуражки» в страхе – начнут следствие. А когда прибудет новый комендант, никто не знает…
Щеколдин не договорил. Видимо, кто-то приближался. Быстро просунув между вертикальными прутьями решетки нехитрый лагерный обед в котелке и впихнув тулуп, он поспешно отполз от окна. Завернувшись в тулуп, Эрих, озадаченный сообщением Щеколдина, уселся за трапезу. «Так вот, оказывается, в чем дело. Арестовали коменданта. Это за ним приезжали ночью. И за женой его. Похоже, – Эрих усмехнулся про себя, – ему опять повезло: теперь он не виновник, а скорее жертва комендантской семейки. Впрочем, это еще неизвестно». Ночью он задремал. А на-утро загремел засов. Эрих почувствовал, как упало сердце: комендант комендантом, а «фуражки», как выражался Щеколдин, знают свое дело. Его вывели из карцера и, к удивлению, повели не на расстрел, а к колонне военнопленных. Они стояли перед бараками, как обычно построенные по двое в ряд в затылок друг к другу, чтобы идти на работу. «Расстреливать будут перед строем, чтобы работалось лучше, веселей» – мрачно сострил про себя Эрих. Но снова судьба улыбнулась ему. Его поставили в строй вместе со всеми. «Новый комендант разберется», – перевел ему толмач слова конвоира. – «Иди, потрудись пока». И повели на работу. Вечером к нему подбежал Щеколдин, он просто сиял от радости.
– Эрих, – сообщил он, задыхаясь, – я принес вам известие. Вы даже не ожидаете. Письмо, – он достал из рукава голубой конверт, – мне передал его писарь при комендатуре. Я помогаю ему иногда, знаете ли. Грамотный человек всегда в цене. Вам письмо …
– Мне? – Эрих не поверил. – Но откуда? – он взял конверт, посмотрел, уголок был отклеен, – к тому же оно открыто.
– Конечно, – спокойно согласился Щеколдин, словно это было обычное дело, – письмо прочитали. Но самое главное, что оно пришло и его разрешили вам передать. Мне кажется, это от фрау Хелене, – предположил он, – я не читал, но мне так кажется. Эрих вынул листок из конверта.
«Я не знаю, получишь ли ты когда-нибудь мое послание, – он сразу узнал ровный, четкий почерк Хелене, услышал ее голос, она словно говорила с ним, – но я долго думала, что ты погиб. Теперь знаю, это не так. Я живу в Вюртемберге, недалеко от дома твоих родителей. Твоя мама жива, здорова, она каждый день молится за тебя, и я тоже. Я не одна, со мной Эльза, она вполне поправилась после ранения. Мы все ждем тебя. Я тоже жду. И люблю, как прежде. Даже еще сильнее.»
– Это невероятно, – слезы комом встали у него в горле. Эрих обернулся к Щеколдину. – Как это может быть? – Степан пожал плечами.
– Писарь сказал, переслали из Москвы. А туда оно попало через Красный Крест. Я очень рад за вас, Эрих, – Щеколдин горячо сжал руку Хартмана. – Бог все-таки есть, как бы нас ни убеждали в обратном. Надо верить и жить.
Надо верить и жить. Хелене Райч сотню раз повторяла себе это. Даже когда верить и жить уже не было больше сил и отчаяние захватывало все ее существо. Верить и жить – она старалась. Она долго лежала в американском госпитале, но выздоровела. Возвращение Эльзы придало силы им обеим. Но когда болезнь была побеждена, встал вопрос – что делать дальше? Полковник Крис Норрис предложил Хелене подписать контракт с американскими ВВС на испытание новейших типов самолетов. Вспомнив начало своей летной карьеры, она согласилась. Ей хотелось уехать из Германии, из разрушенной, поверженной страны, пребывание в которой было столь тягостно, что хоть на край света беги – и там не найдешь покоя. Вся страна превратилась для Хелене в кладбище прошлой жизни, в кладбище ее надежд. Но и за океаном оказалось не лучше. Четыре года они с Эльзой прожили во Флориде. Благодаря блестящему знанию английского языка, Эльза нашла работу в крупном издательстве. Хелене же проходила службу на военно-воздушной базе. Теперь Крис Норрис стал ее коллегой, они служили вместе, вместе проводили много времени. Она замечала, что Крис испытывает к ней чувства гораздо более сильные, чем сострадание и даже дружба. Он полюбил ее, желал близости с ней. В их отношениях наступил момент, когда надо было решиться: перейти грань или остановиться. Высокий загорелый американец, с едва заметной индейской черточкой в лице, мог помочь Хелене забыть прошлое и начать новую жизнь. Однажды на берегу океана, оставшись с Хелене наедине, он открылся в своих чувствах. Она замешкалась. Он решил, что ее смущает его семейное положение – Крис был женат. Объяснившись с женой, он подал на развод. Она не остановила его. Почему? Она сама не знала.
Я не понимаю, почему ты сомневаешься? – спрашивала ее Эльза, – для того, чтобы все забыть и начать заново, лучшего человека, чем Крис, быть не может. Он любит тебя, он сможет сделать тебя счастливой, – говорила она, но не очень убедительно. Хелене чувствовала это. – Неужели ты все еще надеешься? – спрашивала Эльза, затаив дыхание.
Хелене молчала, глядя с балкона на океан. Что она могла ответить? Ждала ли она? Конечно. Она все еще жила прошлым. Она вовсе не хотела его забывать. Она не хотела, чтобы кто-то сделал ее счастливой, здесь, в Америке. Она вообще не хотела никакого счастья, кроме того, которое у нее уже было, но погибло в огне войны. Америка и американцы по-прежнему оставались для Хелене чужими. Все в этой стране было не по ней, все не так, как она привыкла. Ее мучила ностальгия, тянуло домой. Германия и Эрих, память о них, не оставляли ее ни на мгновение. Собравшись с духом, она отказала Крису, сожалея, что тем причиняет ему боль. Но будущего не было – она его не видела. Она его не хотела видеть. Ее звало прошлое, и только прошлое было дорого ей по-настоящему. В 1949 году была провозглашена Федеративная Республика Германия. Как только это случилось, Хелене отказалась продлить свой американский контракт и вернулась на родину. Она вступила в бундесвер. Ее приняли в прежнем звании на службу новой Германии. Теперь отчасти ее сердечная тоска утихла: она снова была дома, среди своих. В бундесвере она встретила многих из тех, кого знала раньше, в вермахте и в авиации. Здесь собрались все, кто остался в живых. Конечно, новая Германия совсем не походила на прежнюю, а главное – она оказалась намного меньше по территории – родные, любимые для Хелене города Дрезден и Берлин остались на чужой, советской стороне. Путь туда ей был заказан раз и навсегда. Она больше никогда не сможет посетить могилы родителей. Такое открытие привело Хелене в отчаяние, но она смирилась. Что она может изменить? Только верить и жить. И ждать, что когда-нибудь империя большевиков развалится, как развалились многие империи до нее в истории. Что ж, раз Дрезден и Берлин недоступны, придется устраиваться на другом месте. Она выбрала Вюртемберг, родину Эриха, и поселилась недалеко от дома, где жила его мать. Новый дом Хелене и Эльза обставили так, чтобы он напоминал их родной дом в Дрездене. Многое возвращалось к ней теперь. Даже Зизи вернулась. Однажды утром в дверь позвонили, Хелене открыла – перед ней стояла ее прежняя горничная, как всегда на высоких каблуках, с объемистым чемоданом в руках.
– Я снова хочу работать у вас, фрау Хелене, – проговорила она дрожащим голосом, – я прочитала в газете, что вы вернулись. Я не могу себе представить, как жить дальше иначе. Война все время стоит у меня перед глазами, пожалуйста, возьмите меня обратно.
Конечно, Хелене взяла ее. Ведь если даже Зизи не может забыть о войне, не вышла замуж за те годы, что прошли после трагического мая 1945 года, ее не радует новая жизнь, что же тогда Хелене? Хелене Райч, «белокурая валькирия Геринга»? Восемь лет после войны она прожила одна. На службе она носила мундир, а дома – только черное, траур по матери, траур по Герингу, траур по Эриху, по Андрису, по Магде, по всем, кого помнила и любила. Эльза поддерживала ее. Она тоже оставалась одна, и тоже – вся в черном. Даже на работе в газете. Но кто бы удивился этому в Германии? Вся страна тогда ходила в черном. И куда ни придешь, куда ни глянешь – везде только старики, женщины и дети. Мужчин очень мало. В основном инвалиды. Немало прошлых поклонников «белокурой валькирии рейха», переживших войну, в том числе и из авиации, готовы были скрасить одиночество Хелене. Но она отвергла их так же, как отвергла любовь Норриса. Она не могла снова любить. Она не хотела любить. Сама мысль о новой любви вызывала у нее болезненные воспоминания о двух трагических потерях, которые пришлось пережить за войну, о Гейдрихе и Хартмане. Она потеряла их обоих. Сердце ее было глухо к новым чувствам. Оно хранило и оплакивало прежнюю любовь. Ни на один день она не забывала Эриха. Она хранила ему верность, как будто предчувствовала, что он жив. Она ждала его, ждала чуда, хотя умом понимала, что ждать уже нечего.
Одним из первых, кто приехал в Вюртемберг к Хелене вскоре после ее возвращения из-за океана, был Харальд Квандт, сын Магды Геббельс от первого брака. Когда-то юным лейтенантом он начинал служить в ее полку, потом по настоянию матери перевелся на Западный фронт. Войну закончил в американском плену. Он приехал к Хелене, потому что знал, как любила ее Магда. Он надеялся услышать от нее рассказ о последних днях жизни его матери. Хелене передала Харальду письмо Магды, которое тщательно хранила все эти годы. В тот момент, когда Харальд раскрыл письмо, всем присутствовавшим в гостиной показалось, будто время откатилось назад. Бумага пропиталась запахом пороховой гари – последние дни Берлина словно ожили в памяти. Закрыв глаза, Хелене словно воочию увидела перед собой лицо Магды. «Мне не верится, что мы когда-нибудь увидимся, Хелене, – услышала она ее голос, доносящийся сквозь гул артиллерийских разрывов, – я хочу, чтобы ты осталась в живых. При известных условиях ты будешь единственной, кто добрым словом вспомнит о нас. Оставайся в живых, дорогая. Жизнь так прекрасна, господи… Прощай.»
– Я прочту вслух, мне нечего скрывать, – произнес Харальд дрогнувшим голосом, – я думаю, моя мать желала бы этого, – он вопросительно взглянул на Хелене. Та молча кивнула.
– 8 апреля 1945 года. Написано в бомбоубежище фюрера, – как только прозвучали эти слова, Зизи перестала накрывать на стол и, всхлипнув, прижала кружевной платок к глазам. Эльза встала из-за рояля и подошла к Хелене, стиснув ее руку. Магда словно говорила с ними через годы. – Мой дорогой Харальд! – слеза скатилась по щеке Квандта, – мы сидим в бомбоубежище фюрера, окруженные со всех сторон и боремся за нашу жизнь и за нашу честь. Каков будет исход этой борьбы, знает один лишь Бог. Но я уверена, что живыми или мертвыми, мы выйдем из нее с честью и славой. Мне почти не верится, что мы снова когда-нибудь увидимся. Так что это последние строки, которые ты получишь от меня. Я надеюсь, что ты, если переживешь эту войну, будешь достоин меня и твоего приемного отца Йозефа. При известных условиях ты будешь единственным, кто продолжит традицию нашей семьи. Германия переживет эту войну и воскреснет, но только в том случае, если кто-то принесет за нее жертву, если у нашего народа будут перед глазами такие примеры. Такой пример хотим дать мы с Йозефом. Что бы ни говорили о нас, не допусти, чтобы тебя сбил шум, который поднимется в мире после нашего конца. Ложь рухнет в один день, и тогда мир узнает правду. Прощай, мой дорогой Харальд! Если мы не встретимся с тобой, всегда гордись тем, что принадлежишь к семье, которая и в несчастье, до конца, до самого последнего момента не дрогнула и осталась верна делу, которому служила. Я обнимаю тебя со всей сердечностью. Твоя мать» – дочитав до конца, Харальд прижал письмо к сердцу и, опустившись в кресло, заплакал. Хелене молча гладила его по голове, сама с трудом сдерживала рыдания. «Лучше кончить жизнь в борьбе, чем стать предателями, – в памяти снова прозвучал голос Магды, – вот ты, ты ведь летишь, чтобы драться до конца? И я тоже пойду до конца…»
– Зачем она убила детей? – Харальд поднял голову. На нее взглянули его залитые слезами глаза – такие же большие, светлые, как у Магды, – зачем она убила моих сестер и братика? Я бы вырастил их, я бы посвятил им всю жизнь!
– Я убеждала ее не делать этого, – ответила тихо Хелене, – но, во-первых, она ничего не знала о том, что с тобой, жив ли ты. Ей некому было их поручить. Кроме того, в отличие от тебя, они были детьми Геббельса. Ты сам понимаешь, как трудно им было бы жить теперь.
Она передала Харальду кольцо Магды, которое получила из ее собственных рук в бункере. Харальд Квандт стал постоянным гостем в доме Райч. Вместе они навестили в Вестфалии сестру Андриса фон Лауфенберга. Узнав о гибели сына, его отец умер. Анна осталась одна, растерянная, убитая горем, как многие женщины в разгромленном рейхе. Ее встреча с Харальдом спасла от одиночества их обоих. Хелене была рада, что хотя бы у сына Магды жизнь переменилась к лучшему.
Хелене долго не решалась нанести визит матери Эриха. Фрау Хартман даже не догадывалась, что благодаря хлопотам Хелене ей удалось выехать в Швейцарию перед самым окончанием войны, где она спокойно пережила страшные месяцы весны 1945 года. Когда Хелене впервые приехала к ней, она очень удивилась, что командиром ее сына была такая красивая, элегантная женщина. Оказалось, что Эрих в письмах домой вовсе не упоминал о Хелене. Хелене не обиделась – ей он тоже ничего не говорил о матери. Так считал нужным. После первого визита Хелене стала приезжать часто. Она подолгу рассматривала фотографии в альбомах, особенно военной поры. Фрау Хартман нередко замечала, сколько скрытой грусти и нежности отражалось в эти моменты в ее взгляде, сколько невысказанной боли и страдания. Она приходила к нему в дом, как на свидание с ним. Беседовала про себя с его изображением, как с живым человеком. Расспрашивала о его детской и юношеской жизни, которой не знала. На фотографических изображениях, присланных матери с фронта, он был таким, каким она помнила его, каким любила: молодым, красивым, веселым, в лихо заломленной фуражке, совсем еще юным лейтенантом. Или вот, самая последняя фотография, 1944 года, когда ему вручали Рыцарский крест. От прошлого у Хелене сохранились только две фотографии, которые она берегла: фотография Гейдриха, сопровождавшая ее всю войну и подаренный Линой ее собственный портрет, когда-то украшавший рабочий стол рейхспротектора в замке Паненске Брецани. От Эриха ей не осталось ничего. Она попросила фрау Хартман подарить ей одну из фотографий времен войны. Фрау любезно согласилась. Хелене обрадовалась – теперь Эрих был постоянно с ней.
Едва возвратившись в Германию, Хелене сразу поинтересовалась судьбой Лины Гейдрих и ее детей. Лина все еще оставалась в Швейцарии. Она приняла предложение крупного издательства и села писать мемуары. Старший сын Гейдриха, Клаус, учился в престижном колледже, его младшие брат и сестра посещали школу. Узнав, что фрау Райч вернулась из плена, Клаус стал часто навещать ее. Он подружился с Харальдом Квандтом и решил воплотить свою детскую мечту – стать летчиком. Он по-прежнему любил Хелене, как и в детстве, и говорил, что будет всегда любить:
– За отца.
С образованием ФРГ и началом дипломатического обмена между ФРГ и СССР наконец стало возможным получить хоть какие-то вести о немецких военнопленных, содержавшихся на территории Советской России. Крис Норрис, приехавший на американскую базу в Германии, посоветовал Хелене послать в Красный Крест запрос о Хартмане – он до сих пор значился как пропавший без вести. Крис даже обещал посодействовать, чтобы с ответом долго не затягивали. Хелене так и поступила. Несмотря на все усилия Норриса, ответа пришлось ждать почти год. Сотрудник швейцарского Красного Креста, который лично посетил фрау Райч в Вюртемберге, просил извинить за задержку, но «вы понимаете, с Советами так трудно иметь дело, – жаловался он. – Они не желают давать никаких сведений. Каждую фамилию приходится вырывать с боем. А теперь, после речи господина Черчилля в Фултоне, они и вовсе не настроены к сотрудничеству». Что ж, от большевиков она никогда не ждала ничего хорошего. Хелене почти рассталась с надеждой получить весточку об Эрихе, но однажды утром в дверь ее дома позвонили. Зизи открыла и через мгновение вбежала, возбужденная, в столовую, где завтракали Эльза и Хелене.
– Фрау Райч, фрау Райч, письмо из Женевы!
Дрожащей рукой Хелене взяла у нее бархатистый белый конверт с символикой Красного Креста. Взглянула на адрес – письмо пришло от того самого клерка, который посещал ее год назад. Зизи и Эльза, затаив дыхание, наблюдали за Хелене. Она открыла конверт, вытащила листок бумаги. «Неужели это конец? Неужели и там, в этой страшной, холодной стране его тоже нет. Неужели мертв?»
– Ну, читай же, читай! – не выдержала Эльза, – так долго ждали, чего ж тянуть? В конце концов, если Эрих погиб, хуже не будет. Хуже некуда.
Неужели нет никаких сведений, неужели рухнула последняя надежда? Пробежав глазами первые строчки, Хелене вскрикнула.
– Что? Что? – спрашивали Эльза и Зизи, хотя у обеих похолодело сердце.
– Он жив, – прошептала Хелене, – он в русском плену…
Он жив. Она не зря ждала. Держа перед собой письмо Красного Креста, Хелене словно онемела. Она побледнела. Потом плакала, плакала, упав на диван и уткнувшись лицом в подушку. Надо верить и жить, надо верить и жить. Теперь ей было, ради чего жить. Эрих – в русском плену. Эта новость заставила Хелене помолодеть. Она снова почувствовала прилив сил, энергии. Она теперь видела, к чему стремиться, понимала, кого ждать. Она выстрадала, выплакала, вымолила это известие. В тот же вечер, когда пришло письмо из Швейцарии, Хелене поехала к фрау Хартман. Они плакали вместе, обнявшись. Не требовалось никаких слов, фрау Хартман прекрасно поняла, что Хелене и Эриха связывали не только служебные отношения. Спустя месяц клерк из Женевы посетил Хелене вновь.
– Вы можете написать господину Хартману письмо, – сообщил он. – Мы постараемся сделать так, чтобы оно попало по назначению. И она написала. «Я жду и люблю тебя…» Ведь он, конечно же, не верит, что она ждет. Или даже не знает, что она осталась жива. Вполне вероятно, что он простился с ней так же, как она простилась с ним… Чуть позже, по просьбе Анны, Хелене послала запрос в Красный Крест о судьбе Андриса фон Лауфенберга – из последней надежды. Но ответ пришел отрицательный. Стало ясно окончательно – Андрис погиб.
Новый комендант лагеря оказался бывшим фронтовиком. Как сказал Щеколдин, он дошел до Берлина, но где-то «срезался», то ли расстрелял, кого не нужно было, то ли вывез слишком много трофеев, приглянувшихся начальникам повыше. Вот и оказался здесь, за Уралом. Неприятный, мрачный, сухощавый тип с одутловатым лицом. О предписанном прежним комендантом расстреле он долго не вспоминал, словно и не было ничего такого. Потом объявил, что тот перегнул палку, и отменил решение…
«Я долго думала, что ты погиб. Теперь знаю, это не так. Я живу в Вюртемберге, недалеко от дома твоих родителей. Твоя мама жива, здорова, она каждый день молится за тебя, и я тоже. Я не одна, со мной Эльза, она вполне поправилась после ранения. Мы все ждем тебя. Я тоже жду. И люблю, как прежде. Даже еще сильнее». Теперь Эрих по несколько раз на дню перечитывал эти строки в письме Хелене. Надо верить и жить. Кажется, так сказал Степан? Да, надо верить и жить. Что бы ни случилось, как бы трудно ни казалось, надо верить и жить – вопреки всему. Вопреки отчаянию и смерти. Хелене в Вюртемберге и ждет его – было отчего побороться за жизнь.
В марте 1953 года умер Сталин. Письма, которые неустанно писал Щеколдин о судьбе Алупки министру государственной безопасности СССР Лаврентию Берии, наконец-то возымели свое действие. Из Москвы поступило распоряжение «гражданина Щеколдина за ударный труд и примерное поведение освободить досрочно». Степану разрешалось вернуться в Крым и снова взяться за любимое дело. Его назначили директором Алупкинского заповедника, на пост, который он занимал до войны. Сам дворец изъяли из ведомства МГБ и передали в распоряжение музейных работников. Теперь Степан считал дни до того момента, когда снова увидит Алупку. Эрих искренне радовался за друга. Они простились тепло, не договариваясь о встрече. Да и где, когда они увидятся? Вообразить себе подобное было просто невозможно.
– Надо верить и жить, – снова повторил ему Степан при расставании. А осенью 1953-го первые поезда с бывшими немецкими пленными потянулись назад, в Германию. Сначала уехал полковник Брандт. Потом пришел черед Хартмана.
Вот и все. Все адские муки позади. Как долог путь домой! Из Сибири поезд, когда-то доставивший его в эти места, неведомые прежде, но ставшие за прошедшие восемь лет почти родными, снова везет его. Но теперь уже не на восток, а на запад, домой, к родному очагу. Везет с войны, которая для него продолжалась не четыре года, она длилась для него и тех, кто был с ним, целых двенадцать лет. Второй раз он прощается с Россией, как и встречался с ней дважды: полный победоносных амбиций юнец-лейтенант в 1942-м и майор поверженной, разбитой Люфтваффе в 1945-м. Какой увидит он свою родину, восставшую из пепла? Какими увидит он свой дом и свою мать? За время войны он ни разу не приезжал в отпуск, проводя его с Хелене. Из дома он ушел в 1942-м на войну, мальчишкой, в восемнадцать лет, а возвращается мужчиной, у которого ранняя седина уже посеребрила виски, и горькие морщины залегли у губ и глаз. Смерть друзей и горечь поражения оставили свои неизгладимые следы. Поезд везет его по отдаленным уголкам этой великой, победоносной страны, которая так и остается для него, немца, вечной пугающей загадкой. И лучше больше не возвращаться сюда никогда. Вот промелькнуло и растаяло за горизонтом озеро, в сумраке ночи плакучие ивы склонились над неизвестной рекой. Россия кончилась. В его тридцать первый день рождения она кончилась совсем. Впереди лежала Германия.
Он помнил свою страну разбитой, униженной, поверженной в прах, когда все думали, что над ее безликими руинами, над горем и пеплом этой земли уже никогда не взойдет солнце. Он помнил, как пробили час гибели исторические куранты, и казалось, новый день уже не начнется, и стрелки не пойдут вновь. Все умерло, все похоронено в прошлом. Но солнце взошло. Усилиями и мужеством его народа, кровью тех, кто стоял до конца, свершилось чудо – новая Германия, страна, как думалось, сгинувшая в небытие, вновь стала явью. Пусть вдвое меньше по размерам, пусть с новой столицей, пусть даже их теперь две и та, восточная, вроде как, и не Германия совсем, иная, чужая, советская. Но он хорошо помнил завет Щеколдина: надо верить и жить. Надо верить, что придет время – и все будет, как прежде. Он смотрел вокруг и не удивлялся тому, что видел. Залечила раны земля, расцвели по весне вновь возрожденные сады и парки. Остались только шрамы в сердцах людей. Но сняли уже черные платки вдовы, нашедшие новое счастье или утешившиеся в детях. И только матери, чьим уделом стало холодное одиночество на десятки лет, еще помнят, они не забудут никогда.
Он сразу увидел свою мать. Она стояла на перроне. Она пришла его встречать. Щуплая, тоненькая, с испещренным морщинами лицом – «как же долго ты ждала, мама! Ты прощалась со мной, хоронила, ты уже не смела надеяться…» Но вот и пришел твой сын, твой мальчик, которого в восемнадцать лет ты отправила на фронт по воле фюрера во имя идеалов Великой Германии. Вот он вернулся наконец с фронта, вернулся через двенадцать лет. Он молча обнял мать, прижал ее голову к груди. «Ты плакала? Ты не спала ночи? Ты проклинала фюрера, которого боготворила в тридцатых, как и все немцы? Да, ты проклинала его двадцать лет спустя. Но что говорить о прошлом. Я пришел, я вернулся с войны. Прости, что не приезжал к тебе, когда это было возможно, прости за всех женщин, на которых я променял драгоценные минуты наших свиданий. Прости меня. Я видел смерть и кровь, я убивал, я сам многих лишил жизни. Но, видно, твои молитвы хранили меня, спасая в последний миг. Ты дождалась меня, мама. Так что же ты плачешь? Тебе повезло. Твой сын остался жив, он вернулся домой, израненный, седой, он все-таки пришел, дополз. И все теперь будет по-новому, мама. Все теперь будет хорошо. Я так люблю тебя, мама, единственная моя, родная.» Первый вопрос он задал о Хелене.
– А что же Хелене, мама, она не пришла меня встречать? – и почувствовал, как тревожно сжалось сердце. Как в те минуты, когда он сомневался в ее любви, когда ревновал ее к Гейдриху, совсем как раньше.
– Хелене вызвали на базу, – сообщила фрау Хартман, – еще вчера вечером она приезжала ко мне, и мы собирались сегодня вместе прийти на вокзал. Но этот генерал, как его, – фрау Хартман нахмурилась, – американец какой-то. Вот вздумалось ему проводить испытания. Она вынуждена была уехать. Она так огорчилась, я понимаю ее. Но она приедет вечером, обязательно. Ты очень скрытный, мой мальчик, – она притянула его за руку к себе, – такая красавица, такая знаменитая женщина, а ведь ничем не выдал, что она твоя жена.
– Так было нужно, мама, – мягко ответил он, – не обижайся.
– На что мне обижаться? Что ж, мальчик мой, идем же скорее домой.
«Идем домой» – какие простые слова! Идем в наш дом, дом моего детства. Какое счастье, что он почти не пострадал от войны. Детские комнаты и детские игрушки, фотографии и письма курсантских лет. Да, как давно это было. Каким красавцем был твой сын, двадцатилетний лейтенант, а потом гауптман…»
– Эрих, а как там? Как там было?
– Нормально, – отвечает он. Но про себя думает: «Тебе лучше ничего не знать об этом, дорогая мама». Он снова прошел по комнатам, в которых вырос. Как, казалось бы, все это прочно и безвозвратно забыто, безнадежно потеряно в вихре лет: домашняя еда, тепло, уют и руки матери, ласковые, заботливые. «Как хочется скорее уткнуться в родную, детскую подушку, над которой на полке еще стоят самолетики, сделанные мальчишескими руками, когда он был еще школьником и только мечтал о небе. Тогда он думал, что небо – оно всегда голубое. А оно … Он видел его чаще черным от дыма и гари, в нем гибли его друзья в объятых пламенем, с воем падающих наземь машинах. Это небо огрызалось пулеметным огнем. Оно так часто бывало похоже на ад. Заметив, как переменилось его лицо, мать обняла его сзади, он обернулся и, взяв за руку, прижал ее ладонь к своей щеке.
– Все позади. Я все прошел и вернулся к тебе. И к Хелене. Она тебе понравилась, мама?
– Еще бы! Кому ж она не понравится. Наверное, тебе надо поспать? – спрашивает она озабоченно, – я постелю.
– Нет, мама, – он отрицательно мотнул головой, – я буду ждать Хелене. Я буду ждать, когда она приедет.
И все-таки усталость взяла свое. И многие испытания, пережитые прежде. Только присев в кресло, он заснул. И проспал двое суток. Когда же открыл глаза, то обнаружил, что находится дома один. Фрау Хартман куда-то ушла. А Хелене? Его первая мысль сразу же была о ней? Он проспал? Она приезжала и уехала? Как он мог? Какой сегодня день? Сколько же он спал? Вскочив, он быстро умылся. На мгновение задержал взор на своем отражении в зеркале. Каким Хелене увидит его? Мама говорит, что сама она совсем не изменилась, а он? На фотографическом портрете в гостиной майор Эрих Хартман в день награждения его Рыцарским крестом белокурый и голубоглазый в щегольском парадном мундире. А теперь? Волосы посеребрила ранняя седина. На лице морщины, он выглядит старше своих тридцати лет. Хелене, пожалуй, и не узнает его. Хелене… Он принял на себя удар советского истребителя, чтобы спасти ее от испытаний, которые выпали ему. Он не задумываясь умер бы за нее. Примет ли она его таким, какой он стал? Ведь изменилась не только внешность, он сам стал совсем другим. Он услышал, как к дому подъехала машина. Бросив полотенце, подошел к окну, отдернул штору, и сердце его бешено заколотилось. Хелене вышла из темно-синего «мерседеса». Одета в элегантный серый костюм. Ему было странно видеть ее в обычной женской одежде. Он видел ее в военной форме, видел обнаженной, но вот в обычной женской одежде, пожалуй, никогда. Не то было время. Хелене закрыла машину, звякнули ключи. Она повернула голову, окинув взглядом улицу. Да, мама права, она совсем не изменилась. Все те же пышные, светлые волосы, серьезное выражение лица с тонкими, изящными чертами, известными всей Германии по плакатам военных времен и синие глаза Кассиопеи, как некогда высокопарно выражался Геббельс. Все та же стройная фигура и длинные, красивые ноги в туфлях на высоком каблуке. Хелене… Вот сейчас ты поднимешься по лестнице. Ты еще не знаешь, что тебя ждет. И я не знаю, что ждет меня. Все вернется вновь или кончится навсегда.
Мгновение помедлив на крыльце, Хелене открывает входную дверь своим ключом – фрау Хартман любезно дала его, чтобы Хелене могла приезжать в любое время и чувствовать себя как дома. Вот она входит в дом. Старается ступать тихо. Наверное, она приезжала, пока он спал, и теперь думает, что он все еще спит. Положив в прихожей у зеркала перчатки и сумку, проходит в гостиную.
– Фрау Хартман, это я, – окликает негромко. Никого. Слегка встревоженная, Хелене поднимается по лестнице на второй этаж. Входит в его спальню.
– Фрау Хартман, – … голос ее тает. Эрих оборачивается к ней от окна.
– Мамы нет, здесь только я. Здравствуй, Хелене.
Несколько мгновений она неотрывно смотрит на него. Он видит, как в распахнутых глазах ее мелькает сначала растерянность, потом испуг, потом радость. В волнении она прижимается к стене комнаты и не может выговорить ни слова…
– Ну что ты, Хелене, иди ко мне, – он протянул к ней руку, – я не сон, я реальность. Я вернулся домой с войны. Или ты не узнаешь меня? Неужели ты меня забыла.
Она не шелохнулась. Лицо ее смертельно побледнело, скулы дрожали, тогда, понимая ее чувства, он подошел к высокому овальному зеркалу, взял лежавшую на тумбочке перед ним фуражку с высокой тульей. Надел ее и, повернувшись к Лене, отдал честь, как бывало козырял ей, когда служил командиром эскадрильи «Рихтгофен» в ее полку.
– А так? – спросил он насмешливо, – так, вы узнаете меня, фрау оберст? Разрешите доложить, майор Хартман вернулся из плена и готов приступить к исполнению своих обязанностей, – он улыбнулся, – как чувствует себя моя эскадрилья? Какие потери? Появилась ли интересная молодежь? А девочки из управления связи? Все те же или прибыли новые красотки?
– Я приезжала сюда два дня назад, – голос Хелене, бес-цветный, робкий, едва слушался ее, – ты спал. Я почти всю ночь просидела рядом с тобой.
– Ну, так что? – он подошел к ней и взял за плечи, – ты не обнимешь меня? Всхлипнув, она обхватила его руками за шею, прижалась лбом к его плечу, все тело содрогалось от рыданий, – я не могу поверить, – шептала она, – я не могу поверить, что ты… ты сам… передо мной.
– Это я, кто же еще? – он гладил ее волосы, целовал их, вспоминая их аромат, – я привез тебе привет от всех твоих офицеров, от всех асов, сбитых над Волгой и над Москвой, над Днепром, над Минском и Белгородом. Они лишь от нас, не по своей воле вернувшихся в Россию, узнали, что погибли зря, и Великая Германия так никогда и не одержала победу, ради которой они дрались и пали. Я привез тебе прощальный привет от солдат, которые от голода и холода, от ран, физических и душевных, умерли в плену. Они тоже погибли за Германию, которой уже не существовало. Я привез тебе привет от тебя самой, командира лучшего полка истребителей Люфтваффе. От тебя, какой ты была в сорок втором году, когда я приехал к тебе по направлению из летного училища. Я привез тебе привет из нашей молодости, из лет, опаленных войной, но согретых нашей любовью, Лена. Но это еще не все, – он сделал паузу, – я привез тебе подарок. Вот, взгляни, – он с нежностью отстранил ее. – Это фото вырезала из газеты в сорок шестом году русская медсестра в госпитале по моей просьбе. Я услышал по радио, что ты приходила в камеру к Герингу в Нюрнберге, и понял, что ты жива, и благодарил судьбу, что ты не оказалась там же, где и я. Эта мысль поддерживала меня в самые трудные, первые годы плена. Эту фотографию я хранил, как зеницу ока, и скорее жизнь свою был готов отдать конвоиру, чем ее. Она была со мной, на моем сердце все это время и пережила все, что пришлось пережить мне. Она потерлась, твое изображение на ней едва различимо. Но теперь мне уже нет необходимости смотреть на нее, я могу смотреть на тебя, живую. Все такую же красивую и дорогую для меня. Я отдаю ее тебе, она из русского плена. И хоть ты была здесь, в моей душе, в моем сердце, ты была со мной там, и я берег тебя, как мог. Возьми.
Он протянул ей памятное, потертое, пожелтевшее фото из газеты 1946 года, неаккуратно вырезанное ножницами медсестры Клавы. Дрожащей рукой Хелене взяла его. Опустила глаза, слезы катились по ее щекам, она не могла сдержать их. Потом она подняла голову, провела ладонью по его лицу, поправила фуражку на его голове:
– Не так, – прошептала едва слышно. – Вот так. Вот так носил мой красивый и смелый майор Эрих Хартман, так носил командир эскадрильи «Рихтгофен», бессмертной эскадрильи, – потом помедлив, сообщила: – «Рихтгофен» снова в строю и она ждет вас, майор Хартман, когда вы примете над ней команду.
– «Рихтгофен»?! – он не поверил в то, что услышал, – «Рихтгофен» существует?! «Рихтгофен» меня ждет. Это невероятно! – он снова прижал Хелене к себе, – а ты? – спросил, затаив дыхание, – ты ждешь меня, Хелене?
– Ты не получил моего письма? – ответила она обеспокоенно, – я послала тебе письмо через Красный Крест…
– Я получил, – произнес он проникновенно, – я все прочел, Хелене. Но скажи сама, скажи сейчас. Ты ждала меня?
– Я только и делала, что ждала, – вздохнула она глубоко, – надеялась, не имея надежды, верила, когда не верил никто. Я ложилась спать и вставала только с одной мыслью, с одной надеждой, все остальное не имело значения. Все было второстепенно для меня. А ты? – она шутливо ударила его пальцами по спине, – я не верю, что ты хранил мне верность. В плену, наверное, тоже встречались женщины, – Хелене засмеялась, – вот я уже слышала про какую-то медсестру, которая с готовностью вырезала для тебя мою фотографию. Кто еще? Докладывайте, докладывайте, майор. Я все равно узнаю, рано или поздно.
– Да уж в плену, сплошь одни женщины, – он ответил язвительно, – хотя парочку я встретил. Помнишь нашу уборщицу из летного офицерского общежития в Минске, эту смешную Веру Соболеву? Теперь она, наверняка, выучилась и работает каким-нибудь важным руководителем, серьезная девушка оказалась. Она приносила мне еду в первые годы плена в Минске. Представь, она помнила Андриса. Она любила его, всерьез любила, а мы шутили над ней. Что Андрис? – он тронул Хелене за плечо, – ему все-таки не удалось… – он не договорил.
– Не удалось, – ответила Хелене глухо, – внесли в список погибших. Его отец умер. Анна живет теперь одна.
Эрих помолчал.
– А помнишь день рождения фон Грайма в Крыму, – продолжил он погодя, – и экскурсию, которая примирила нас после ссоры? Нам рассказывал о музее смотритель? Так вот, вообрази, его осудили за сотрудничество с немцами, и мы встретились с ним в сибирском лагере. Все эти годы он был мне близким другом. Мы вместе вспоминали тебя. Теперь он тоже освободился и уехал в Крым.
Она повернулась, рукав на ее блузе поднялся, Эрих увидел шрамы на запястье.
– Что это, Лена, – он прижал ее руки к груди, – зачем?
– Я думала, что ты погиб, не хотела жить, – призналась она, опустив голову, – теперь я понимаю, что если бы американцы меня не спасли, я потеряла бы намного больше, чем предполагала.
– Надо верить и жить, Хелене. Так всегда говорил мне мой друг Степан в лагере, – Эрих поцеловал шрамы на ее руках, – я вернулся, мы снова вместе. Я люблю тебя так же, как любил. И если ты согласна, то, не откладывая ни на день, ни на секунду, мы должны сделать то, что собирались еще во время войны. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, Хелене. Мы и так потеряли слишком много времени. Вспомни, ты говорила об этом своей покойной матушке в Дрездене перед тем, как началась бомбардировка. Твоей мамы нет, но моя жива, она благословит нас. Ради памяти твоей матери, ради памяти всех, кто погиб, мы должны жить дальше, Хелене. И помнишь, как я сказал тебе после торжественного приема у Геринга? Роди мне сына, Лена.
– Сына? – Хелене с сомнением покачала головой, – но я ведь уже не так молода. К тому же мы столько пережили.
– Но надо постараться, госпожа оберст, – он радостно поцеловал ее в нос, – у вас всегда находятся отговорки. То генерал фон Грайм на проводе, то рейхсмаршал в Берлине, то русские истребители на подходе. Теперь кто? Тот американский генерал Норрис, который вызвал тебя на базу проводить испытания? Я хочу сына, Лена, все, хватит. Американцы же – не Геринг, американцы подождут.
Внизу хлопнула дверь. Эрих прислушался.
– Это мама, – сказал он, – ну, что, Хелене, ты согласна быть моей женой? Тогда идем к ней.
– Я согласилась еще на Рождество сорок четвертого, – улыбнулась она, стирая платком слезы, – куда теперь деваться? Отступать я не привыкла.
– Я тоже, – он взял ее за руку и повел вниз. Спустя три дня их обвенчали в церкви. В то утро она была в белом, и впервые за восемь лет, прошедших после войны, Эльза Аккерман, Анна фон Лауфенберг и даже горничная Зизи надели яркие, нарядные платья, чтоб больше уже никогда не возвращаться к трауру. Стояла теплая, солнечная погода. Лина Гейдрих прислала поздравительную открытку. Харальд Квандт и сын Лины, Клаус, оба в парадных летных мундирах, присутствовали на церемонии. От генерала Норриса и всего личного состава базы ВВС США прислали огромную корзину цветов. Ее букет поймала Анна и вскоре она обвенчалась с Харальдом.
Конечно, Эрих не сразу вернулся в строй. Подорванное в плену здоровье давало о себе знать и ему пришлось долго лечиться, прежде чем снова вступить в авиацию. Но Хелене была с ним и помогала ему. Она не жалела ни времени, ни денег, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Восстановившись в бундесвере и получив звание полковника, Эрих Хартман вновь принял под командование легендарную эскадрилью «Рихтгофен». Молодые летчики с ликованием встретили самого знаменитого истребителя времен Второй мировой войны и были горды тем, что им пришлось служить под его началом.
Вскоре он командовал уже и всем полком, в который входила эскадрилья «Рихтгофен». А в конце 1960-х годов принял под свое командование воздушный флот Северо-атлантического альянса. Так состоялась блестящая карьера, о которой Эрих всегда мечтал и которую прочил ему еще в 1940-е годы преданный анафеме рейхсмаршал Люфтваффе Герман Геринг.
Спустя несколько лет после женитьбы на Хелене, как-то весной, на маневрах НАТО телетайп отстучал ему долгожданную весть от ее сестры. Эльза Аккерман сообщала, что у Хелене родился сын, и она назвала его, как они давно уже решили, Андрисом, в честь лучшего друга их молодости, пожертвовавшего собой весной 1945-го в небе над Берлином ради их любви, ради будущего, ради счастья Хелене. Они назвали сына в честь голубоглазого Андриса фон Лауфенберга – память о нем прошла с ними сквозь годы, сквозь испытания и разлуку.
После рождения сына Хелене Райч еще служила в авиации, но потом ушла в отставку – ее уговорили писать мемуары. Она написала и посвятила их Магде Геббельс, для нее она нашла много теплых слов.
Эрих Хартман не забыл своего друга Щеколдина. Через Фонд мира он добился для Степана стажировки в Лувре, в Париже. Они снова встретились, теперь уже во Франции, и виделись потом часто. Мечта Степана, казавшаяся несбыточной в Вятлаге, осуществилась. В Париже русского профессора представили Черчиллю, и он разговаривал с ним, об Алупке. Эрих радовался за Степана. «Надо верить и жить!» – они повторяли эту фразу, как заклинание, как пароль очень трудных лет, выпавших на их долю.
А в середине 1960-х годов случилась совершенно неожиданная история. На аэродром в Вестфалии приехала советская военная делегация. Эрих обратил внимание на переводчицу, сопровождавшую важного русского генерала – не сразу, но он узнал в ней… горничную из общежития в Колодищи, Веру Соболеву, влюбленную в Лауфенберга. Вера изменилась. Из застенчивой, неуклюжей девочки она превратилась в красивую, элегантную женщину. Особенно поразил Эриха проникновенный взгляд ее больших серых глаз, словно хранивший в глубине печаль. Вера тоже узнала Эриха. Улучив минуту, подошла.
– Мне очень хотелось посмотреть на места, где он жил, – сказала она, – конечно, все было непросто для меня. Мне пришлось постараться, чтобы с фабрики мне дали направление в институт иностранных языков, а потом оттуда по комсомольской линии перевели в Москву. Пришлось отличиться на общественной работе, в горкоме, в обкоме, зна-ете ли, вам этого не понять, – она махнула рукой. – Ведь я одна, у меня нет семьи, – Эрих понял, что Вера так и не вышла замуж. – Подключить все связи, чтобы меня направили в эту поездку, в капстрану, да еще на военный аэродром. Слава богу, язык у меня отменный. Я все делала ради него, – она не решалась вслух назвать имя Андриса. – Мне хотелось еще хотя бы раз встретиться здесь с ним, хотя бы заочно, – призналась Вера взволнованно. – Больше мне ничего не нужно, а там будь что будет…
– Но Вера, это же опасно для вас, – предупредил ее Эрих. – Да, здесь в Вестфалии недалеко находится дом Андриса, их родовое поместье. Там живет его сестра. Я с радостью отвезу вас. Но как вы сможете поехать туда, за вами же следят?
– Это все равно, – решительно ответила она.
– Вера Петровна, – позвал переводчицу генерал, – где вы застряли? – Опустив голову, Вера поспешила к делегации.
Эрих был уверен, что ее не отпустят, но наутро, как и договаривались, Вера ждала его у гостиницы. Молча она села в машину. Она ничего не рассказала, как отпросилась у своих, наверное, она просто сбежала. Анна фон Лауфенберг, сестра Андриса, встретила их на пороге дома. Вера смутилась и не могла произнести ни слова. Проводив Веру в комнаты, в которых прежде жил Андрис, Эрих и Анна оставили ее одну. Сколько раз она воображала себе, даже видела во сне, как придет сюда. И вот она трогает вещи, к которым прикасались его руки. На рояле перед окном, большой портрет в рамке – он остался на нем таким же, как был почти двадцать лет назад. Она так долго представляла себе, что скажет ему при встрече, а вот не нашлась ничего, кроме привычного: «Здравствуйте, господин майор».
– Я буду помнить его всю жизнь, – произнесла Вера, когда Эрих отвозил ее обратно на аэродром, – я не смогу полюбить никого другого.
– Вы мне напишете? – спросил Эрих.
– Я не уверена, что мне позволят это, – ответила она грустно. Вера прекрасно представляла себе, что ее ожидает на родине. Она не написала, и Эрих больше не имел от нее никаких известий. Через друзей в разведке он попросил найти своего старого товарища Щеколдина, чтобы ему передали его просьбу – узнать о Вере, что с ней, жива ли? Щеколдин понимал, что, вступая в контакт с немецкими разведчиками, смертельно рискует. Но все же сделал все, о чем его просили. Надо верить и жить, ради жизни Веры профессор совершил невозможное, сделав тяжелое для себя дело – снова связался с Лубянкой. Вскоре Эрих получил сообщение, что сразу после возвращения в Москву Веру арестовали. Ее обвинили в шпионаже. Долго допрашивали. От сильных побоев ее парализовало в тюрьме. Она лежала в тюремной больнице. Поняв, что проку от нее больше нет, чекисты бросили ее. Щеколдин разыскал Веру и увез ее в Крым. В очередной свой приезд в Париж он сообщил Эриху, что Вера поправляется, начала ходить. И вообще она, славная, добрая, симпатичная женщина…
В середине 1970-х годов выпускник летной академии лейтенант Андрис Хартман начал свою службу в эскадрилье «Рихтгофен». Спустя несколько лет, получив повышение в звании, он возглавил «Рихтгофен» и был первый раз награжден.
«Интересно, на кого он больше похож, – гадала тетушка Эльза, разглядывая присланную по торжественному случаю фотографию племянника, – такой энергичный, с явной иронией во взоре. Мне кажется, он все-таки в маму. Как вы думаете, Зизи? – она показала фотографию горничной.
– В маму? – Хелене только усмехнулась на ее предположение. – Ты, Эльза, не знаешь, каким командиром был во время войны Эрих Хартман. Ты слышала только о его достижениях, о сбитых самолетах. А вот о его проказах, – она взглянула на Эриха, – не хмурьтесь, не хмурьтесь, генерал, от его проказ головная боль была у меня да у генерала фон Грайма. Впрочем, что греха таить, и до рейхсмаршала кое-что доходило. Что же до моего сына, – она пожала плечами, – но ведь не зря же он Андрис. Его отец с Лауфенбергом были одного поля ягоды. Так что ничего удивительного, что он в очередной раз получил выговор или что там?
– Его наградили, Хелене, – рассмеялась Эльза, – его наградили высшим орденом. За храбрость и отвагу.
Авторизованный перевод с немецкого
Виктории Дьяковой.
Санкт-Петербург, июнь 2008 года
Назад: Часть 2. От Волги до Берлина
На главную: Предисловие